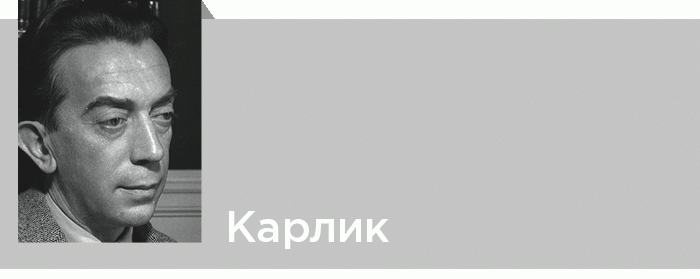Рассказы о мирной жизни

Г. Мунблит
Немногим больше года прошло с тех пор, как вышла книжка Леонида Волынского «Семь дней», повествующая о спасении сокровищ Дрезденской галереи, и вот перед нами сборник рассказов того же автора, до такой степени мирных, что трудно поверить, будто сочинил их человек, в писательской биографии которого военный опыт сыграл такую серьезную роль.
Но с другой стороны, можно ли ждать от писателей, побывавших на войне, что всю остальную жизнь они будут писать только о том, что видели и пережили на фронте?
Да и что, в сущности, представляет собой писательский опыт, и следует ли рассматривать виденное и пережитое литератором как сумму наблюдений, которым неминуемо предстоит в дальнейшем стать материалом для рассказов, повестей и романов? И если это так, то чем объяснить, что в книгах одних авторов биографический материал образует некую первооснову, а у других не играет никакой существенной роли?
Почему, например, в творчестве Лермонтова кавказские впечатления оказались такими могущественными, а Тургенев почти ничего не написал о Франции, в которой прожил немало лет? Почему одним писателям достаточно ненадолго съездить в деревню, чтобы на свет появились книги о жизни колхозников, а писатели другого склада могут писать, только о том, с чем сжились, что составляет содержание их собственного существования? И, наконец, можно ли оттенок осуждения, который читатель, несомненно, почувствовал в нашем упоминании о литераторах, довольствующихся мимолетным ознакомлением с материалом, отнести к автору «Демона», как известно, не так уж много времени прожившему на Кавказе?
Все эти вопросы не новы, и ответы на них давались не раз. Не раз говорилось о том, что жизненные наблюдения писателя неразрывно связаны с его мировоззрением и непосредственно зависят от отношения к миру, его окружающему. Что только жизненные факты, служащие целям, которые писатель перед собой поставил, откладываются в его сознании и превращаются в материал для книг, а те, что лежат в стороне от интересов и побуждений, заставивших писателя взяться за перо, так и остаются лежать в стороне от его творческих планов, а подчас и вовсе изглаживаются из памяти через очень короткий срок. Все это бесспорно и, кроме того, вполне убедительно объясняет и писательское равнодушие Тургенева к жизни французов и страстную заинтересованность Лермонтова жизнью кавказских горцев, столь родственной свободолюбивым и байроническим мечтам поэта.
Однако не нужно думать, что жизненный опыт писателей непременно проявляется в их книгах лишь самым непосредственным образом, в виде материала, па котором эти книги построены. Гораздо чаще виденное и пережитое сказывается в творчестве художника менее зримо и вместе с тем столь же определенно. Речь идет о том, если можно так выразиться, «химическом» усвоении жизненных впечатлений, которое в отличие от «механического» их накопления играет решающую роль в формировании творческого сознания авторов книг, картин и симфоний даже в тех случаях, когда самые эти впечатления на поверхности не видны.
И если в новой книжке Леонида Волынского нет военных рассказов, это не значит, что опыт писателя, непосредственным образом сказавшийся в «Семи днях» и в отдельных рассказах первого его сборника, совершенно отсутствует здесь. Он проявляется неизменно в отношении автора к самым «мирным» вещам, и эту особенность книжки нельзя не почувствовать. В ней есть рассказы о поездках писателя на целинные земли и о жизни людей, живущих и работающих там с первых дней освоения этого сурового и благодатного края, есть истории, повествующие о далеких довоенных временах, есть много других, самых разнообразных по материалу рассказов и в том числе, например, рассказ «Наедине с собой» — о треволнениях некоего ученого, связанных с тем, что его сын соблазнил и бросил девушку, ждущую от него ребенка. Но все эти вещи, вне зависимости от материала, на котором они построены, носят на себе печать некоего единства, все они — результат того особого жизненного пути, каким пришел их автор к писательству, к своему пониманию добра и зла, красоты и безобразия, правды и лжи.
И дело здесь не только в том, что в рассказе «Наедине с собой» боль и горечь, испытываемые стариком ученым, размышляющим о легкомыслии сына, становятся особенно нестерпимыми, когда он узнает, что отец брошенной девушки погиб на фронте; не только в том, что в рассказах о целине немало военных ассоциаций, а в рассказах о давних временах наряду с их литературной традиционностью присутствует овеществленный в словах и понятиях опыт человека, побывавшего на войне. Дело в том, что этот военный опыт автора стал основным элементом (именно элементом, а не слагаемым) его мировоззрения и выражается не только в мелочах, но и в особом отношении ко всем решительно явлениям, о которых он пишет.
Любопытна с этой точки зрения, например, та подчеркнутая интонация сдержанности, с какой повествует Волынский о трагическом, трогательном, жалком. Его героям, разумеется, не чуждо ничто человеческое, но в тех случаях, когда им случается испытать сильное чувство, их истинные переживания запрятаны так глубоко и проявляются так скупо, да к тому же еще в таких косвенных словах и поступках, что об истинном их значении можно только догадываться. Даже там, где герои Волынского по самой природе своей не приспособлены к стоицизму, они ведут себя мужественно и сдержанно в той мере, в какой это только может быть им свойственно, исходя из элементарного психологического правдоподобия. Ибо мужественность и сдержанность автор почитает неотъемлемыми свойствами людей, заслуживающих уважения, и придает эти черты характера всем своим героям, которых любит.
Вглядитесь, например, в образ героини рассказа «Лестница-чудесница» Аллы Чижиковой, поначалу ничем не примечательной девушки, самое имя которой подчеркивает ее незначительность.
Приехав на целинные земли, эта московская школьница, которую не приняли в институт и которая «сама толком не знала, чего ей хочется — быть инженером, учительницей, врачом или артисткой», только и сумела, что начать «возиться... с огуречной и помидорной рассадой, и вовсе не потому, что ей нравилось это дело, а лишь по той причине, что жила на свете темноглазая девушка по имени Вера», гораздо более инициативная и упрямая, чем Алла, решившая заложить огород в степи, где до того даже и слова такого не знали — овощи.
Рассказ написан о том, как внезапно в характере Аллы Чижиковой раскрылись черты, каких в ней и подозревать было нельзя и какие никогда бы в ней не раскрылись, если бы она не поехала искать счастья в казахские степи, а осталась дежурной у эскалатора в московском метро. И произошло это не в борьбе со стихиями, как это чаще всего бывает с героями рассказов о целине, а в ночном разговоре с Верой Ситниковой, да еще к тому же не об огуречной рассаде, а о предполагаемой свадьбе Веры с трактористом Алексеем, в которого Алла Чижикова к этому времени уже была без памяти влюблена.
[…]
Из дальнейшего повествования о судьбе Аллы Чижиковой выясняется, что самоотверженное ее отношение к подруге и размышления о смысле жизни подготовили се к настоящему подвигу, потребовавшему от нее подлинного мужества и уверенности в себе. Но и здесь, когда она нашла в себе силы встать на защиту неповинного в аварии тракториста, она делает это с той же целомудренной сдержанностью, с какой несколько дней назад вела беседу о муравьях.
Существует мнение, что нет лучшего способа оценить человека, чем прикинув — взял бы ты его в товарищи, идя в разведку, или не взял. Прочтите внимательно рассказы Волынского и вы увидите, что он дарит свое расположение действующим в его рассказах героям, исходя именно из этого, к слову сказать, весьма справедливого принципа. Если же к этому добавить уже упоминавшуюся склонность нашего автора наделять своих персонажей стремлением скрыть за внешней суровостью доброту и самоотверженность, станет вполне очевидным, что в его рассказах самым непосредственным образом сказалось влияние фронтового кодекса поведения, предписывающего человеку во всех обстоятельствах мужественную сдержанность и осуждающего всякое проявление несдержанности и чувствительности. И если впечатления послевоенного времени властно вторглись в сознание писателя, отодвинув воспоминания о пережитом на фронте, это никоим образом не означает, что понятое и усвоенное в военные годы перестало окрашивать его отношение к «мирной» жизни, о которой он пишет теперь.
Причем нелюбовь к аффектации, к резким движениям и картинным позам, страстная приверженность к подлинному, даже если оно ничем не примечательно, в противовес показному, даже если его примечательность бьет в глаза, сказываются в этой книжке не только в отношении автора к своим персонажам, но и в самой манере, в какой он ведет рассказ.
На первый взгляд эта манера отличается лишь одним — простотой. Но при всей ее внешней безыскусности, при всей «обыкновенности» художественных средств, какими пользуется автор, есть в лучших рассказах книжки нечто такое, что заставляет задуматься: вправду ли так бесхитростны представления Волынского о природе современного реалистического рассказа и о способах, какими следует в таких рассказах изображать нашу действительность?
Чем в самом деле можно объяснить то немаловажное обстоятельство, что финалы большинства рассказанных в этом сборнике историй оставляют впечатление сюжетной незавершенности, причем незавершенность эта выглядит отнюдь не просто формальным приемом, а чем-то гораздо более существенным для понимания творческого метода автора.
Судя по всему, Волынский склонен считать, что сюжетная законченность, композиционная округлость и симметричность, какую часто приобретают в коротком рассказе жизненные события, неправомерно обособляет их от того, что предшествовало им и следовало за ними в подлинной жизни. Условно говоря, жизнь ведь началась не с того момента, как герой вышел на улицу в то утро, когда с ним произошли события, описанные в рассказе. Мало того, финал этих событий тоже не мог быть изолирован от дальнейшей судьбы героя, в которую это утро вошло как одно из звеньев единой цепи, как условно взятый отрезок прямой, как одна из капель жизненного потока.
И если это так, то обязательна ли для писателя, стремящегося к реалистической достоверности, склонность придавать своему повествованию сюжетную завершенность, какой почти никогда не имеют подлинные жизненные коллизии? Не возникает ли в литературе из-за всех этих искусно построенных концовок и композиционных завитков, имеющих целью сообщить повествованию законченность, та самая искусственная симметричность, какая естественна, если говорить о живописи, в условном орнаменте, с его правильным чередованием цветов и листьев, но нетерпима в рисунке, воспроизводящем живые, прихотливо разбросанные ветви живых растений.
И следует ли возражать против стремления некоторых авторов, повествуя о каком-либо дне из жизни своих героев, даже если с теми произошли в этот день самые удивительные, самые несвойственные обычному течению их жизни события, пытаться создать в финале рассказа впечатление уходящих в пространство человеческих судеб, впечатление вечера, не только венчающего знаменательный день, но и предшествующего ночи, утру, новому дню. Следует ли возражать против их склонности, рисуя, скажем, процесс духовного перерождения героя, заканчивать свой рассказ не эпизодом, завершающим процесс, а эпизодом, знаменующим его начало, или, изображая счастливый перелом в судьбе человека, не доводить дело до апофеоза, а кончать рассказ предположением о дальнейшей его судьбе, предоставляя читателю самому угадать один из ее вариантов, исходя из собственного житейского опыта, вместо того чтобы во всех случаях навязывать ему авторское решение, выдавая его за единственно возможное и непогрешимое.
«В жизни ведь так мало событий, совершающихся обособленно и увенчанных эффектными концовками, — утверждают эти писатели, — жизнь так подвижна, пестра и разнообразна, что заключать ее в рамки канонических литературных сюжетов следует с чрезвычайной осмотрительностью.
Надо полагать, что именно этими соображениями руководился Волынский, рисуя несколько месяцев из жизни Аллы Чижиковой и не завершая свой рассказ ничем, кроме неуловимого ощущения распрямляющегося человеческого характера.
[…]
Л-ра: Новый мир. – 1960. – № 6. – С. 252-256.
Критика