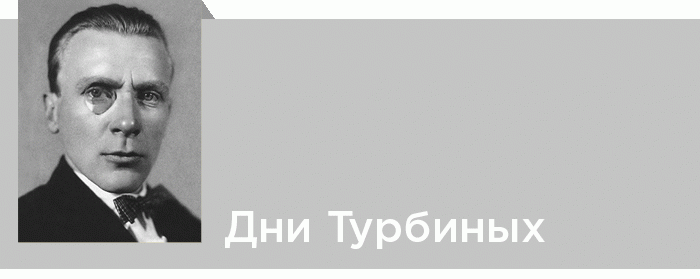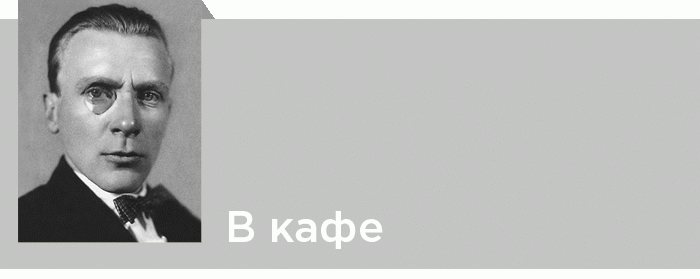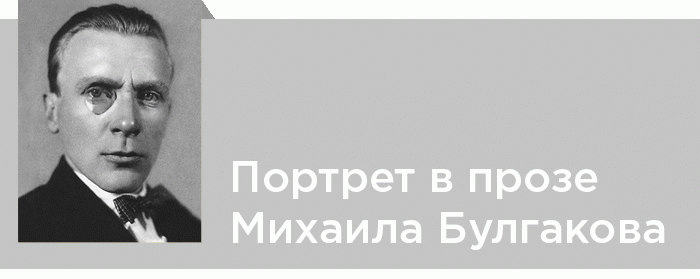М. А. Булгаков и русская философия

Южанинова Е.Р.
Оренбургский государственный университет
В статье исследуется генетическая связь философского мировоззрения М.А. Булгакова с философскими идеями ведущих представителей «серебряного века» русской культуры и философии, творчество которых проникнуто экзистенциалистской ориентацией.
Михаил Афанасьевич Булгаков (18911940), при всей его самобытности как писателя и мыслителя, во многом вышел из русской культуры конца XIX - начала ХХ века, той эпохи, которую часто характеризуют как «серебряный век» или «русский ренессанс». Это было время пробуждения в России самостоятельной философской мысли. Достаточно только одного перечисления имен всех тех, кто в полной мере определял этот взлет духа: братья Сергей и Евгений Трубецкие, Николай Лосский, Павел Флоренский, Владимир Эрн, Николай Бердяев, Лев Шестов, Семен Франк, Павел Струве, Павел Новгородцев, Дмитрий Мережковский и многие другие. У истоков этого духовного подъема стояли Ф.М. Достоевский и Владимир Соловьев. Это было время необычайного поиска, взаимного влияния литературы и философии. Приобретая социальную окраску, духовное обновление коснулось самих устоев государственности. Русская мысль не стояла на месте, она развивалась. Результатом явилось формирование самостоятельной и оригинальной русской философской школы, базирующейся на философии всеединства и близкой к исканиям экзистенциалистов. В рамках этой статьи невозможно в полной мере осветить все аспекты влияния творчества русских философов на мировоззрение и творчество М.А. Булгакова. Поэтому мы рассмотрим здесь лишь три имени: С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского и Л. Шестова.
Однофамилец писателя Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944) - философ, экономист, публицист, богослов и общественный деятель - был знаком с отцом писателя А.И. Булгаковым. Была даже семейная легенда о родстве семьи писателя с философом Булгаковым, ибо родом они были все из Орловской губернии. Сергей Булгаков прошел путь от увлечения марксистской политической экономией до глубоко верующего человека, принявшего священство. Свой путь он охарактеризовал заглавием собственной книги: «От марксизма к идеализму» (1903). По мысли Сергея Булгакова, высказанной в «Свете Невечернем», бытие каждой человеческой личности обретает смысл лишь в находящемся вовне Божественном Абсолюте. «Отдельный человеческий индивид есть не только самозамкнутый микрокосмос, но и часть целого, именно он входит в состав мистического человеческого организма. Существует мистическая органичность человечества, заложенная уже в Адаме первом. Каждая человеческая личность, имея для-себя-бытие, является своим органическим центром; но она же и не имеет самостоятельного бытия, свой центр находя вне себя, в целом» [1], - пишет философ. У Михаила Булгакова в «Мастере и Маргарите» таким Божественным Абсолютом становится Иешуа Га-Ноцри со своей этической проповедью Абсолютного Добра. Его максима «Злых людей нет на свете» приводит в изумление римского прокуратора, искушенного в жизни и сведущего в знаниях. Именно Иешуа становится аксиологическим центром романа, и вне его утрачивают смысл своей жизни и ожесточенный жизнью Понтий Пилат, и гениальный Мастер.
В «современных диалогах» «На пиру богов» (1918), построенных по образцу «Трех разговоров» (1900) В.С. Соловьева, Сергей Булгаков рассуждал о судьбах России в условиях, когда предсказанное в соловьевской «краткой повести об Антихристе» пришествие Антихриста в лице большевиков уже произошло. Владимир Соловьев лишь предрекал беды, а тут - «...при похоронах России присутствуем». Михаил Булгаков в то время мог бы подписаться под этими словами. Удивительно современно для русских людей, переживших распад СССР, сегодня звучат следующие слова Сергея Булгакова: «... Все инородцы имеют национальное самосознание. Они самоопределяются, добывают себе автономии, нередко выдумывают себя во имя самостийности, только за себя всегда крепко стоят. А у нас нет ничего: ни родины, ни патриотизма, ни чувства самосохранения даже. Выходит, что Россия сразу куда- то ушла, скрылась в четвертое измерение и остались одни провинциальные народности, а русский народ представляет лишь питательную массу для разных паразитов» [2; 590].
С.Н. Булгаков писал о какой-то невидимой руке, «которой нужно связать Россию», об ощущении, что «осуществляется какой-то мистический заговор, бдит своего рода черное провидение». Философ использует таинственный образ Леонида Андреева «Некто в сером» из пьесы «Жизнь человека» (1907): «Некто в сером», кто похитрее Вильгельма, теперь воюет с Россией и ищет ее связать и парализовать»[2; 603]. У М.А. Булгакова в «Белой гвардии» «некто в сером» материализуется в военного вождя сторонников независимой Украины С.В. Петлюру, отмеченного «числом зверя» - 666, и в военного вождя большевиков Лейбу Бронштейна-Троцкого, уподобленного Аполлиону, «ангелу бездны», ангелу-губителю Апокалипсиса.
Наверное, Михаил Булгаков читал «современные диалоги» Сергея Булгакова. Интересно, что в своих «Похождениях Чичикова» он поместил героя Гоголя в нэпмановскую Россию. У С.Н. Булгакова есть слова о том, что «революционные Чичиковы хлопочут, чтобы сбывать мертвые души, да под шумок и Елизавету Воробья за мужчину спустить» [2; 617]. А в «Белой гвардии» Мышлаевский, осмысливая творящийся в России ужас, иронически говорит о «мужичках-богоносцах достоевских». Это заставляет вспомнить не только роман «Бесы», но и следующие места из труда Сергея Булгакова «На пиру богов»: «Недавно еще мечтательно поклонялись народу-богоносцу, освободителю. А когда народ перестал бояться барина, да тряхнул вовсю, вспомнил свои пугачевские были - ведь память народная не так коротка, как барская, - тут и началось разочарование. Нам до сих пор еще приходится продираться сквозь туман, напущенный Достоевским, это он богоносца-то сочинил. А теперь вдруг оказывается, что для этого народа ничего нет святого, кроме брюха. Да он и прав по-своему, голод - не тетка. Ведь и мы, когда нас на четверки хлеба посадили, стали куда менее возвышенны» [2; 582].
Мышлаевский у Михаила Булгакова ругает «мужичков-богоносцев», воюющих на стороне Петлюры, но при грозном окрике тут же вновь готовых броситься в ноги «вашему благородию». И Сергей Булгаков приходит к печальным выводам относительно народа и его нравственности: «... Пусть бы народ наш оказался теперь богоборцем, мятежником против святынь, это было бы лишь отрицательным самосвидетельством его религиозного духа. Но ведь чаще-то всего он себя ведет просто, как хам и скот, которому вовсе нет дела до веры. Как будто и бесов-то в нем никаких нет, нечего с ним делать им. От бесноватости можно исцелиться, но не от скотства» [2; 576].
Мыслительный вектор этих двух русских интеллектуалов-однофамильцев во многом совпадал. Новую Россию они категорически не принимали. С.Н. Булгаков выразился в своем труде «На пиру богов», что «товарищи» кажутся мне иногда существами, вовсе лишенными духа и обладающими только низшими душевными способностями, особой разновидностью дарвиновских обезьян - homo socialisticus». Эти резкие слова, разумеется, перекликаются с магистральной идеей великой повести «Собачье сердце». Нож хирурга Преображенского создал гибрид пролетария Клима Чугункина и «милейшего пса» Шарика. В итоге возник Полиграф Полиграфович Шариков, прекрасно вписывающийся в сумбурную реальность советской России как собирательный образ «нового человека».
Интересно и многогранно влияние на мировоззрение М.А. Булгакова и фигуры «русского Леонардо» - Павла Александровича Флоренского (1882-1937), погибшего в большевистских застенках. Философское творчество этого талантливого человека было чрезвычайно близко и родственно художественной литературе. Михаил Булгаков живо интересовался творчеством Флоренского и его философским делом. В архиве писателя сохранилась книга Флоренского «Мнимости в геометрии» с многочисленными пометками. Влияние идей Флоренского ощутимо в романе «Мастер и Маргарита». Не исключено, что еще в ранней редакции романа Флоренский послужил одним из прототипов ученого-гуманитария Феси, профессора историко-филологического факультета и в определенной степени предшественника Мастера последующих редакций. Феся у Булгакова был почитателем Возрождения, тогда как Флоренский был глубоко враждебен ренессансной культуре. Но оба - и герой, и прототип - романтики, сильно обособленные от современной им жизни, которую принесла с собой новая власть.
Некоторые черты Флоренского, возможно, отразились и в позднейшем образе Мастера. Философ, как он сам писал в автореферате биографии для Энциклопедического словаря Гранат (1927), после 1917 года, «состоя сотрудником Музейного отдела... разрабатывал методику эстетического анализа и описания предметов древнего искусства, для чего привлек данные технологии и геометрии» [3] и был хранителем Ризницы Сергиевского музея. Булгаковский Мастер до того, как выиграл по лотерейному билету 100 тысяч рублей и принялся за написание своего романа, работал историком в музее.
Флоренский определял свое мировоззрение «соответствующим по складу стилю XIV-XV вв. русского средневековья» [3], но подчеркивал, что «предвидит и желает другие построения, соответствующие более глубокому возврату к средневековью». Мастера в последнем полете Воланд уподобляет писателю-романтику и философу XVIII века. Вдохновение же главный герой последнего булгаковского романа черпает в еще более отдаленной эпохе Иешуа Га-Ноцри и Понтия Пилата.
Рассматривая архитектонику «Мастера и Маргариты», исследователи называют три основных мира романа: древний ершалаимский, вечный потусторонний и современный московский. Эти три мира можно поставить в контекст учения Флоренского о троичности как первооснове бытия, развиваемого в «Столпе и утверждении Истины». Философ говорил о числе «три» как имманентном Истине, как внутренне неотделимом от нее. Флоренский связывал троичность с Божественной Троицей и указывал, что ее невозможно вывести «логически, ибо Бог - выше логики». По мнению Флоренского, «число три являет себя всюду, как какая-то основная категория жизни и мышления».
Флоренский в «Столпе и утверждении Истины» провозглашал: «Личность, сотворенная Богом, - значит, святая и безусловно-ценная своею внутренней сердцевиной - личность имеет свободную творческую волю, раскрывающуюся как система действий, т. е. как эмпирический характер. Личность в этом смысле слова есть характер. Но тварь Божия - личность, и она должна быть спасена; злой же характер есть именно то, что мешает личности быть спасенной. Психологически это значит, что злая воля человека, выявляющая себя в похотях и в гордыне характера, отделяется от самого человека, получая самостоятельное, безсубстанциональное в бытии положение и, вместе с тем, являясь «для другого»... абсолютным ничто» [4].
Булгаковский Мастер свою свободную творческую волю реализует в выстраданном им романе о Понтии Пилате. И для спасения творца гениального произведения Воланд вынужден разделить личность и характер: сначала отравить Мастера и Маргариту с тем, чтобы, отделив их бессмертные, субстанциональные сущности, поместить эти сущности в последний приют. Да и члены свиты сатаны суть как бы материализовавшиеся злые воли людей, и неслучайно они провоцируют современных персонажей романа на выявление дурных черт характера, мешающих освобождению и спасению личности.
В автореферате для словаря Гранат Флоренский основным законом мира называл «второй принцип термодинамики - закон энтропии, взятый расширительно, как закон Хаоса во всех областях мироздания. Миру противостоит Логос - начало эктропии. Культура есть сознательная борьба с мировым уравниванием: культура состоит в изоляции, как задержке уравнительного процесса вселенной, и в повышении разности потенциалов во всех областях, как условии жизни, в противоположность равенству - смерти» [3; 114]. Как известно, энтропия - это процесс, ведущий к хаотизации и деградации, а эктропия - процесс, противоположный энтропии и направленный к упорядочению и усложнению строения чего-либо. По убеждению Флоренского, «ренессансовая культура Европы… закончила свое существование к началу XX века, и с первых же годов нового столетия можно наблюдать по всем линиям культуры первые ростки культуры иного типа» [3; 114]. Вдумаемся в мысль русского Леонардо: культура как антипод смерти. Трудно найти более выразительную и емкую формулировку.
Во время создания романа о Понтии Пилате Мастер в «закатном романе» сознательно изолируется от мира, где господствует примитивное уравнивание личностей. Булгаков творил уже после культурной катастрофы 1917 года в России, во многом сознававшейся Флоренским как конец европейской культуры нового времени, ведущей начало от эпохи Возрождения. Но Мастер принадлежит именно к этой, вымирающей, по мнению Флоренского, культуре, в традициях которой он творит историю Пилата и Иешуа, преодолевая тем самым обозначенный революцией разрыв культурной традиции.
Здесь Булгаков по своим взглядам противоположен Флоренскому. Философ полагал, что на смену ренессансной культуре придет тип культуры, ориентированный на православное Средневековье. Автор «Мастера и Маргариты» создал вариант евангельской легенды, абсолютно не типичный для православия - своего рода «Евангелие от Сатаны». Писатель заставил главного героя, Мастера, в последнем полете превратиться в западноевропейского романтика и философа XVIII века, а не в православного монаха XV века, столь близкого по типу мировосприятия Флоренского. Вместе с тем, Мастер своим романом как бы противостоит «мировому уравниванию». Он упорядочивает мир Логосом, выполняя ту же функцию, какую приписывал культуре и сам Флоренский.
Любопытно, что в экземпляре «Мнимостей в геометрии», сохранившемся в булгаковском архиве, подчеркнуты слова Флоренского, будто специальный принцип относительности утверждает, что «никаким физическим опытом убедиться в предполагаемом движении Земли невозможно. Иначе говоря, Эйнштейн объявляет систему Коперника чистой метафизикой, в самом порицательном смысле слова» [5; 35]. Заинтересовало писателя и положение Флоренского о том, что «Земля покоится в пространстве - таково прямое следствие опыта Майкельсона. Косвенное следствие - это надстройка, именно утверждение, что понятие о движении - прямолинейном и равномерном - лишено какого-либо уловимого смысла. А раз так, то из-за чего же было ломать перья и гореть энтузиазмом якобы постигнутого устройства вселенной?» [5; 48]. Впрочем, схожие мысли высказывали многие в первые десятилетия ХХ века. Достаточно вспомнить хотя бы еще одного мученика русской культуры - Даниила Андреева и его знаменитый труд «Роза мира».
Близкой Булгакову оказалась и следующая мысль философа-математика: «… в Птолемеевой системе мира, с ее хрустальным небом, «твердью небесною», все явления должны происходить так же, как и в системе Коперника, но с преимуществом здравого смысла и верности земле, земному, подлинно достоверному опыту, с соответствием философскому разуму и, наконец, с удовлетворением геометрии» [5; 48]. М. А. Булгаков выделил в работе Флоренского и то место, где определялся радиус «земного бытия» - примерно в 4 миллиарда километров - «область земных движений и земных явлений, тогда как на этом предельном расстоянии и за ним начинается мир качественно новый, область небесных движений и небесных явлений, - попросту Небо».
Булгаков особо отметил мысль философа о том, что «мир земного - достаточно уютен». Его заинтересовало, что, по Флоренскому, «граница мира приходится как раз там, где ее и признавали с глубочайшей древности», т. е. за орбитой Урана, считавшегося в то время последней планетой Солнечной системы, ибо к моменту публикации «Мнимостей в геометрии» планета Плутон еще не была открыта. При этом «на границе Земли и Неба длина всякого тела делается равной нулю, масса бесконечна, а время его, со стороны наблюдаемое - бесконечным. Иначе говоря, тело утрачивает свою протяженность, переходит в вечность и приобретает абсолютную устойчивость. Разве это не есть пересказ в физических терминах - признаков идей, по Платону - бестельных, непротяженных, неизменяемых, вечных сущностей? Разве это не аристотелевские чистые формы? Или, наконец, разве это не воинство небесное, - созерцаемое с Земли как звезды, но земным свойствам чуждое?» [5; 48].
Булгаков выделил и одно из наиболее принципиальных утверждений Флоренского, что «за границею предельных скоростей простирается царство целей. При этом длина и масса тел делаются мнимыми» [5; 52]. Именно границу предельных скоростей автор «Мнимостей в геометрии» считал пределом земного бытия. Можно сказать, что Флоренский дал геометрическое истолкование перехода из времени в вечность - перехода, занимавшего И. Канта в трактате «Конец всего сущего» (1794). Именно это истолкование обратило на себя внимание Булгакова в «Мнимостях в геометрии». Финал «Мастера и Маргариты» можно понимать как демонстрацию равноправия двух систем устройства Вселенной: геоцентрической древнегреческого астронома Клавдия Птолемея (около 90 - около 160) и гелиоцентрической польского астронома Николая Коперника (1473-1543).
В сцене последнего полета главные герои романа вместе с Воландом и его свитой покидают «туманы земли, ее болотца и реки». Мастер и Маргарита отдаются «с легким сердцем в руки смерти», ища успокоения. Маргарита видит, «как меняется облик всех летящих к своей цели» - ее возлюбленный превращается в философа XVIII века, подобного Канту, Бегемот - в мальчика-пажа, Коровьев-Фагот - в мрачного фиолетового рыцаря, Азазелло - в демона пустыни, а Воланд «летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что, возможно, что это лунные цепочки и самый конь - только глыба мрака, и грива этого коня - туча, а шпоры всадника - белые пятна звезд» [6; 5; 525]. На пути в царство целей Сатана у Булгакова превращается в гигантского всадника, размерами сопоставимого со всей Вселенной. И та местность, где летящие видят сидящего в кресле наказанного бессмертием Понтия Пилата, уже не является земной по своей сути, ибо перед этим «печальные леса утонули в земном мраке и увлекли за собою и тусклые лезвия рек». Воланд со спутниками скрывается в одном из горных провалов, «в которые не проникал свет луны».
Исследователи отмечают, что Флоренский фактически предсказал открытие «черных дыр» - звезд, в результате гравитационного коллапса превратившихся в космические тела, где радиус стремится к нулю, а плотность - к бесконечности, откуда невозможно никакое излучение и куда силой сверхмощного притяжения безвозвратно затягивается материя. Черный провал, где исчезает дьявол со своей свитой, может рассматриваться как аналог такой «черной дыры». Разумеется, во времена Флоренского и Булгакова самого этого термина еще и в помине не было. Хотя сам последний приют Мастера и Маргариты уютен, как мир земного, но он явно принадлежит вечности. Приют этот находится на границе Неба и Земли, в той плоскости, где соприкасаются действительное и мнимое пространство.
В своем философском творчестве Флоренский не мог преодолеть многих ограничений, накладываемых на философию самими особенностями мышления, такими как троичность. Оказывало на него влияние и фундаментальное стремление рассматривать все явления как имеющие начало и конец. А Булгаков в «Мастере и Маргарите» сумел отразить идею не только бесконечности, но и безначальности. В бесконечное пространство уходят Иешуа, Мастер, Маргарита, Воланд и подвластные ему демоны. В то же время два таких важнейших героя, как Мастер и Га-Ноцри, да и сам Воланд, входят в роман фактически без биографии. Этим они существенно отличаются от Понтия Пилата, чье жизнеописание, пусть в зашифрованном виде, в романе присутствует. У читателей остается впечатление, что не помнящий своих родителей бродяга из Галилеи и прокуратор Иудеи существовали и будут существовать всегда. В этом отношении они как бы уподоблены Богу, чье бытие представляется вечным.
Как и бытие Божие, логично было бы представить Вселенную не только бесконечной, но и безначальной, что, тем не менее, восстает против коренных особенностей человеческого мышления и не находит поддержки в системах философии, признающих первичным сознание. Несмотря на это, безначально-бесконечная интерпретация мирового пространства присутствует в финале «закатного» булгаковского романа.
На творчество Михаила Булгакова ощутимо влияние и Льва Шестова (Иегуда Лейб Шварцман, 1866-1938). Исследователи отмечают, что в творчестве Шестова, сфокусированном на проблеме трагизма человеческого существования, обусловленного неизбежностью смерти, страданиями, произволом случая, предвосхищены и развиты основные идеи экзистенциализма. В своем творчестве Шестов продолжал традиции русской софиологии и пытался отвергнуть этический рационализм европейской философской традиции, заменить ее мистической этикой Божественного Откровения, утвердить примат судьбы над разумом. Шестов очень убедительно и логично доказывает ограниченность человеческого разума, неспособного объяснить мир чувств. Сам Михаил Булгаков, в отличие от Шестова, чистым мистиком не был. Но, судя по тому, какая судьба постигла в «Мастере и Маргарите» «голого» рационалиста Михаила Александровича Берлиоза, ему была близка сама мысль Шестова об ограниченности возможностей человеческого познания и предвидения.
Наибольшие параллели в творчестве М.А. Булгакова с литературным и философским творчеством Шестова обнаруживаются в произведении «Власть ключей» (Potestas Clavium), вышедшем полностью в Берлине в 1923 году. Но еще в 1917 году фрагмент этой работы был опубликован в ежегоднике «Мысль и слово». Свою книгу Шестов строит на противопоставлении судьбы и разума. Он стремится доказать невозможность охвата живого многообразия жизни одним только рациональным мышлением. Основную часть своего труда он начинает с высказывания древнегреческого историка Геродота о том, что «и Богу невозможно избежать предопределения судьбы», подчеркивая различия фигурирующей здесь «мойре» - «судьбы» и «логоса» - «разума», тогда как в позднейшей философской традиции, по мнению Шестова, «мойре» постепенно стала превращаться в «логос».
В редакции «Мастера и Маргариты», создававшейся в 1929-1930 гг., именно этой фразой Воланд провожал Берлиоза, которому через несколько мгновений суждено было погибнуть под колесами трамвая. «Князь тьмы» предупреждал самоуверенного литератора: «Даже богам не возможно милого им человека избавить!..» (ясно подразумевалось - от судьбы, от смерти). Упоминал Воланд и то, что «дочь ночи Мойра (древнегреческая богиня судьбы) допряла свою нить», намекая на скорую гибель председателя МАССОЛИТа. На примере Берлиоза Сатана демонстрировал бессилие разума перед судьбой, и в этом Булгаков следовал Шестову.
Шестов пишет о высшем, сверхъестественном свете Божественного Откровения. Свет этот доступен лишь для принявших это Откровение. Этот свет, ниспадающий с Божьих высот, нужно отличать от низшего, естественного света, света разума, выше которого не поднимутся те, кто все надежды возлагают только на рациональное познание действительности. В лучах этого низшего лунного света и являются во сне ставшие бессмертными Маргарита и Мастер скорбному разумом Ивану Поныреву.
Высшего, сверхъестественного света в финале удостоился только прощенный Понтий Пилат. Он встретился, наконец, с Иешуа на серебристой лунной дорожке. Для него главное было облегчить свою совесть. Прокуратор Иудеи хотел бы поверить, что Иешуа остался жив и «казни не было». Эту фразу постоянно повторяет Понтий Пилат, пытаясь сделать бывшее не бывшим. Здесь он полностью повторяет мысль Шестова, который во «Власти ключей» и других своих работах развивал тезис средневекового итальянского философа и богослова кардинала Петра Дамиани (1007-1072). По словам Шестова, Дамиани «утверждал, что для Бога возможно даже бывшее сделать никогда не бывшим», и, как полагал автор «Власти ключей», «вовсе не мешает вставить такую палку в колеса быстро мчащейся колеснице философии».
Как и Шестов, Понтий Пилат у Булгакова искренне верит в силу Бога сделать так, чтобы случившейся по вине прокуратора казни не было. За это он в конце концов награждается светом Божественного Откровения. Однако автор «Мастера и Маргариты» в финале романа специально подчеркивает, что Пилат и Иешуа - лишь персонажи романа. Воланд демонстрирует Мастеру придуманного им самим героя - Понтия Пилата - и предлагает кончить роман одной фразой. Мастер отпускает прокуратора навстречу Иешуа, с которым Пилат мечтает закончить беседу. Это может быть понято как пародия по отношению к философии Шестова. Некоторые исследователи, отмечающие это, делают скоропалительный вывод, что сам Булгаков «явно не верил во всемогущую силу Божественного Откровения».
С помощью идей Шестова можно понять и проповедь добра, с которой в романе выступает Иешуа. Во «Власти ключей» рассказывается о Мелите и Сократе. На ложный обвинительный приговор, которого добился первый, второй ответил только тем, что назвал своего противника «злым». Шестов отвергает здесь широко распространенную в философской традиции мысль о моральной победе Сократа: «В случае Сократа победила история, а не добро: добро только случайно восторжествовало. А Платону и его читателям кажется уже, что добро всегда по своей природе должно побеждать. Нет, «по природе» дано побеждать чему угодно - грубой силе, таланту, уму, знанию, только не добру...» [7]
Философские воззрения самого Булгакова на человеческую историю были пессимистичны. Не отличались особым оптимизмом и его воззрения на природу человека в целом. Ведь красивая проповедь добра, с которой пришел Иешуа, его теория о том, что «злых людей нет на свете», все попытки разбудить в людях их изначально добрую природу не приносят никакого успеха. Понтий Пилат, заинтересовавшийся воззрениями бродячего проповедника, все равно отправляет Га-Ноцри на мучительную смерть. Для того, чтобы исправить свою малодушную ошибку, он не находит ничего лучше, как совершить еще одно преступление и организовать убийство «доброго человека» - предателя Иуды. То есть, согласно проповеди Иешуа, свершить зло, а не добро. Убить Иуду собирается и Левий Матвей, также испытавший воздействие Иешуа. Писатель Михаил Булгаков, как и философ Лейба Шестов, идею «заражения добром» отрицает.
Один афоризм Шестова, сформулированный им в четвертой части книги «Афины и Иерусалим», в определенной мере мог повлиять на описание событий в «Мастере и Маргарите». Этот афоризм был опубликован в 1930 г. в Париже в первой книге сборника «Числа» и в №43 журнала «Современные записки». Он имеет порядковый номер XVII и название «Смысл истории». Шестов говорит: «От копеечной свечи Москва сгорела, а Распутин и Ленин - тоже копеечные свечи - сожгли всю Россию».
По сохранившимся фрагментам булгаковского романа редакции 1929 года нельзя сказать, предусматривался ли в финале пожар Дома Грибоедова (или «Шалаша Грибоедова», как именовался тогда писательский ресторан). Зато в одном из вариантов второй редакции, названном «Копыто инженера» и написанном в 1931 или в начале 1932 г., Иван Понырев-Бездомный называвшийся тогда то Покинутым, то Безродным, оказался после дебоша в ресторане в психиатрической лечебнице и, получив успокаивающий укол, «пророчески громко сказал:
- Ну, пусть погибнет красная столица, я в лето от Рождества Христова 1943-е все сделал, чтобы спасти ее! Но... но победил ты меня, сын гибели, и заточил меня, спасителя... - Он поднялся и вытянул руки, и глаза его стали мутны и неземной красоты.
- И увижу ее в огне пожаров, - продолжал Иван, - в дыму увижу безумных, бегущих по Бульварному кольцу...» [6; 4; 101-102]
Большие пожары в Москве в ранних редакциях «Мастера и Маргариты», возможно, иллюстрировали сравнение революций со вселенским пожаром, сделанное Шестовым. Г.Е. Распутин (Новых) (1872-1916), по мнению философа, во многом спровоцировал Февральскую революцию, а В.И. Ленин организовал Октябрьскую. У Булгакова Москву поджигают подручные Воланда, который одним из своих прототипов, по мнению некоторых ретивых филологов, имеет - ни больше ни меньше - самого В.И. Ленина.
Рассмотренные выше воззрения русских философов позволяют причислить их к мощному течению русской софиологии. Многие идеи этих философов были близки по своим базисным интуициям и Михаилу Булгакову. Близки эти идеи и по сей день тем, кто искренне озабочен судьбой нашей несчастной Родины, истерзанной разнообразными предательскими реформами. Поэтому мышление современных интеллектуалов должно актуализировать прошлое - в том числе и творения таких гениев русской литературы, как М.А. Булгаков, - на более убедительном уровне. Русская идея - это оригинальная составляющая общечеловеческой христианской идеи, изложенная в терминах современной диалектики. В ней сформулированы не средства, а именно цель. И цель - великая. А это уже много значит.
Список использованной литературы:
- Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1994. С. 249.
- Булгаков С.Н. Сочинения. М., 1993. Т. 2.
- Вопросы философии. 1988. №9. С. 113.
- Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи. М., 2003. С. 186.
- Флоренский П.А. Мнимости в геометрии. Расширение области двухмерных образов в геометрии. М., 2004.
- Булгаков М.А. Собрание сочинений в 8 т. СПб., 2002.
- Шестов Л. Собрание сочинений в 2 т. Том 1. М., 1993. С. 232.