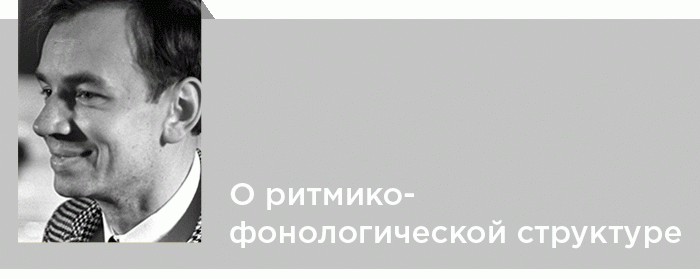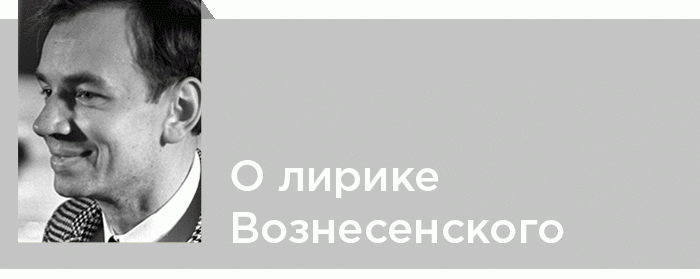Романтический код в поэме А. Вознесенского «Мастера»

К.Н. Анкудинов
Кафедра литературы и журналистики
Филологический факультет
Адыгейский государственный университет
ул. Первомайская, 208, Майкоп, Адыгея, Россия, 385000
В работе выявляется романтическое мировоззрение, отразившееся в короткой поэме известного русского советского поэта Андрея Вознесенского «Мастера» на основе романтического кода. Модернистская поэма Андрея Вознесенского сопоставляется с реалистической поэмой Дмитрия Кедрина «Зодчие» на тот же исторический сюжет. Вывод: поэма Вознесенского «Мастера» является авторским мифом, происходящим в прошлом и в настоящем.
Ключевые слова:романтизм, романтическое мировоззрение, Я, Не-Я, Андрей Вознесенский, поэма, романтический код, гностицизм, миф, романтический герой.
K.N. Ankudinov
Philologist faculty
Adugion Governmental University
Cathedra Literature and Journalistic
Pervomayskaia str., 208, Maykop, Adugeia, Russia, 385000
ROMANTICISM CODE IN THE POEM ANDRE VOZNESENSKI “MASTERS”
The article says about romanticism narrative in the short poem famous Russian Soviet poet Andre Voznesenski “Masters” by the base romanticism code. Modernistic poem “Masters” is compare in the realistic poem Russian Soviet poet Dmitry Kedrin “Architects” in the analogical historic fable. Result: poem Andre Voznesenski “Masters” is authors myth, go in the history and in the present times.
Key words:Romanticism, romantic narrative, “I”, “non-I”, Andre Voznesenski, poem, romanticism code, Gnosticism, myth, romantic hero.
На основании наработок предшественников — исследователей XIX—XX вв. представляется возможность выделить три основополагающие черты романтического мировоззрения (формирующего романтические тексты).
- Бытие четко разграничивается на два антагонистических начала — на Я и Не-Я («романтический дуализм»).
- Самостоятельность Я обеспечивается безусловным признанием свободы Я («романтическое свободополагание»).
- Центральным предметом рефлексии авторского сознания становится трагическое взаимодействие между Я и Не-Я («романтический конфликтоцентризм») [1].
Один из эталонных поэтов-шестидесятников Андрей Вознесенский дебютировал в 1960 г. появившимися почти одновременно двумя сборниками — «Мозаика» [3] и «Парабола» [4]. Вот что об этих сборниках сказал литературный критик Александр Михайлов в своей монографии «Андрей Вознесенский. Этюды»: «В народной поэзии Вознесенский находил отклик жадному упоению естеством жизни. Его пленяли распахнутость души, молодецкая удаль, грубоватый народный юмор — верный знак нравственного здоровья. Вознесенский охотно трансформировал близкие его натуре черты народной поэзии, но он не растворился в стихии фольклора» [6. С. 11].
Короткая поэма Андрея Вознесенского «Мастера», опубликованная в сборниках «Мозаика» [3. С. 59—71] и «Парабола» [4. С. 45—88], открывается двумя показательными «Посвящениями». Эти «Посвящения» исчерпывающе демонстрируют концепцию всего текста, давая портреты протагонистов романтического конфликта — начала Я и начала Не-Я.
«Первое посвящение» — портрет позитивного начала Я и одновременно авторское обращение ко всем носителям этого начала.
Вам,
Художники
Всех времен! [4. С. 67].
«Художники всех времен» («мастера») — носители исконно природного, «первородного» «таланта» («Вас молниею заживо испепелял талант!»), автоматически несущего в себе бунтарские, революционные возможности.
Ваш молот не колонны
И статуи тесал —
Сбивал со лбов короны
И троны сотрясал.
Художник первородный —
Всегда трибун.
В нем дух переворота
И вечно — бунт. [4. С. 67—68]
Конечно же, в этих строках речь ведется о романтическом бунте, о бунте Я против Не-Я, запрограммированном законом самого бытия («первородством» художника).
Романтический бунт Я против Не-Я во все времена приводил к трагической гибели носителей Я, бунтарей, художников:
Вас в стены муровали,
Сжигали на кострах.
Монахи муравьями
Плясали на костях. [4. С. 68]
Однако «первородное» начало Я неизбежно возрождалось после временной гибели в других «мастерах» и продолжало вести свою бунтарскую работу:
Искусство воскресало
Из казней и из пыток
И било, как кресало,
О камни Моабитов.
Кровавые мозоли.
Зола и пот.
И Музу, точно Зою,
Вели на эшафот.
И нет противоядья
Ее святым словам... [4. С. 68]
Мировоззренческая картина, демонстрируемая в «Первом посвящении» к поэме «Мастера» (и во всей поэме), обставлена атрибутами из парадигм эпохи Просвещения (вольное творчество против монархий и клерикализма) и Великой Отечественной войны («Моабиты», «Зоя»). Можно сказать, что в этой поэме канонический советский тематический код маскирует полуканонический «просвещенческий», однако и тот код не самый глубинный. Более всего исходная социально-метафизическая космогония, явленная в «Мастерах», напоминает гностический дуализм в его манихейском изводе (соравенство и извечная борьба двух начал — светлого ормуздического и темного ариманического). Далеко не случайно в тексте появилось сопоставление «Я-Искусства» с такими «огненными» образами, как «молния» и «искра» (к последнему образу напрямую отсылает «кресало»), ведь искры сакрального огня-света, заточенные во тьму материи, — ключевой концепт многочисленных гностических высказываний, перешедший в пространства иудаистских (хасидических), мусульманских (суфийских) и даже некоторых христианских (главным образом, протестантских) практик.
«Второе обращение» — портрет негативного начала Не-Я и авторское проклинающее обращение к этому началу:
Вам,
Варвары
Всех времен!
Цари, тираны,
В тиарах яйцевидных,
В пожарищах-сутанах
И с жерлами цилиндров! [4. С. 69]
Не-Я («варвары всех времен») — сильные мира сего. Поэт именует их «царями» и «тиранами» (отсылая к разным формам абсолютной светской власти), но при этом дает два ярких атрибута церковной власти («в тиарах яйцевидных» католических пап и «в пожарищах-сутанах»), а также одну отсылку к «власти капитала» («и с жерлами цилиндров»).
Несмотря на то, что у «варваров» «теперь кубисты по виллам и дворцам», все они — убийцы Искусства (и «людей Искусства», «художников»):
Империи и кассы
Страхуя от огня,
Вы видели в Пегасе
Троянского коня. [4. С. 70]
Вслед за «Посвящениями» начинается центральная («историческая») часть поэмы, состоящая из семи глав. В основу ее сюжета легла известная легенда-мифологема о строителях Храма Василия Блаженного Барме и Постнике, которых велел ослепить царь Иван Грозный. Она была подробно и довольно аутентично отражена в поэме Дмитрия Кедрина «Зодчие» (1938) [5. С. 131—135]; в этом смысле Кедрина можно назвать «предшественником Вознесенского». Однако «Зодчие» Кедрина — текст сложно выстроенный и вполне реалистический (хоть и несущий в себе определенные актуально-политические подтексты), а «Мастера» Вознесенского — броский и прямолинейный (лубочный) манифест «шестидесятнического романтизма». С этим связаны его существенные отступления от сюжета исходной мифологемы (у Вознесенского зодчих казнят, а не ослепляют, как по легенде) и даже от принципа историзма. Показательно то, что герой «Мастеров» — царь, в отличие от государя из «Зодчих» Кедрина не конкретно-исторический Иван Четвертый, а некий полусказочный «царь вообще». В соответствии с этим временные координаты хронотопа «Мастеров» размыты, поэма отсылает к усредненно-обобщенной «допетровской эпохе» в пределах от XV до XVII в. (хотя в отдельных местах поэмы бегло упоминаются «шестнадцатые века» и «опричники»). Но даже расширенные рамки хронотопа не удерживают автора от вопиющих анахронизмов: мастера Вознесенского поют «Дубинушку» (литературный текст этой песни был написан Василием Богдановым в 1986 г., ее фольклорный претекст в любом случае появился в послепетровские времена), а в описании храма, выстроенного мастерами, фигурируют «кокосы» и «маис», неизвестные в допетровской Руси. Андрей Вознесенский видит в легенде о мастерах прежде всего вневременной романтический архетип — и изображает его в первую очередь.
Начинается центральная часть поэмы с констатации присутствия Не-Я («Жил- был царь» [4. С. 71]). Показательно расхождение в мотивациях желания царя получить новый храм — у Кедрина (у него имеет место реалистическая мотивация) и у Вознесенского (у него налицо мифо-мотивация). Государь «Зодчих» Кедрина рассматривает храм как знак памяти в честь победы русского оружия под Казанью («В память оной победы да выстроят каменный храм [5. С. 131]).
Не то в «Мастерах» Вознесенского...
И ударил жезлом,
и велел государь,
Чтоб на площади главной
Из цветных терракот
Храм стоял семиглавый —
Семиглавый дракон!
Чтоб царя сторожил,
Чтоб народ страшил.
[4. С. 71—72]
Злое начало (Не-Я) хочет увековечить собственное зло в «злом сооружении» — фабульная завязка, типичная как для устойчивых фольклорных, так и для многочисленных авторско-романтических зачинов.
Также у Вознесенского (в сравнении с Кедриным) значительно мифологизирована (и романтизирована) характеристика зодчих. В поэме «Кедрина» они описаны следующим образом: «...двое безвестных владимирских зодчих, двое русских строителей, статных, босых, молодых» [5. С. 131]). В тексте Андрея Вознесенского мастеров — семеро (в соответствии с количеством куполов храма и глав центральной части поэмы, а также в соответствии с сакрально-архетипическим числом «семь»). Место появления семерки мастеров не определено в точной мере, но в любом случае мастера приходят в пространство текста извне (не из континентально-серединной Владимирщины, а из приморской или (и) северной периферии).
Наверно, с моря синего
Или откуда с севера.
Где Ладуга, луга,
Где радуга-дуга. [4. С. 73]
«Первородный» талант, которым наделены мастера Вознесенского, проявлен (и показан) их необыкновенной мощью и экспансивностью — во всем: во внешнем облике («очи — ой, отчаянны!»; «яростные, русские красные рубахи»), в голосе («площади дрожали»), в трудовой силе («ухари-детинушки, силушку сдержали бы!»), наконец, в масштабах вольного разгула после обильных трудов.
Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий лай,
Мы, как дьяволы (курсив мой — К.А.), работали, а сегодня —
пей, гуляй!
Гуляй!
Девкам юбки заголяй! [4. С. 81]
Двусмысленность инфернального характера, допущенная Вознесенским, возможно, является намеренной: в поэме «Мастера» есть антиклерикальные мотивы. Но антиклерикализм «Мастеров» — не что иное, как способ выражения (оформления) типичного шестидесятнического авангард-романтического мировоззрения.
Не памяти юродивой
Вы возводили храм,
А богу плодородия,
Его земным дарам. [4. С. 76]
Негативный Не-Я-код подчеркнуто ориентирован в прошлое, это — «память» («юродивая память»), тогда как позитивный Я-код — ориентирован в (квази) языческое щедрое настоящее («а богу плодородия, его земным дарам»), а также — как перспектива — в далекое советское («мичуринское») будущее ХХ века.
Сквозь кожуру мишурную
Глядело с завитков,
Что чудилось Мичурину
Шестнадцатых веков. [4. С. 76]
И причины трагического исхода сюжетной коллизии с зодчими мотивированы в поэмах Д. Кедрина и А. Вознесенского совершенно по-разному.
В «Зодчих» Кедрина царь велит ослепить зодчих по соображениям ревности хозяина-собственника.
И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова,
Чтобы в Суздальских землях
И в землях Рязанских
И прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова! [5. С. 134]
В «Мастерах» Вознесенского имеет место совокупность многих разнохарактерных причин расправы над мастерами, определяемая общей сверх-причиной — несоответствием установок Я-кода и Не-Я-кода в рамках романтического конфликта.
Этой теме посвящена пятая глава центральной части поэмы Вознесенского, в которой действуют негативные персонажи (носители Не-Я), отрицательно оценивающие результаты работы мастеров (при этом степень отемнения интерпретаций данной работы возрастает с появлением каждого из персонажей-экспертов).
Первый «эксперт» (боярин) ограничивается эстетическими претензиями к выстроенному храму:
Сплошные перламутры —
Сойдешь с ума.
Уж больно баламутны
Их сурик и сурьма. [4. С. 78]
Второй «эксперт» (купец) присовокупляет к ним устойчивые формулировки- ярлыки сугубо советской критики:
— Ишь, надругательство,
Хула и украшательство. [4. С. 78]
Такая травестийная игра с идеологической актуальностью напрямую экстраполировала исторический сюжет в современность, заставляя ассоциировать автора (и его соратников) со средневековыми мастерами, а их противников — с противниками мастеров (с дремучими боярами и купцами) — ведь Вознесенского (и прочую шестидесятническую литературную молодежь) часто упрекали в «надругательстве, хуле и украшательстве». Любопытно, что обвинения в «надругательстве» и «хуле» исходят из уст наиболее «западнического» «эксперта» («купец галантный, куль голландский»).
Наконец, третий «эксперт» (ярыжка) завершает обвинение прямыми политическими инвективами (государственнического, религиозного и квазипатриотического характера):
У них не кисти,
А кистени.
Семь городов, антихристы,
Задумали они.
Им наша жизнь — кабальная,
Им Русь — не мать... [4. С. 79]
И присовокупляет к ним донос на грех младшего мастера против сексуального запрета (т.е. на осквернение этических, религиозных и государственно-иерархических предписаний):
А младший у кабатчика
Все похвалялся, тать,
Как в ночь перед заутреней,
Охальник и бахвал,
Царевне целомудренной
Он груди целовал. [4. С. 79]
Степень правдивости этого доноса верифицировать невозможно, но из следующей главы поэмы мы узнаем, что мастера — большие охотники «девкам юбки заголять». Поэтому можно быть уверенным в том, что прогрессивный Я-код Вознесенского предполагает более высокую степень сексуальной свободы по сравнению с консервативным Не-Я-кодом (это видно из стихотворения поэта «Загорская лавра», в котором автор обращается к молодому монаху со словами: «Эх, парень, тебе б... девчат любить» [4. С. 11]).
Несовпадение двух кодов, констатированное всеми «экспертами» (но по-разному), приводит к итоговой характеристике результата работы мастеров — как субъективной:
И дьяки присные,
Как крысы по углам,
В ладони прыснули:
— Не храм, а срам!...
[4. С. 79]
так и объективной:
...А храм пылал вполнеба,
Как лозунг к мятежам,
Как пламя гнева —
Крамольный
храм!
[4. С. 79]
В соответствии с (квази)марксистской шестидесятнической парадигмой «крамольный храм» вызывает противоположные реакции у «представителей антагонистических классов»: «представители угнетающих классов» (дьякон, купчина и примкнувший к ним немец) страшатся «крамольного храма», а «представитель угнетенного класса» (мужик) — угрожающе-многозначительно «посвистывает», «поглядывает» и «топор рукой все поглаживает» [4. С. 80]. Новая эстетика чревата классовым взрывом; это — еще одна вставка «советского дискурсивного слоя» на фоне глубинного «просвещенческого дискурсивного слоя» и «романтико-гностической дискурсивной первоосновы».
Несовпадение по всем пунктам Не-Я-кодировки и Я-кодировки разрешается трагическим финалом — гибелью мастеров («и руки о рубахи отерли палачи»), а вслед за этим следует «Эпилог» — пожалуй, самая интересная и самая важная композиционная часть поэмы Вознесенского.
Вначале автор рисует катастрофическую картину последствий гибели мастеров. Они, эти последствия, ужасающи в своей беспросветности и распространяются не только на эстетическую, но также на этическую, на государственно-политическую, на цивилизационную и даже на природную сферы. Воистину, устранение из Бытия «мастерства», по Вознесенскому, приводит к разрушению и исчезновению Бытия.
Узорчатым башням в тумане не плыть.
Ни солнцу, ни пашням, ни соснам — не быть.
Ни белым, ни синим — не быть, не бывать.
И выйдет насильник губить-убивать,
И женщины будут в оврагах рожать,
И кони без всадников — мчаться и ржать.
Сквозь белый фундамент трава прорастет.
И мрак, словно мамонт, на землю сойдет [4. С. 84].
Фактически Андрей Вознесенский приравнивает присутствие Не-Я-начала (и отсутствие Я-начала) к черному заклинанию.
А затем данная кошмарная альтернатива отменяется мгновенным актом личной авторской идентификации с Я-началом и торжественной клятвой воссоздать (а также продолжить) достижения погубленных носителей Я-начала:
Врете,
врете —
Будут города!
...Над ширью вселенской
В лесах золотых
Я,
Вознесенский,
Воздвигну их!
Я — парень с Калужской,
Я явно не промах.
В фуфайке колючей,
С хрустящим дипломом.
Я той же артели,
Что семь молодцов.
Бушуйте в артериях,
Двадцать веков!
Я тысячерукий —
руками вашими,
Я тысячеокий —
очами вашими,
Я осуществлю в стекле и металле,
О чем вы мечтали,
о чем — не мечтали.
[4. С. 85—86]
Завершается поэма тем, что ее лирический герой («Я, Вознесенский») отправляется практически осуществлять клятву, и его благословляют на это дело незавершенные постройки «мастеров»:
Имеют те же
тезисы
Мои мечты...
И завтра ночью тряскою,
В 0.45,
Я еду в Братскую,
Чтоб их осуществлять!
И вслед мне из ночи
Окон из бойниц
Уставились очи
Безглазых глазниц.
[4. С. 87—88]
Итак, поэма Андрея Вознесенского «Мастера» представляет собой миф гностико-дуалистического характера. В мироздании противоборствуют два соравно-правных начала — властвующее злое начало (Не-Я) и противоборствующее ему доброе и светлое начало «таланта» и «искусства» (Я). Первое начало выражено во «властителях» (в царе, боярах, купцах и ярыжках), а второе начало — в зодчих- мастерах (в носителях «таланта»). Зло побеждает, убивая мастеров, но эта победа временна. В следующем очередном историческом эоне искра «таланта» вспыхивает в новых «мастерах», и битва между (сейчас исконным) злом и (первородным) добром начинается опять. В прошлом все столкновения такого рода всегда заканчивались победой зла (Не-Я), но в будущем триумф добра (Я) неизбежен.
Поэма «Мастера» — миф вдвойне. Она не только описывает и показывает развернутый миф (как любая мифология), она, помимо этого, еще и является мифом. Очередная схватка между Я и Не-Я происходит здесь и сейчас, на глазах у читателя. Лирический герой поэмы («Я, Вознесенский») совершает клятву причастности к началу Я (к «артели мастеров») и тем самым, надо полагать, навлекает на себя (на себя как на героя и на себя Андрея Вознесенского непосредственно) — атаки реальных злых сил (темного воинства Не-Я), т.е. конкретные обвинения в «надругательстве, хуле и украшательстве». Автор текста сознательно включает самого себя, собственную личность в сюжет разворачивающегося гностического мифа.
В метажанровом отношении авангард-романтический текст Андрея Вознесенского «Мастера» может быть определен как «поэма-ритуал» («поэма-обряд»).
Начиная со следующего поэтического сборника «Антимиры» [2] Андрей Вознесенский отходит от романтического мировозрения — хотя отдельные проявления данного мировоззрения можно встретить в некоторых стихотворениях из «Антимиров» (это такие стихотворения, как «Монолог Мэрлин Монро» [2. С. 33—36], «Стриптиз» [2. С. 72—73], «Прощание с Политехническим» [2. С. 85—88], «Охота на зайца» [2. С. 153—156], «Баллада точки» [2. С. 174—175]). Но в дальнейшем творчестве Андрей Вознесенский пойдет по пути холодноватого панметафоризма. Этот путь далек от романтического мировоззрения.
Литература
- Анкудинов К.Н. К вопросу о содержании методологического концепта «романтизм после романтизма» // Вестник Адыгейского государственного университета. Выпуск 1 (144). — Майкоп: АГУ, 2013. — С. 18—23.
- Вознесенский А. Антимиры. — М.: Молодая гвардия, 1964.
- Вознесенский А. Мозаика. — Владимир: Владимирское книжное издательство, 1960.
- Вознесенский А. Парабола. — М.: Советский писатель, 1960.
- Кедрин Д. Избранные произведения. — М.: Художественная литература, 1978.
- Михайлов Ал. Андрей Вознесенский. Этюды. — М.: Художественная литература, 1970.
Literatura
- Ankudinov K.N. K voprosu o soderzhanii metodologicheskogo koncepta «romantizm posle ro- mantizma» // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Vypusk 1 (144). — Majkop. AGU. 2013. — S. 18—23.
- Voznesenskij A. Antimiry. — M.: Molodaja gvardija. 1964.
- Voznesenskij A. Mozaika. — Vladimir. Vladimirskoe knizhnoe izdatel'stvo. 1960.
- Voznesenskij A. Parabola. — M.: Sovetskij pisatel'. 1960.
- Kedrin D. Izbrannye proizvedenija. — M.: Hudozhestvennaja literatura. 1978.
- Mihajlov Al. Andrej Voznesenskij. Jetjudy. — M.: Hudozhestvennaja literatura. 1970.