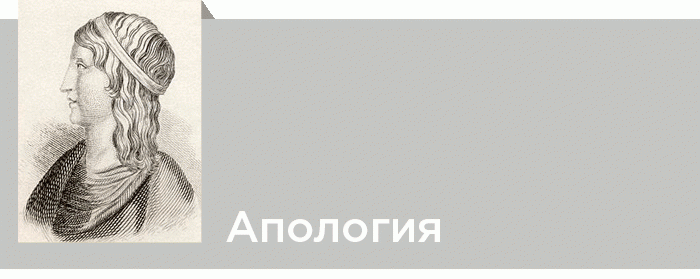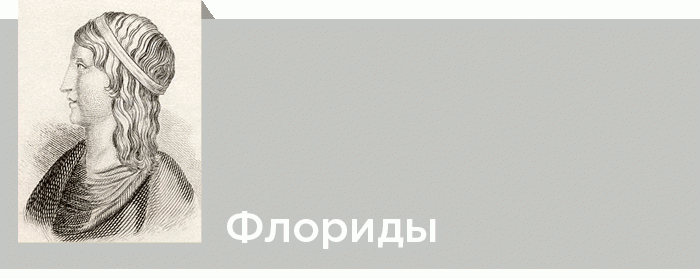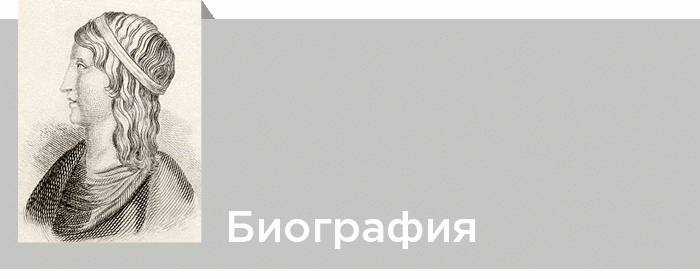Способы создания комического эффекта в романе Апулея «Метаморфозы»

Е. А. Захарова
Роман Апулея «Метаморфозы», названный Августином «Золотой осел», на протяжении многих веков вызывает интерес читателей. Помимо сюжета, полного превращений и приключений, помимо лексического богатства и стилистических украшений, интерес этот вызывается тем, что роман полон юмора.
Нельзя не признать, что именно наличие юмора отличает дошедшие до нас образцы этого жанра от греческого романа второй софистики. Вполне возможно, что Апулей был знаком с текстом «Сатирикона».
Уже сам сюжет, который Апулей берет в качестве основы своего романа, полон комизма. Ряд совпадений с греческим романом Псевдолукиана показывает, что некоторые комические элементы были в этом сюжете изначально. Например, и в том, и в другом романе жена хозяина дома в Гипате оказывается ведьмой, превращение в осла происходит с помощью служанки, в обоих романах есть непристойный эпизод о связи женщины с ослом. Однако Апулей значительно расширяет роман, сюжет его обрастает новыми эпизодами и целыми новеллами, и, таким образом, простор для юмористических сценок и деталей увеличивается.
Юмористическое настроение романа, рассказывающее о превращении человека в осла, только усиливается оттого, что повествование ведется от первого лица: благодаря этому, как пишет Т. Хэгг, создается впечатление «правдивого рассказа очевидца» («true eyewitness narrative»). Подобный прием, а также то обстоятельство, что Лукий называет своей родиной Мадавру, родной город Апулея, побуждают искать в романе элементы автобиографии.
М. Гиктер пишет, что такие исследователи, как Ч. Морелли, Э. Коккья, С. Ланди, видят параллели между биографией Апулея и приключениями Лукия; сам М. Гиктер более осторожно утверждает, что существуют некоторые соответствия, например, любопытство к магии, которое навлекло обвинение в колдовстве на Апулея и заставило Лукия пережить немало неприятностей — нередко комично описанных. Р. Мэй отмечает, что, в частности, описания ведьм навеяны не только литературной традицией, но и отчасти тем, что Апулей сам был сведущ в колдовских обрядах. Двойственное отношение к магии отличает роман Апулея от романа Псевдо-Лукиана, о котором Э. Шварц пишет, что это «злой, но гениальный памфлет на рассказы о волшебстве, написанный остроумным и просвещенным человеком». Наивная вера героя в чудесное (автор, как мы увидим, юмористически обыгрывает ее) не столько говорит об увлечении магией самого Апулея, сколько помогает создать ту особую атмосферу романа, которая состоит в смешении фантастического и реального.
По мнению некоторых исследователей, характер комизма романа определяется влиянием на стиль «Метаморфоз» «милетских рассказов», тем более что в римской литературе уже существовал перевод рассказов Аристида, выполненный историком сулланских войн Корнелием Сизенной. Влияние милетского рассказа и Менипповой сатиры отмечает Ф. Дорнзайф. Л. Каллеба также признает зависимость «Метаморфоз» от милетского рассказа и сатиры, кроме этого, он видит влияние комедии, прежде всего в лексическом богатстве романа, в стилистической окрашенности слов.
Э. Лефевр видит заимствование сюжетов милетского рассказа во вставных новеллах девятой книги «Метаморфоз», в частности в знаменитой истории о бочке (Met. IX, 5-7), которая в эпоху Возрождения была переработана Дж. Боккаччо, а также в новелле о любовнике, спрятанном под деревянным чаном (Met. IX. 22-23, 2628), и в новелле о Филезитере (Met. IX, 17-21). Основанием для этой гипотезы выступает упоминание милетского рассказа в первой
книге: «...at ego tibi sermone isto Milesio varias fabulas conseram» ‘...вот я сплету тебе на милетский манер разные басни’ (Met. I, 1, пер. М. Кузмина).
Итак, юмористические эпизоды, в которых обыгрывается превращение Лукия в осла, проходят через весь роман. Слово «asinus» в разных падежах, как показывает индекс слов Апулея, упоминается более 50 раз; упоминания эти проходят через все книги, начиная с третьей9. Как мы помним, Лукий, желая превратиться в птицу, превращается в осла; особенно комично описан тот момент, когда он видит, что вместо крыльев у него появились копыта и хвост, и печально думает: «... non avem me, sed asinum video» ‘... вижу себя не птицей, а ослом’ (Met. III, 25).
Комично и то, что герой не может воздержаться от оценки происходящего с ним именно с позиций человека. Так, своего коня, который, естественно, не признал в приведенном в хлев осле своего хозяина и не захотел делиться с ним кормом, Лукий тут же называет «equus perfidus» ‘вероломный конь’ (Met. III, 27). Забавно и наивное рассуждение Лукия о том, что животным должна быть от рождения присуща преданность хозяевам, и по этой причине его конь должен был бы предоставить хозяину «loca lautia» (Met. III, 26). Здесь обыгрывается типично римская деталь, тем более комичная, что Лукий находится в Фессалии. «Loca lautia praebere» означало «оказывать гостеприимство иностранным послам», что было обязанностью сената.
Далее Лукий попадает к разным людям — от разбойников до богатого Тиаза (Met. X), ему не раз приходится переносить побои, угрозу смерти или увечья, его постоянно попрекают прожорливостью и вполне человеческими пороками, которые в то же время в фольклоре разных народов приписывались и ослам — трусостью, ленью и склонностью к разврату. Лукий-осел в большинстве таких ситуаций пытается действовать так, как действовал бы человек. Например, когда его и других животных, навьюченных награбленными вещами, разбойники гнали через какую-то деревню, он попытался воззвать к имени императора, забыв, что не может говорить: «Nomen augustum Caesaris invocare temptavi, et “O” quidem tantum disertum ac validum clamitavi, reliquum autem Caesaris nomen enun- tiare non potui» ‘Я попытался призвать священное имя Цезаря, и “О” прокричал я достаточно ясно и громко, остальную же часть имени Цезаря произнести не смог’ (Met. III, 29).
Разбойники совсем не заботятся об осле, он страдает от голода. Только после их трапезы он может насытиться: «Interim rimatus angulum, quo panes reliquae ... congestae fuerant, fauces diutina fame saucias et araneantes valenter exerceo» ‘Я, шаря между тем в углу, куда был снесен оставшийся хлеб, дал волю глотке, измученной долгим голодом и начавшей покрываться паутиной’ (Met. IV, 22). Комическая деталь — глотка, в которой выросла паутина — заставляет вспомнить о «plenus sacculus aranearum» («карман, полный пауков», т. е. карман, в котором нет и давно не было денег) Катулла (Cat. Carm. 13, S), что только усиливает юмористический эффект.
Противоречие между человеческим разумом и ослиным видом обыгрывается и в эпизоде с пленной девушкой Харитой, причем замечания Лукия-осла можно назвать иногда довольно игривыми: разбойники захватили в плен «puellam mehercules et asino tali concu- piscendam» ‘девушку, клянусь Геркулесом, желанную и для такого осла, как я’ (Met. IV, 23).
По ходу развития сюжета Лукий-осел был продан жрецу Сирийской богини, который приводит его к своим развратным товарищам, говоря, что привел им красавца-раба. Лукий, очутившись в толпе этих людей, смеется над их разочарованием, причем шутка его получается тем интереснее, что он не только вспоминает миф об Ифигении, которую Артемида спасла при жертвоприношении, а на алтарь вместо нее положила лань, но и обыгрывает свою историю с превращением в осла; кинеды видят «non cervam pro virgine, sed asinum pro homine» ‘не лань вместо девушки, но осла вместо человека’ (Met. VIII, 26).
Нравы же служителей богини были таковы, что даже осел не мог выносить зрелища их разврата. В высшей степени смешно, что Лукий пытается встать на защиту морали и призывает на помощь граждан: «Nec diu tale facinus meis oculis tolerantibus “porro Quirites” proclamare gestivi, sed viduatum ceteris syllabis ac litteris processit “O” tantum sane clarum et validum et asino proprium, sed inopor- tuno plane tempore» ‘Поскольку мои глаза не могли выносить долго такого беззакония, я попытался воскликнуть: “Далее, квириты!”.
Вышло же произнести “О”, лишенное прочих слогов и звуков, весьма зычно, по-ослиному громко, но только совершенно не вовремя’ (Met. VIII, 29). Смешна позиция, которую занимает Лукий — позиция осла-моралиста (позже он и сам себя назовет «asinus philoso-phans» — ‘философствующий осел’ (Met. X, 33). Смешно и то, что Лукий величает квиритами жителей Греции, хотя квиритами могут называться только римские граждане. Смешение греческих и римских реалий — комический прием, восходящий к комедиям Плавта: для примера, можно вспомнить сцену из «Псевдола», где обыгрывается жертвоприношение Юпитеру, хотя место действия — Афины (Pseud. 330-340).
Лукий попадает к двум братьям — поварам в доме богача Тиаза. Спустя некоторое время новые хозяева Лукия замечают, что у них пропадают припасы, и начинают обвинять друг друга в краже, но однажды замечают, что все это проделки их прожорливого осла. Они зовут других слуг, раздается громкий смех, приходит хозяин и тоже, изумляясь, смеется. Желая продолжить пир, хозяин собственноручно ведет Лукия на пир в свои покои, где перед нашим героем ставят разнообразные и изысканные человеческие кушанья, а он, удивляя всех, отдает им должное. Общее веселье становится наибольшим, когда у сотрапезников возникает мысль дать ослу неразбавленного вина, а тот невозмутимо справляется и с этой задачей. Интересно, что хозяин с иронией называет Лукия сначала «contubernalis» (‘товарищ’), а потом и «parasitus» (‘нахлебник’) (Met. X, 16). Ирония относится, может быть, не только к Лукию, но и к людям, сидящим за его столом: судя по таким словам, как деминутив «scurrula» (‘весельчак’), фамильярное обращение «furcifer» (‘мошенник’) (Met. X, 16), за столом его находятся так или иначе зависимые от него люди, параситы или отпущенники. Здесь напрашивается параллель с «Пиром Тримальхиона» Петрония, где пирующие вольноотпущенники готовы сказать и сделать любую нелепость. Различие заключается, безусловно, в размахе пира: если, по крайней мере, в дошедших до нас фрагментах «Сатирикона» пир Тримальхиона занимает центральное место, то пир богача Тиаза (который, кстати, происходит из знатного рода — еще одно различие) — лишь эпизод в приключениях Лукия в образе осла.
Комизм эпизода — осел в качестве сотрапезника на пиру — заключается не только в перевернутой ситуации, напоминающей о празднике Сатурналий, но и в том, что сам Лукий немало забавляется удивлением людей и старается подыгрывать им: «Nec ulla tamen ego ratione conterritus, otiose ac satis genialiter contorta in modum linguae postrema labia grandissimum illum calicem uno hausto perduxi» ‘Я же, нисколько не испугавшись, спокойно и даже довольно весело подобрал нижнюю губу, сложив ее наподобие языка, и одним духом осушил огромную чашу’ (Met. X, 16, пер. М. Кузмина).
Наконец, комизм — довольно грубый — достигает апогея, когда в осла влюбляется одна знатная жещина. Смешно и то, что матрона называет осла «palumbulus» ‘голубок’ и «passer» ‘воробышек’ (Met. X, 22), так что Лукий-осел сравнивается с птицей (а ведь именно желание превратиться в птицу заставило Лукия натереться волшебной мазью, из-за чего он приобрел ослиный облик!). Слово «passer» может быть пародийной аллюзией на стихи Катулла (Cat. Carm. 2; 3) или, более отдаленно, на стихи Овидия (Amor. II, 6).
О любви матроны к ослу узнает Тиаз и решает сделать из сцены сочетания осла и женщины публичное представление, и тут Лу- кий с долей иронии сообщает, что достоинство матроны ей препятствовало принимать участие в таком зрелище, а другой женщины нельзя было найти ни за какие деньги: «neque prorsus ulla alia inveniri potuerat grandi praemio» (Met. X, 23). Для того чтобы зрелище все-таки состоялось, нашли преступницу, приговоренную к растерзанию дикими зверями. Все это не могло радовать Лукия, и он печально говорит о себе, что он «обречен публично сочетаться законным браком с такой женщиной» — «talis mulieris publicitus matrimonium confarreatus» (Met. X, 29, пер. М. Кузмина). Ф. Норден замечает, что использование термина «confarreatus», поскольку он употреблялся для обозначения брака людей благородного происхождения, призвано усилить комическое впечатление.
Помимо описания приключений, которые Лукию довелось пережить в образе осла, важным средством создания юмористического эффекта стало обыгрывание мифов.
Любуясь хорошенькой служанкой Фотидой, Лукий рассуждает о роли волос для женской красоты и пытается представить себе лысую Венеру: «...licet illa caelo deiecta, mari edita, fluctibus educata, licet inquam Venus ipsa fuerit, licet omni Gratiarum choro stipa- ta et toto Cupidinum populo comitata et balteo suo cincta, cinnama flagrans et balsama rorans, calva processerit, placere non potuit nec Vulcano suo» ‘...пусть будет с неба сошедшая, морем рожденная, волнами воспитанная, пусть, говорю, будет самой Венерой, хором граций сопровождаемой, толпой купидонов сопутствуемой, поясом своим опоясанной, киннамоном благоухающей, бальзам источающей — если плешива будет, даже Вулкану своему понравиться не сможет’ (Met. II, 8, пер. М. Кузмина). Такое рассуждение выглядит пародией на школьные риторические упражнения: ученики часто должны были составлять рассуждения на тему, заведомо содержащую противоречия и далекую от реальности.
В пародийном контексте упоминается и бог Марс: своим покровителем его считают разбойники. Действительно, в седьмой книге они названы клиентами (вновь римский термин!) именно этого бога (Met.VII, 5). Истории о гибели их вождей — в довольно нелепых ситуациях — становятся пародиями на такие речи, которые вставлялись в исторические произведения, или пародиями на жанр laudatio funebris.
В описании совета богов на Олимпе, которое завершает сказку об Амуре и Психее, легко увидеть пародию на известные со школьной скамьи всем современникам автора описания советов богов у Гомера (ср. Met. VI, 23 с Il. VIII, 1-52; XX, 1-30). Однако не только у Гомера есть такие описания, есть они и в «Апоколокинтозе» — произведении, которое приписывается Сенеке. Интересно отметить, что пародирование эпоса встречается и в комедиях Плавта. Например, в «Вакхидах» пародия звучит из уст раба (Bacchid. 925 — 978). Забавно и то, что Юпитер называет богов «dei conscripti musarum albo» ‘боги, внесенные в список Муз’ (Met. VI, 23). Здесь обыгрывается обозначение сенаторов как «patres conscripti», а также то, что список сенаторов назывался «album».
Наконец, и в сказке об Амуре и Психее Апулей пародирует римские реалии, а именно римские законы о браке и беглых рабах. Психея, которая пытается найти помощь сначала у Цереры, а потом у Юноны, получает отказ, причем Юнона говорит о том, что ей препятствуют законы, запрещающие принимать чужих беглых рабов против воли их хозяев (Met. VI, 4). Венера, которая не могла отыскать Психею без помощи Меркурия, просит его как глашатая перечислить все приметы, «чтобы провинившийся в недозволенном укрывательстве не мог отговариваться незнанием» (Met. VI, 7, пер. М. Кузмина). Ф. Норден сопоставляет этот эпизод с такими законами о беглых рабах, как lex Fabia и lex Fannia de plagiariis.
Далее, сам Юпитер упрекает Купидона за то, что тот пятнал его «честь и доброе имя, заставляя нарушать законы и особенно Юлиев закон» (Met. VI, 22, пер. М. Кузмина) — речь идет о римском законе lex Iulia de adulteriis, который был принят при Августе и направлен против прелюбодеяний.
Кроме того, Венера объявляет брак Купидона и Психеи незаконным, поскольку он был заключен «в загородном помещении без свидетелей и без согласия отца» (Met. VI, 9). Здесь обыгрывается закон о порядке заключения браков, который Апулей упоминает в своей «Апологии» (Apol. SS), ведь ему самому пришлось отвечать на сходное обвинение.
Нельзя не заметить также, что в целом в сказке об Амуре и Психее Венера изображена сатирически, образ ее снижен, и это очень усиливает комический эффект. Ее первые слова, обращенные к Амуру — «En rerum naturae prisca parens, en elementorum origo initialis, en orbis totius alma Venus» ‘Как, древняя матерь природы! Как, родоначальница стихий! Как, всего мира родительница Венера...’ (Met. IV, 30, пер. М.Кузмина). Скорее всего, это аллюзия на вступление к поэме Лукреция «De rerum naturae».
Забавен эпизод, когда Психея, пытаясь удержать улетающего Амура, все же падает на землю, а Амур — названный «deus amator» ‘влюбленный бог’ (явно обыгрывается имя бога любви) — садится на кипарис и с его верхушки произносит речь к Психее — довольно торжественную. Комический эффект возникает от несоответствия ситуации: Амур, сидящий на дереве, как птица, и интонация его слов, в которых содержится горький упрек простодушной Психее, нарушившей его запрет.
Нередко Апулей достигает комического эффекта с помощью сравнения: кто-либо из героев романа сравнивается с мифологическим персонажем, например Лукий — с Купидоном, когда просит Фотиду о том, чтобы она достала для него волшебную мазь своей хозяйки, и он превратился бы в птицу: «...ut meae Veneri Cupido pinnatus adsistam tibi» ‘...чтобы я стал при тебе, моей Венере, Купидоном крылатым’ (Met. III, 22, пер. М. Кузмина). Такое сравнение с Купидоном особенно смешно, учитывая то, что превращение будет иметь неожиданный результат.
В третьей книге после сцены суда над героем за мнимое убийство трех разбойников, оказавшихся заколдованными бурдюками, Фотида сравнивает Лукия с Аяксом: «Да только Аякс, напав на живой скот, перерезал целое стадо, а ты куда храбрее — ведь под твоими ударами испустили дух три надутых козьих бурдюка» (Met. III, 18, пер. М.Кузмина). Комизм усиливается игрой слов — Фотида говорит Лукию, что он даже не «homicida» — человекоубийца, но «utricida» — бурдюкоубийца. Сам Лукий иронически сравнивает себя с Гераклом, конечно, желая рассмешить Фотиду и развеселиться самому после пережитых на суде волнений: «...at ego plausi lepi- do sermone Fotidis et invicem cavillatus: “ergo igitur et ipse possum”, inquam, “mihi primam istam virtutis adoriam ad exemplum duodeni laboris Herculei numerare vel trigemino corpori Gerionis vel triplici formae Cerberi totidem peremptos utres coaequando”» (‘...а я захлопал в ладоши после изящной речи Фотиды, и в свою очередь пошутил: “Так, значит, и сам я могу это первое проявление доблести, покрывшее меня славой, считать за один из двенадцати подвигов Геркулеса, приравнивая к трехтелому Гериону или к трехглавому Церберу такое же число погубленных бурдюков!”’ (Met. III, 19). Г. Мюнстерманн считает даже, что в этом эпизоде не только насмешливо по отношению к герою обыгрывается миф, но и подразумевается серьезная параллель к нему — то, что ученый называет «literarische Metamorphosen». С этим трудно согласиться, однако стоит привести очень забавную параллель, отмеченную исследователем: Аякс истребил стадо животных, когда был безумен, а Лукий победил «разбойников», когда был пьян.
Не раз Лукий-осел сравнивается с Пегасом, крылатым конем, рожденным из капель крови Медузы Горгоны. Например, в четвертой книге, после того как он, везя на себе пленницу разбойников Хариту, неудачно пытался спастись от них бегством, его сравнивает с Пегасом разбойник, тащивший его обратно к пещере: «Sed “ecce”, inquit ille, qui me retraxerat, “Rursum titubas et vacillas, et putres isti tui pedes fugere possunt, ambulare nesciunt? At paulo ante pinnatam Pegasi vincebas celeritatem”» ‘Но тот, кто меня оттаскивал, сказал: «Снова ты нетвердо ступаешь и шатаешься, и эти твои гнилые ноги бежать могут, но не знают, как идти? А только что ты превосходил крылатую быстроту Пегаса!” (Met. VI, 30). Интересно заметить, что в романе Псевдо-Лукиана герой в сходной ситуации сравнивается просто с конем: «... αλλ’ δτε φευγειν εδοκεί σοι, ΰγιαίνων ίππου ώκυτερος καί πετεινός σθα» ‘...но когда тебе захотелось убежать, ты, будучи здоровым, быстрее коня несся’. Слово πετεινός у Псевдо-Лукиана, возможно, и подсказало Апулею сравнение Лукия-осла с Пегасом.
Весьма комично еще одно сравнение: ростовщик и скряга Милон сравнивает себя с бедной старушкой Гекалой, которая оказала гостеприимство Тезею: «...contentus lare parvulo Thesei illius cog- nominis patris tui aemulaveris, qui non est aspernatus Hecales anus hospitium tenue...» ‘...ты, удовольствовавшись скромным очагом, будешь соперничать с тем самым Тезеем, тезкой твоего отца, который не презрел бедное гостеприимство старушки Гекалы’ (Met. I, 23).
Забавно сравнение героев романа с героями известных трагедий: например, кабатчица Мероя сравнивается с Медеей (Met. I, 10), Лукий, как уже упоминалось, с Аяксом (Met. III, 28), а спор братьев-поваров о том, куда же пропадает лучшая еда — со спором за власть между Этеоклом и Полиником (Met. X, 14).
Очень важно для колорита романа описание магических ритуалов и превращений. Нередко такие описания полны и комических деталей.
Ирония сюжета состоит в том, что именно Фотида — возлюбленная нашего героя — участвовала в превращении клочков козлиной шерсти в бурдюки, с которыми сразился Лукий перед дверями дома Милона, приняв их за разбойников. Она сама рассказывает об этом, и мы можем увидеть в ее рассказе немало комизма.
Памфила хотела околодовать понравившегося ей юношу и с этой целью отправила Фотиду в цирюльню, чтобы служанка принесла оттуда остриженные волосы. Фотиде это не удалось, ей помешал хозяин цирюльни, который подозревал Фотиду и ее хозяйку в колдовстве. Фотида, боясь наказания, вместо волос юноши приносит хозяйке рыжеватую шерсть, состриженную с козьих мехов, которую она нашла на рынке. Комично то, что влюбленной Памфиле приносят козью шерсть вместо волос возлюбленного, а она, хотя и считалась могущественной ведьмой, не увидела обмана.
Предсказатели в романе Апулея тоже описаны с иронией. Лукий вспоминает коринфского предсказателя, халдея Диофана. Предсказания Диофана были заведомым шарлатанством, а погубили его простодушно-искренние слова, когда, забыв, какую роль он играет, от радости, что увидел друга, Диофан рассказал ему о том, что корабль, который вез его с Евбеи, был разбит бурей, на спасшихся путников напали разбойники и убили брата Аригнота. Предсказатель, не успевший уберечь себя и близких, вызывает громкий смех стоящих вокруг него людей. Юмор ситуации усиливается тем, что купец, только что заплативший за предсказание, забрал обратно свои деньги и немедленно убежал. В эпизоде, таким образом, высмеивается шарлатанство предсказателя, смешны также ловкость и быстрота реакции купца. Забавна довольно ехидная фраза, обращенная любезным хозяином к гостю: «Но, конечно, тебе, Лукий, господин мой, одному из всех халдей этот сказал правду!» (Met. II, 14, пер. М. Кузмина).
Насмешка над предсказателями и верой в них есть и в том эпизоде, где глашатай, продавая Лукия-осла, говорит Филебу, жрецу Сирийской богини, что некий прорицатель («mathematicus») составил для осла гороскоп (Met. VIII, 24).
Изображение жрецов Сирийской богини, к которым попадает Лукий, остро сатирическое. Апулей смеется над тем, как они придумали предсказание, подходящее буквально для всех случаев: «...sorte unica pro casibus pluribus enotata consulentes de rebus plurimos ad hunc modum cavillantur» ‘...установив одно общее прорицание на все случаи жизни, таким манером дурачили они массы людей, спрашивающих у них совета по самым разнообразным поводам’ (Met. IX, 8, пер. М. Кузмина). Смешно и то, что само прорицание не говорит ни о чем конкретном, поэтому понимать его можно максимально широко: ideo coniuncti terram proscindunt boves ut in futurum laeta germinent sata (Met. IX, 8). ‘Затем запряженные быки пашут землю, чтобы в будущем обильно произрастали посевы’.
Возможны разные толкования: фраза, не содержащая ясного смысла, была благоприятным предзнаменованием и для вступающих в брак, и для человека, собирающегося приобрести имение. Можно сопоставить это предсказание с неоднозначным предсказанием, данным Крезу в Дельфах, как об этом пишет Геродот. Отличие в том, что предсказание, данное Крезу, сбывается, хотя и иначе, чем тот ожидал, а предсказание жрецов Сирийской богини — заведомо мошенническое.
Роман Апулея полон аллюзий и пародийных реминисценций. Например, в сказке об Амуре и Психее, в рассказах Аристомена (Met. I, 5-20) и Телефрона (Met. II, 21-30) обыгрываются мотивы и сюжетные схемы греческого романа. В речах, произнесенных Лу- кием и его обвинителем на празднике Смеха в третьей книге и в историях разбойников в четвертой книге пародируются риторические произведения.
Обыгрывание сюжета традиционного греческого романа в сказке отмечает Р. Гельм: в частности, в сюжете этого жанра значительную роль играл оракул. Примером могут служить роман Ксенофонта Эфесского «Повесть о Габрокоме и Антии» или роман Гелиодора «Эфиопика». Комичен оракул Аполлона, который был дан отцу Психеи в аллегорической форме. Автор иронически говорит, что бог Аполлон, хоть и грек и иониец, для сочинителя милетской истории изрек оракул — прорицание о судьбе Психеи — по-латыни («Sed Apollo, quamquam Graecus et Ionicus, propter Milesiae condi- torem sic Latina sorte respondit», Met. IV, 32). Сначала этот оракул получил неверное толкование, а затем исполнился.
Разлука влюбленных, гнев бога, странствия и воссоединение влюбленной пары — классическая схема греческого романа. То, что Апулей создает новеллу об Амуре и Психее (а по форме это небольшой роман внутри основного повествования) показывает его мастерское владение повествовательными стилями и сюжетными схемами, а вплетение в рассказ, выдержанный в сказочном тоне, пародийных моментов (оракул греческого бога, данный по-латыни, крайнее простодушие Психеи, гневливость Венеры, слабость Амура, снисходительность Юпитера) очень комично.
В греческом романе был распространен мотив колдовства, в частности, с помощью колдовства воскрешали покойника. Такой эпизод есть в романе Гелиодора «Эфиопика» (VI, 14-15), есть он и в «Метаморфозах», в рассказе Телефрона. На пиру у Биррены Телефрон рассказывает историю, где переплетается страшное и смешное. Покойника, которого Телефрон охранял от ведьм, воскрешает пророк — египтянин Затхлас, покойник же и рассказал, что его охраняли настолько хорошо, что ведьмы, воспользовавшись тем, что и его, и того, кто его стерег, звали одинаково, похитили нос и уши у живого человека, заменив их восковыми. Эта жутковатая история, однако, заканчивается описанием смеха толпы над простаком-рассказчиком. В истории Телефрона мы видим пародию на юридические формальности: матрона, нанимавшая его, производит опись частей тела покойника, а свидетели удостоверяют эту опись, что напоминает опись имущества, вверяемого какому-либо лицу — на хранение или с другими целями. Кроме того, комизм этой истории создается за счет говорящего имени главного героя. Как отмечает Б. Бразертон, его имя содержит в себе такие части, как «θήλυς» и «φρήν» («женский ум») и легко показывает, что он умом слаб.
Рассказы разбойников о гибели их вождей пародируют надгробные восхваления и исторические повествования. О том, что источники этих трех историй — риторические произведения, говорит, в частности, С. Хаммер. На протяжении всего эпизода с разбойниками Апулей играет сменой высокого и низкого стилей, показывая, как оценивают себя разбойники и как оценивает их Лукий.
Рассказ о неудачной попытке ограбления ростовщика Хризероса (чье имя отчетливо указывает на любовь к золоту) начинается с того, что разбойники приходят в Фивы. Неуместно возвышенный тон придает повествованию эпический эпитет Фив «heptapyli» ‘семивратные’ (Met. IV, 9). В истории гибели Ламаха страшное, как это часто бывает в «Метаморфозах», соседствует с претенциозносмешным. Как отмечает А. К. Гаврилов, само имя предводителя разбойников отсылает к «Ахарнянам» Аристофана, создавая образ «маниакальной воинственности». Ламах, лишившись руки, умоляет товарищей освободить его от мучений «per dexteram Martis» ‘правой рукой Марса’ (Met. IV, 11). Убийство же предводителя, на которое никто не решался, названо «parricidium» ‘отцеубийство’. То, что Ламах торжественно целует меч, возможно, — аллюзия на смерть Аякса у Софокла (Aiax, 834-850). Ламах был похоронен в море, что уже совершенно нелепо, поскольку моря рядом с Фивами нет, на что обращает внимание, например, Л. Каллеба.
Интересен эпизод, где Лукий, попав на мельницу, видит развратное поведение мельничихи и порицает ее. Лукий-осел вновь выступает здесь не только как рассказчик, но и как обличитель пороков, что добавляет немалый комизм его рассказу. Он не скупится на эпитеты, выражающие неодобрение поведению жены мельника, называя ее и «deterrima coniuga» ‘ужаснейшая супруга’, и «nequissima femina» ‘негоднейшая женщина’, и даже «sacrilega» ‘святотатица’. Кроме того, душа этой женщины сравнивается с выгребной ямой («latrina»). Лукий не довольствуется отдельными эпитетами и разражается настоящей инвективой: «...saeva scaeva viriosa ebriosa pervicax pertinax, in rapinis turpibus avara, in sumptibus foedis profusa, inimica fidei, hostis pudicitiae» ‘...злая, шальная, с мужиками шляется, пьяная валяется, упорная, непокорная, в гнусных хищениях жадная, в позорном мотовстве щедрая, ненавистница верности, враг скромности’ (Met. IX, 14, пер. М.Кузмина). Эта обвинительная фраза богата всевозможными средствами риторики: здесь и аллитерация, и ассонанс, и асиндетон, и синтаксический параллелизм. Такое искусство красноречия, особенно употребленное против развратной мельничихи, комично выглядит в устах осла.
Пародию на обвинительную речь мы видим в конце первой книги — это слова Пифия, товарища Лукия, который вместе с ним учился в Афинах, а в Гипате стал эдилом, в чьи обязанности входил надзор за торговлей продовольствием. Обращаясь к старику, у которого Лукий незадолго до этого купил рыбу, он произносит настоящую инвективу против тех, кто обманывает чужеземцев, обещая показать, каким образом должны наказываться нечестные торговцы. Пифия не смущает, что старик-рыбак вряд ли понимает то, что он говорит, он горд своей ученостью и занимаемой должностью.
Негодующее «iam, iam» ‘ужо’, литота «non impune» ‘небезнаказанно’ (Met. I, 25), бесспорно, напоминают речи Цицерона. А цицероновские интонации на рыбном рынке создают комический эффект. В этом эпизоде — насмешке над чиновником, исполненным сознания своей важности, — П. Юнганс отмечает влияние мима. Ж. Себ пишет, что пародия на судебное красноречие и стиль речи чиновников была свойственна жанру римской комедии начиная с Плавта. Поведение Пифия можно словами этого ученого охарактеризовать как «megalomanie burlesque» ‘бурлескная мания величия’.
Мы видим, что Апулею удается показать в «Метаморфозах» множество различных персонажей и калейдоскоп событий. Во-первых, они связаны проходящим через весь роман мотивом странствий героя, а во-вторых, их связывает юмор. Средства создания комического эффекта у Апулея многообразны: например, описание смешной ситуации, обыгрывание римских реалий, ирония, игра слов, юмористическое сравнение, пародирование других жанров. Кроме того, в одном и том же забавном эпизоде могут сочетаться различные приемы. И даже при постоянном перечитывании романа всегда можно увидеть в нем что-то новое.
Произведения
Критика