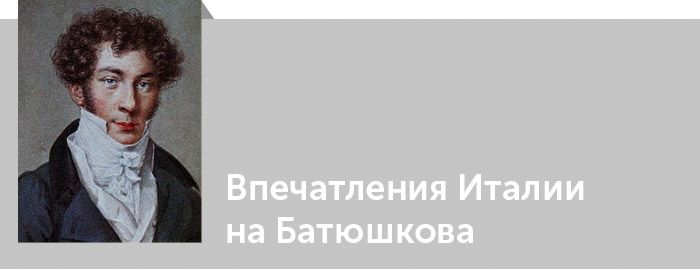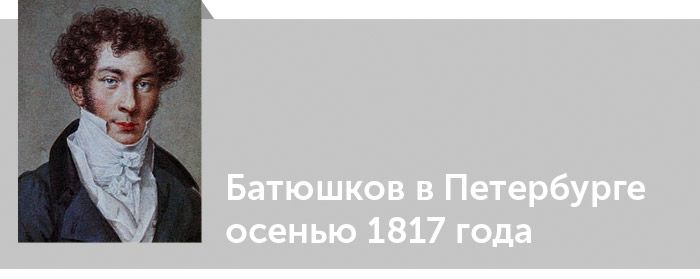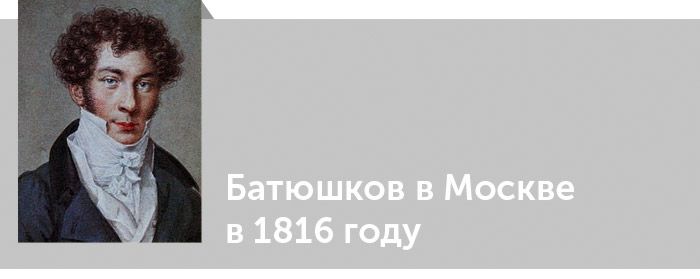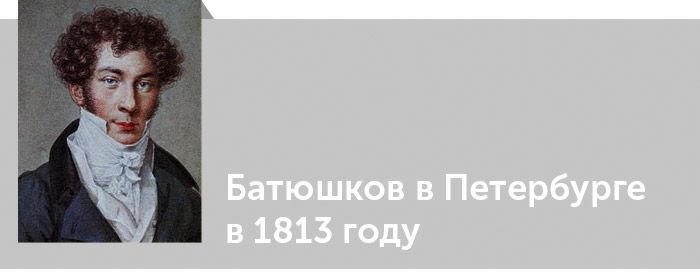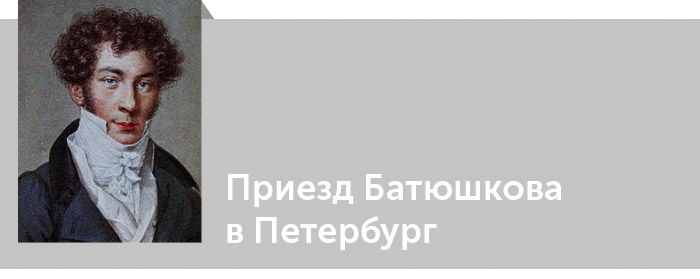Батюшков и античность

Фридленд Г.М.
Мы привыкли ассоциировать культ античности с классицизмом, а романтизм — с открытием готики и величия средних веков. Разумеется, для этого есть свои законные основания. Французские драматурги рассматривали «Поэтику» Аристотеля как краеугольный камень своей драматической эстетики. Никола Пуссен оставил нам в наследство великолепные живописные полотна, изображающие сцены древнегреческой и древнеримской истории и мифологии. Вольтер написал трагедии «Брут» и «Смерть Цезаря». Аллегорические изображения древнегреческих, древнеримских богов и героев, апелляция к их именам и деяниям переполняют поэзию классицизма. А Великая французская революция XVIII века вызвала к новой жизни целый мир древнегреческих и древнеримских идей и ассоциаций.
И однако все это ни в малейшей степени не означает, что романтизм не имел, так же как и классицизм, своего, особого, специфического культа античности. Великий немецкий поэт-романтик Фридрих Гельдерлин был проникнут не менее мощным преклонением перед греческой древностью, чем Винкельман или Гете. Лучшие стихи другого великого поэта-романтика англичанина Джона Китса — его поэмы «Эндимион», «Гиперион» и оды на темы античной мифологии, а его гениальное стихотворение «Ода греческой вазе» посвящено прославлению бессмертной греческой древности как величайшего, хотя и кратковременного момента истории человечества — единственного момента его истории, когда красота и правда сливались в одно нераздельное целое. Наконец, Гете второй части «Фауста» рисует как исторически необходимый момент развития своего героя – союз Фауста и Елены Прекрасной, т. е. союз современного человека, вырвавшегося из замкнутой кельи средневековья на простор живой жизни, и наследия античной культуры. Сыном Фауста и Елены, т. е. сыном равно современности и античности был для Гете Байрон — живое воплощение духа романтической поэзии. Смерть Байрона за свободу Греции Гете рассматривает в «Фаусте» как выражение того возвышенного духа новой романтической поэзии, которым было проникнуто свободолюбивое юношество его эпохи.
Напомню также, что одним из первых поклонников и первооткрывателей неизданной при жизни автора поэзии Андре Шенье во Франции был Анри де Латуш и что его издание стихотворений Шенье вызвало восторг у французских романтиков. А молодой Гегель начал свой творческий путь с философского стихотворения «Элевсис». И даже среди стихотворений Жуковского, т. е. того русского поэта, которого Белинский считал наиболее ярким выразителем «романтизма средних веков», мы встречаем такие замечательные стихотворения на античные темы, как баллады «Ахилл» или «Теон и Эсхил», равно как переводы шиллеровского «Торжества победителей», «Ивиковых журавлей», «Поликратова перстня», не говоря уже о венчающем творчество великого русского поэта-романтика переводе «Одиссеи Гомера». Думается, что приведенные историко-литературные факты чрезвычайно важны для понимания античных мотивов поэзии Батюшкова, равно как Пушкина лицейского периода и периода южной ссылки, да и позднейших его антологических стихотворений, поэзии Гнедича, Дельвига и других, менее значительных русских поэтов 1810—1820-х годов, обращавшихся к античности, хотя обычно аналогии эти историками литературы не принимаются во внимание.
Всем нам хорошо известны знаменитые слова Достоевского о «всечеловечности» русской культуры, ее живой способности жить одной жизнью со всеми народами земли, с необыкновенной чуткостью и совершенством постигать их чувства и идеалы. Образцом подобной «всеотзывчивости» русского человека был в глазах Достоевского Пушкин. И однако первые проявления той гениальной «всеотзывчивости» русской поэзии на явления духовной жизни других народов мира, которые столь поражают нас в поэзии Пушкина и которые сегодня столь близки нам, людям социалистической эпохи, мы встречаем уже у старших современников Пушкина. И в первую очередь здесь надо назвать двух ближайших учителей Пушкина — Жуковского и Батюшкова.
В батюшковской «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» (1816), произнесенной в Обществе любителей русской словесности в Москве и открывающей первую книгу его «Опытов в стихах и прозе» (1817), мы читаем: «Истинная, просвещенная любовь к искусствам снисходительна и, так сказать, жадна к новым духовным наслаждениям. Она ничем не ограничивается, ничего не желает исключить и никакой отрасли словесности не презирает. Шекспир и Расин, драма и комедия, древний экзаметр и ямб, давно присвоенный нами, пиндарическая ода и новая баллада, эпопея Омера, Ариосто и Клопштока, столь различные по изобретению и формам, ей равно известны, равно драгоценны. Она с любопытством замечает успехи языка во всех родах, ничего не чуждается, кроме того, что может вредить нормам, успехам просвещения и здравому вкусу (я беру сие слово в обширном значении)... Ни расколы, ни зависть, ни пристрастие, никакие предрассудки ей не известны. Польза языка, слава отечества: вот благородная ее цель... Важные сестры подают здесь дружественную руку младшим сестрам своим, и олтарь вкуса обогащается их взаимными дарами».
В этих словах содержится целая литературная программа! И суть ее состоит не только в защите «легкой поэзии», ее равноправия с поэзией «важной», в том числе гражданской и политической, но и в признании эстетической равноправности Шекспира и Расина, равноценности поэзии античной и современной, древней и новой.
Батюшков призывает русский народ вслед за великой эпопеей победы над Наполеоном создать свою великую поэзию: «Совершите прекрасное, великое святое дело: обогатите, образуйте язык славнейшего народа, населяющего почти половину мира: поровняйте славу языка его со славою военною, успехи ума с успехами оружия... И когда удобнее свершить желаемый подвиг? в каком месте приличнее? В Москве, столь красноречивой и в развалинах своих, близ полей, ознаменованных неслыханными доселе победами, в древнем отечестве славы и нового величия народного». И твердо веря в великое будущее русской культуры, Батюшков не менее глубоко убежден, что для успешного ее развития нужно усвоение всего общечеловеческого опыта, опыта художественного и общекультурного развития всех народов мира. Ибо «веки мелькают, памятники рук человеческих разрушаются, изустные предания изменяются, исчезают: но Омер и книги священные говорят о протекшем. На них основана опытность человеческая. Важные кладези, откуда мы почерпаем истины утешительные или печальные! Что дает вам сию прочность? Искусство письма и другое, важнейшее — искусство выражения» («Нечто о поэте и поэзии», 1816).
В «Вечере у Кантемира» (1816) Батюшков устами Кантемира горячо оспаривает мысль; что поэзия может существовать только у отдельных немногих, избранных народов, благодаря особо благоприятному стечению условий места и времени: «Полуденные страны, — говорит здесь Кантемир, защищая мысль о великом будущем русской поэзии, — были родиною искусств: но сии прелестные дети воображения были часто вытесняемы из родины своим варварством, суеверием, железом завоевателей и, как быстрые волны, разлились по лику земному. Музыка, живопись и скульптура любят свое древнее отечество, а еще более — многолюдные города, роскошь, нравы изнеженные. Но поэзия свойственна всему человечеству: там, где человек дышит воздухом, питается плодами земли, там, где он существует, — там же он наслаждается и чувствует добро или зло, любит и ненавидит, укоряет и ласкает, веселится и страдает. Сердце человеческое есть лучший источник поэзии».
Но если поэзия «свойственна всему человечеству», это не значит, заявляет Батюшков, что формы и содержание ее не могут быть бесконечно разнообразны, как сама жизнь. Ибо место, время, особенности природы, национальной жизни и национального характера, наконец, своеобразие личности каждого поэта и воспитавшей его обстановки накладывают на нее везде и всегда неизгладимый отпечаток: «Климат, вид неба, воды и земли — все действует на душу поэта, отверстую для впечатлений. Мы видим в песнях северных скальдов и эрских бардов нечто суровое, мрачное, дикое и всегда мечтательное, напоминающее и пасмурное небо севера, и туманы морские, и всю природу, скудную дарами жизни, но всегда величественную, прелестную и в ужасах. Мы видим величественный отпечаток климата в стихотворцах полуденных: некоторую негу, роскошь воображения, свежесть чувств и ясность мыслей, напоминающих и небо и всю благотворную природу стран южных, где человек наслаждается двойною жизнью в сравнении с нами, где все питает и нежит его чувства, где все говорит его воображению. Напрасно уроженец Сицилии или Неаполя желал бы состязаться в песнях своих с бардом Морвена и описывать, подобно ему, мрачную природу севера; напрасно северный поэт желал бы изображать роскошные долины, прохладные пещеры, плодоносные рощи, тихие заливы и небо Сицилии, высокое, прозрачное и вечно ясное».
Итак, поэзия каждой страны и народа имеет свой местный колорит, свои неповторимые краски, цвета и запахи. Это относится и к античной поэзии. Она не извечная норма и образец для всех времен, но одна из важнейших составных частей многоцветной, пестрой, разнообразной по содержанию и формам культурной сокровищницы человечества.
То, что поэзия Древней Греции и Рима имеет свои исторически обусловленные внутренние и внешние особенности, свой исторический «потолок», свои особые, неповторимые достоинства и недостатки, Батюшков в статье «Петрарка» (1816) — и это превосходно показала в двух своих весьма ценных работах о Батюшкове В.Б. Сандомирская проиллюстрировал на примере интерпретации темы любви у древнегреческих и древнеримских поэтов, с одной стороны, и поэтов нового времени, с другой. «Любовь способна принимать все виды, — пишет здесь Батюшков. — Она имеет свой особенный характер в Анакреоне, Феокрите, Катулле, Проперции, Овидии, Тибулле и в других древних поэтах. Один сладострастен, другой нежен и так далее. Петрарка, подобно им, испытал все мучения любви и самую ревность; но наслаждения его были духовные.. . Древние стихотворцы... не имели и не могли иметь сих возвышенных и отвлеченных понятий о чистоте душевной, о непорочности, о надежде увидеться в лучшем мире, где нет ничего земного, преходящего, низкого. Они наслаждались и воспевали свои наслаждения; они страдали и описывали ревность, тоску в разлуке или надежду близкого свидания... в их творениях мы видим более движения и лучшее развитие страстей, одним словом, более драматической жизни... но не более истины . . . после смерти всему конец для поэта; самый Элизий не есть верное жилище. Каждый поэт переделывал его по-своему и переносил туда грубые, земные наслаждения. Петрарка напротив того: он надеется увидеть Лауру в лоне божества, посреди ангелов и святых ... самая смерть ее — торжество жизни над смертию».
Таким образом, поэзия античности, по Батюшкову, превосходит поэзию новых движением и развитием страстей, насыщенностью, «драматической жизнью». Но она всецело обращена к земным наслаждениям, а потому проникнута мыслью о скоротечности человеческой жизни. В этом ее сила, но в этом же ее слабость по сравнению с поэзией Петрарки и других поэтов нового времени, знающих не только земные, но и духовные наслаждения, — поэзией, озаренной надеждой на возможность будущего свидания любящих за гробом, в ином, лучшем мире, идеями «душевной чистоты» и «непорочности».
Как показала В.Б. Сандомирская, сходная оценка поэзии древних содержится в изданной в 1820 году в Петербурге Д.В. Дашковым книжке С.С. Уварова и К.Н. Батюшкова «О греческой Антологии». Здесь прямо поставлен принципиальный вопрос: «Чем именно поэзия древних различествует от нашей». И отвечая на него, авторы пишут: «Поэзия древних объясняется небом, землею и морем Италии и Греции», свойственными грекам гармоническими представлениями об отношениях «между всеми существами мира, от коего и бездушная природа приемлет движение и жизнь... Для древних жизнь была все: для нас самая жизнь есть только переход к другому совершеннейшему бытию». На основании совпадения этой соотносительной оценки основ древнего, античного и нового, христианского мировоззрения с характеристикой их в статье «Петрарка» В.Б. Сандомирская высказывает вполне вероятное предположение, что прозаический текст книги «О греческой Антологии» принадлежит не одному Уварову, как это обычно принято считать, но что в написании и редактировании его принимал участие и Батюшков (или во всяком случае, что выраженные в предисловии к переводам Батюшкова мысли о греческой антологии отражают общее для Батюшкова и Уварова истолкование духа и форм античной поэзии). Не входя здесь в специальный анализ этого предположения, я считаю гипотезу В.Б. Сандомирской вполне обоснованной.
Взгляд Батюшкова на античность, отраженный в его статьях и заметках, чрезвычайно важен для понимания всего творчества поэта в целом. Ибо очевидно, что Батюшков в зрелые годы смотрел на Древнюю Грецию и Рим иначе, чем писатели времен классицизма на Западе или просветители XVIII века. Как показывают приведенные его высказывания, он подходил к миру классической древности не как к некоему вневременному, внеисторическому идеалу, но оценивал его в его локальном и историческом своеобразии. Античность была для Батюшкова особым художественным миром, наряду с миром древних скальдов, оссиановских героев, поэзией итальянского Возрождения, «Неистовым Роландом» и «Освобожденным Иерусалимом», миром русских летописей и сказок. И каждое из этих культурно-исторических явлений имело в глазах зрелого Батюшкова свою особую красоту, входило в общий Пантеон человеческой культуры. Вот почему Батюшков мог остро чувствовать современность в своих стихах о 1812 годе, восхищаясь в то же время поэзией северной природы, записывая материал эддических сказаний, размышляя на развалинах замка в Швеции или при переходе через Рейн, переводя Петрарку и Боккаччо, Ариосто и Тассо.
Как и другие люди своего времени, отдавшие дань настроениям предромантизма или романтизма, Батюшков был затронут ощущением поэтического универсализма. Его увлекала поэзия разных народов и эпох, преломленная в полете мечты и воображения. Не случайно поэтому он переводил не только Тибулла, но и эпиграммы греческой антологии, Мильвуа, Парни, Вольтера, Матиссона, Шиллера, Боккаччо, Петрарку и Ариосто. Каждый из поэтов древнего и нового мира был для него и определенной поэтической индивидуальностью — более или менее близкой ему, — и представителем некоего культурно-исторического региона, своего народа и эпохи с присущими им особым строем жизни и кругом интересов, своим способом мышления и чувствования, своим стилем и языком.
Античный мир и античная символика входили для Батюшкова в качестве неотъемлемой составной части в широкую, всеобъемлющую картину мира то в качестве средства поэтического просветления и облагорожения жизни «жителя подмосковной деревни», то в том их особом художественном строе и духе, который сообщал им в глазах поэта особую их, неповторимую культурно-историческую ценность. Причем в ходе развития Батюшкова его восприятие античности постоянно обогащалось.
Важно отметить и другую черту, характеризующую отношение Батюшкова к античной поэзии: его отношение к отбору античных имен, тем и мотивов для своих произведений было всегда строго избирательным. Из поэзии Батюшкова, как и его прозы, мы знаем, что имя Гомера всегда вызывало у него горячее восхищение. Но, в отличие от Гнедича, Батюшкова не привлекли воинские подвиги героев «Илиады», как не воодушевляли его поэтическое воображение ни республиканские добродетели древнегреческих и римских героев, ни идиллическая античность Феокрита или Мосха. Гомер в восприятии Батюшкова, подобно Тассу, — поэт-скиталец. Одаренный божественным всевидением, он несправедливо отвергнут бессмысленной толпой и «хилым» правителем. Античность Батюшкова — это прежде всего (так же как у Гельдерлина и Китса) античность элегическая, просветленная, но в то же время не лишенная оттенка поэтической задумчивости и грусти, античность и отделенная от современности в своей вечной и неповторимой красоте, и в то же время сближенная с современностью ощущением ее скоротечности, властью над ней неумолимого хода времени, гибельного для мгновений полноты жизни, ощущением неизбежного конца, изменчивости и хрупкости прекрасного. В соответствии с этим античный человек для Батюшкова не герой «большой» истории с ее битвами и великими деяниями, а поэт, любовник и философ-мудрец. Таким образом, античность его, как у всех поэтов той эпохи, глубоко личностна по своему характеру. В ней господствует субъективный мир упоения жизнью, облагороженного наслаждения, но и глубокой печали, скорбных философских размышлений. Рисуя оттенки любовного чувства, то нежного, то сладострастного, Батюшков с грустью сознает, что мгновения полноты жизни, пластическая красота и гармония древности преходящи.
Л-ра: Русская литература. – 1988. - № 1. – С. 44-49.