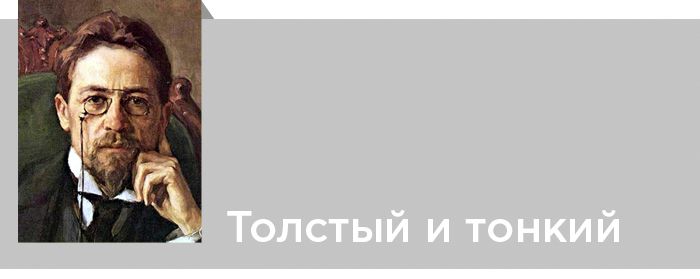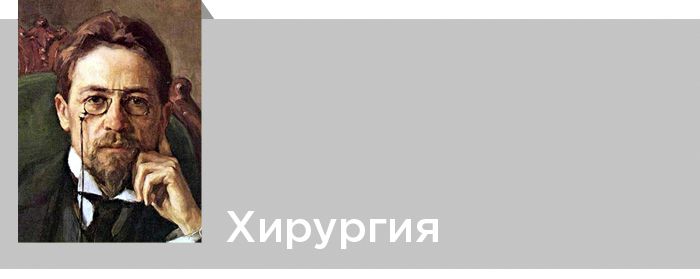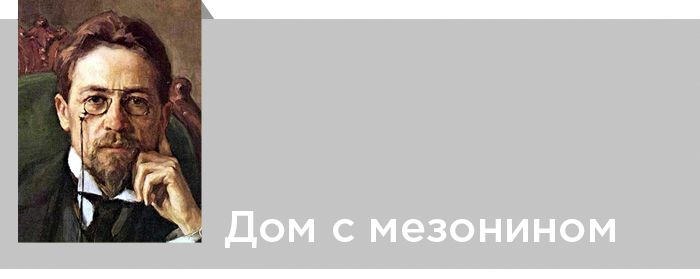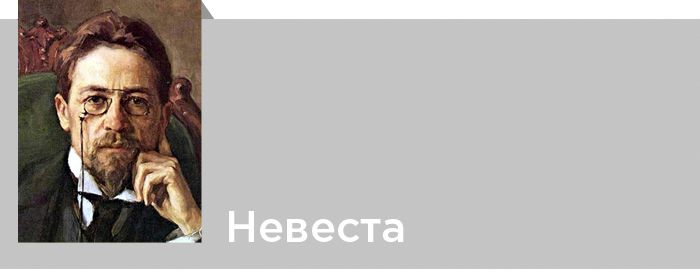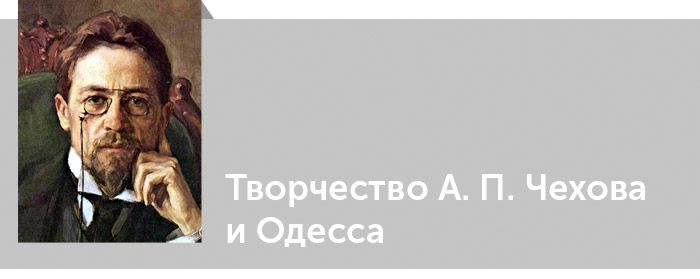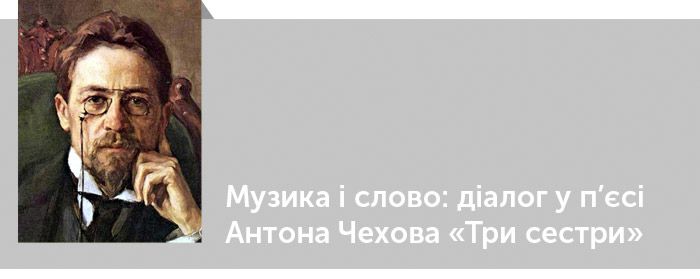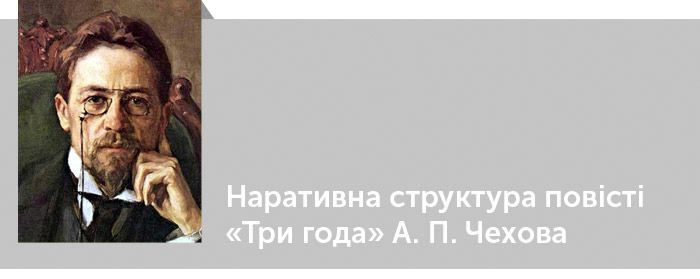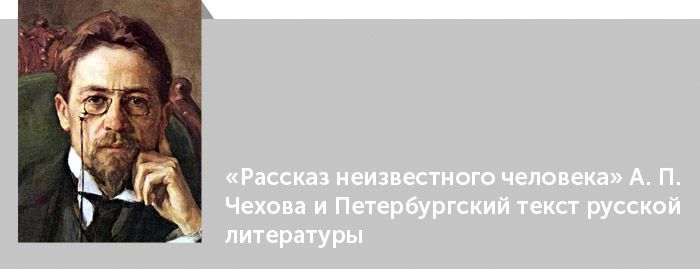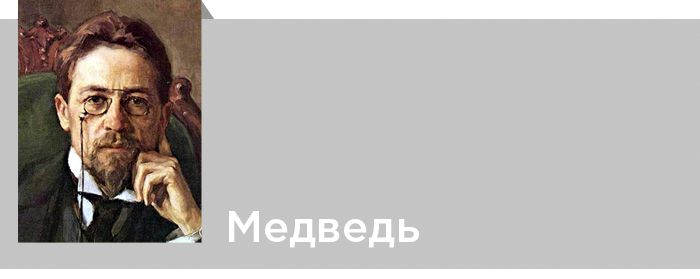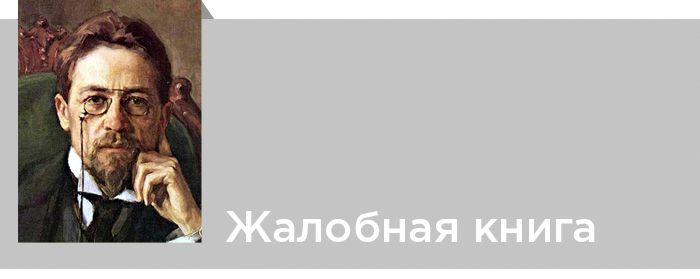Чехов и мифология нового времени

В.Б. Катаев
Очевидна сложность проблемы взаимоотношений творчества Чехова с литературой и – шире – культурой прошлого.
Своего рода аксиомой стало положение о «нелитературности» Чехова, о том, что Чехов – это «один из самых свободных от непосредственно книжных влияний писатель». Действительно, отсутствие у Чехова вторичности, «отраженности» в разрабатываемых сюжетах, отсутствие произведений литературного происхождения, таких, о которых можно сказать, что это «литература по поводу литературы», – все это как будто дает основания для подобной характеристики.
Достоевский говорил, что «Каменный гость» Пушкина кажется написанным испанцем, а в образах «Пира во время чумы» слышен гений Англии». Такого перенесения себя в иную культуру, имитации, воссоздания ситуаций и образов интернациональных, «вечных типов» (того, что в большей или меньшей степени присутствует в творчестве крупнейших предшественников и преемников Чехова – от Тургенева до Горького) у Чехова мы не обнаружим. Нет в его произведениях и особой литературности, воспитанной на книгах из дворянских русских усадебных библиотек – книг старинных, редких, любопытных. Нередко цитата, строка из такой книги служит главной темой, лейтмотивом произведений Тургенева, Бунина, но ничего подобного не встречается у Чехова.
Вместе с тем в списке авторов, упоминаемых или цитируемых Чеховым в его произведениях, имена от Марка Аврелия, Эпиктета, Шекспира до Гребенки, Надсона, Шпильгагена. В работах о Чехове зарегистрировано множество случаев соотнесенности его произведений с образами и мотивами русской и мировой литературы. Параллели здесь возможны самые отдаленные. Так, можно усмотреть в «Скрипке Ротшильда» разработку мотивов истории о скрипаче Креспеле из «Серапионовых братьев» Гофмана, а, скажем, в «Черном монахе» – разработку темы повести Вл. Одоевского «Сильфида» (на сходство между ними указывал еще П.Н. Сакулин).
Параллели могут быть, таким образом, довольно неожиданными, но цену они имеют только тогда, когда, во-первых, автор ставит при этом вопрос о степени сознательности использования Чеховым того или иного литературного материала и, во-вторых, когда на смену чисто количественному учету отражений, цитат, совпадений в произведениях Чехова с произведениями других писателей приходит исследование того особого качества, в котором они выступают в чеховских произведениях.
Очевидно, что Чехов использовал опыт предшествующей ему литературы и духовной культуры человечества (и этим он не отличался от любого большого писателя), но иначе, чем, скажем, Пушкин, Достоевский, Тургенев, Бунин, Горький. Речь должна идти об особом типе отношения к прошлой культуре, особом типе «литературности». Для этого типа характерно: ощущение исчерпанности прежней культуры, нередко отрицание этой культуры, отказ от выработанных ею эстетических решений, активное новаторство, пародийное отношение к прежней литературе, отсутствие «отраженности», «литературности» – хотя, по существу, это лишь особая разновидность общей закономерности, «продолжение деятельности предшествующих поколений при новых исторических обстоятельствах».
Необходимы конкретные и обобщающие исследования чеховских заимствований, пародий, стилизаций, парафразов, творческих соревнований и т. д. Задача настоящей статьи – рассмотреть некоторые аспекты более узкой темы: Чехов и мифология нового времени.
Использование мифологических моделей и мотивов в произведениях Чехова не имеет столь явно выраженного характера, как в произведениях его предшественников. После того, как американский ученый Томас Виннер в монографии о прозе Чехова написал о сходстве героинь «Княгини» и «Попрыгуньи» с сиренами греческой мифологии – полудевами, полуптицами, об отголосках греческого мифа в «Ариадне», а «Душечку» рассматривал как современную вариацию мифа об Эросе и Психее. К. И. Чуковский справедливо усомнился в том, действительно ли, например, история чеховских Ариадны, Лубкова и Шамохина имеет отношение к мифу об Ариадне, Тезее и Дионисии.
Однако найденный в русской литературе еще Пушкиным и Гоголем опыт мифологизации изображаемой действительности неоднократно использовался Чеховым. Его привлекала возможность придать, при выявлении мифологических параллелей, глубину и перспективу изображаемому; рассказывая ту или иную историю, в то же время комментировать ее с точки зрения более широкой перспективы.
В некоторых из последних произведений Чехова сюжет, характеристики, описания, оставаясь в пределах поэтики реализма, приобретают такую смысловую и ассоциативную насыщенность, что читатель получает возможность соотнести «безымянный факт», эпизод из жизни частного человека, о котором пишет Чехов, с опытом человечества, закрепленным в фольклоре и мифологии. Во многом благодаря этому у Чехова «реализм возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа».
Так, поднимается до высот реалистического символа содержание «Архиерея», одного из самых совершенных творений Чехова. Добивается этого писатель, на первый взгляд, незаметным, но настойчиво повторяемым указанием на дни, в которые происходит действие рассказа.
Последняя, предсмертная неделя архиерея Петра приходится на «страстную» неделю, когда верующие вспоминают о последней неделе земной жизни Христа и свершают соответствующие службы. И Чехов показывает все «страсти» и мучения своего героя, невидимые миру. Неслучайно он исподволь, но последовательно напоминает о датах, подчеркнуто точно обозначает дни: «вербное воскресенье», «во вторник после обедни», «в четверг он служил обедню в соборе, было омовение ног», «пора к страстям господним», «под утро, в субботу... преосвященный приказал долго жить», «а на другой день была пасха».
Для Чехова жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа – поэтический миф, не более, но такой отдаленный намек, в духе миросозерцания героя, позволяет ему решить важные художественные задачи. (Конечно, Чехов не делает прямолинейных сравнений; для него достаточно отдаленного, едва уловимого намека-символа.) Особый смысл приобретает одиночество Петра, преданного на муки грубой жизни; Петра забыли, пример его жизни остался нераскрытым для людей, поглощенных мелочами и суетой. Все эти факты, относящиеся к данному человеку, воспринимаются в более широком плане, так как находят некоторую параллель в общеизвестной мифологии.
Современное литературоведение, опираясь на практику литературы XX века, значительно расширило традиционное понимание мифологического материала, сделало более подвижной границу между мифологией и литературой. Мотивы, взятые не только из древних мифологий, но и из мифологий, использующих легенды, некоторые сюжеты литературных произведений, стали источником праобразов, выступающих в современной литературе на правах мифологии.
Отмечено, что среди архетипических структур, используемых Чеховым в его произведениях, особое значение имеют взятые из «Гамлета», «Фауста», «Анны Карениной».
«Чайка» давно названа шекспировской пьесой Чехова. Немало было написано о сходстве сцены представления пьесы Треплева со сценой «мышеловки», а в линии Треплев – Аркадина – Нина отмечалось сходство с линией Гамлет – Гертруда – Офелия; Для А. Роскина строки из «Гамлета» – лейтмотив «Чайки»; по мнению Д. Магаршака, эти всем известные фразы нужны для создания атмосферы сходных настроений между зрительным залом и персонажами пьесы; Т. Виннер видит в том, что Чехов помещает своих героев в ситуации, сходные с ситуациями «Гамлета», авторский иронический комментарий, в свете которого «Чайка» становится в «перевернутое» соотношение с шекспировской трагедией.
Т. Виннер, анализируя «Черного монаха», сопоставляет его с гетевским «Фаустом». Чеховский магистр Коврин сравнивает себя с великими фигурами истории, думает о стремлении к всепознанию, как Фауст, хочет, видеть цель своей жизни в служении общему благу людей, его фантом – черный монах – уверяет Коврина в избранничестве. Аналогия с «Фаустом» поддерживается соответствием черного монаха Мефистофелю (можно добавить, что в некоторых сценах народной книги о Фаусте Мефистофель является в виде монаха), а в Тане видится известное сходство с Маргаритой. Но аналогия, продолжает Т. Виннер, иронична, поскольку Коврин не обладает величием Фауста, а черный монах не способен ответить на главный вопрос («Что ты разумеешь под вечной правдой?») и не обладает могуществом Мефистофеля. Из этого Т. Виннер делает вывод, что «верный монах» – «рассказ о посредственном и бесплодном ученом, который... под влиянием речей черного монаха возомнил, что он – интеллектуальный гигант... Он столь же незначителен, как стадо, которое учит презирать его черный монах».
Сопоставление «Черного монаха» с мифом нового времени, мифом о Фаусте, позволило исследователю углубленно проанализировать философский аспект рассказа, однако Т. Виннеру не удалось избежать упущения, столь распространенного в работах об этом «загадочном» рассказе Чехова. При толковании авторского отношения к герою рассказа часто упускается из вида, что Чехов с самого начала рассказа изобразил своего магистра больным, поэтому обвинять Коврина не приходится ни за слова, ни за действия (трагедия окружающих в том, что они не замечают болезни героя), а прекрасные слова, которые произносит в его воображении черный монах, – это бред безумца. В «Черном монахе» отчетливо звучит трагическая ирония Чехова, вновь рассказывающего историю об обыкновенном человеке, разбитом жизнью «на манер тысячепудового камня», и невозможно объяснить эту иронию лишь тем, что рассказ Чехова является «ослабленной версией мифа».
Приведенные примеры показывают, сколь специфично использование мифологических мотивов у Чехова. «Эхо мифа» придает новую эмоциональную глубину произведению, позволяет осознать его в ироническом или, наоборот, патетическом плане. Но чаще всего мифологические и литературные праобразы Чеховым переиначиваются, снижаются. Наконец, никогда произведение Чехова не сводится целиком к вариации того или иного мифа. Забыв об этом, можно прийти к выводам, обедняющим или искажающим смысл такого произведения. Так, Р. Поджоли в своей книге «Феникс и паук», анализируя «Душечку» Чехова как версию мифа о Психее, утверждает, что Чехов показал в Оленьке Племянниковой более мудрый вариант Психеи: в отличие от праобраза из греческой мифологии, ею не владеет любопытство узнать, кого она любит. В духе трактовки «Душечки» Л. Толстым Поджоли пишет, что «Оленька бессознательно понимает то, чего не поняла Психея: что любовь слепа и должна остаться такою». Т. Виннер в своей монографии, справедливо возражая Поджоли, пишет, что Оленька Племянникова – скорее ироническое отражение образа героини древнегреческой мифологии. «Те, кого любит Оленька, не что иное, как абсурдные тени бога любви». И если бы Оленька была способна пролить свет разумного осмысления на своих любовников, подобно тому как Психея пролила свет лампы на Эроса, возлюбленные чеховской Душечки могли бы потерять в ее глазах все свои достоинства. «Но не какие-то божественные качества, а их вполне прозаические атрибуты не вынесли бы ближайшего рассмотрения», замечает Т. Виннер. Таким образом, заключает он, можно говорить о том, что какое-то эхо мифа присутствует в «Душечке», оно же позволяет понять, что чеховская Душечка, сохраняющая свои иллюзии, слишком наивна, чтобы видеть или сомневаться.
***
Мифологическое начало в чеховских произведениях – лишь одна сторона вопроса об отношении Чехова к мифологической универсальности художественных образов. Сейчас можно уже говорить и об отношениях обратного порядка.
XX век дал примеры небывало широкого и сознательного использования мифов в литературе. Одно из недавних произведений, написанных в жанре «мифологического романа», – вышедший в 1968 г. в Лондоне роман Макдональда Харриса (псевдоним) «Треплев».
Роман представляет собой записки современного молодого американца. Вначале это преуспевающий психиатр с обширной практикой, дом его соответствует всем стандартам буржуазного благополучия, он счастлив в семье. Затем, после того как он вступает в связь с одной из своих пациенток и это получает скандальную огласку, герой изгоняется из профессиональной корпорации, а во время бракоразводного процесса и тяжбы с адвокатами жены лишается почти всех своих сбережений. После этого он переплывает на теплоходе Атлантику и оказывается в Европе; теперь он своего рода жиголо, наемный партнер при стареющей богатой американке, путешествующей по Европе, для которой повелевание нашим героем – это средство уверить себя в том, что молодость и неотразимость еще не ушли от нее. Играя на ее страхах, герой доводит свою спутницу до самоубийства, сам же все более деградирует; он взят полицией после скандала с некоей проституткой и после медицинского освидетельствования помещен в психиатрическую лечебницу, где и ведет свои записки.
Сюжет романа вполне обычен для современной западной литературы, интересен же он тем, что вся рассказанная в нем история освещена отраженным светом пьесы Чехова «Чайка», а герои Макдональда Харриса осознают и оценивают свое жизненное поведение в свете аналогии с треугольником Треплев – Нина Заречная – Тригорин.
Отождествление себя с каким-либо литературным героем известно нам, скажем, по чеховской «Дуэли», где Лаевский отождествляет себя то с Гамлетом, то с... Анной Карениной («Ах, как безжалостно прав Толстой!»). Но если в «Дуэли» это лишь иронический штрих к характеристике лгущего себе и другим персонажа, то в романе «Треплев» отождествление с литературными праобразами проведено последовательно, с начала до конца. В общем виде это выглядит так: главный герой, осознавший себя вначале Треплевым, пытается затем жить жизнью Тригорина, но в конце возвращается к жизненной позиции молодого героя «Чайки».
«Чайка» Чехова стала, таким образом, для романа «Треплев» мифологемой: структурой, формирующей, моделирующей для его героев окружающий мир и их позицию в нем.
В первей главе герой-повествователь сообщает: «Я познакомился со своей женой во время любительской постановки «Чайки». И начинается роман с того, что кажется воспроизведением одного из эпизодов пьесы Чехова: в режиссера этой любительской постановки и исполнителя роли Тригорина некоего Эгона влюбляется Исполнительница роли Нины Сид, которую он бросает, когда она ждет ребенка. Эгон – страстный поклонник системы Станиславского, понятой им, впрочем, вульгарно: «Пока пьеса репетировалась, готовилась к постановке, он хотел, чтобы они думали о себе не как об актерах, а как о людях, чьи роли они играют». Но далее оказывается, что мотив «Чайки» был введен, чтобы затем характеры действующих лиц романа взяли верх и начали развиваться согласно своей логике. Сид, покинутая Эгоном-Тригориным, отказывается от всякой симпатии, которую она прежде питала к роли Нины, повествователь (исполнитель роли Треплева) также выступает против своей роли в пьесе: «Теперь я видел, что все было просто, гораздо проще, чем я воображал. Я не должен быть Треплевым, я не хочу быть Треплевым». Он ставит перед собой цель – добиться успеха в жизни. В конце первой главы мы видим его преуспевающим: Сид теперь его жена, их жизнь идиллична. Но затем весь ход романа показывает, что эта попытка героя избавиться от Треплева в самом себе оказалась иллюзорной.
Первая глава, своего рода увертюра к роману, содержит пьесу внутри себя, точно так же, как пьеса Треплева означает увертюру к собственно «Чайке». Исходная точка в развитии героя романа «Треплев» – положение преуспевающего специалиста, счастливого в своей семейной жизни. Но затем повествование удаляется от этого стереотипа безмятежности. Постепенно отказываясь играть роль Треплева, герой все больше стремится утвердить себя как своего рода Тригорина; «манипулятора людьми». Таким он кажется себе и в истории с пациенткой, таким он хочет быть и в отношениях с богатой американкой по имени Надя (ее имя – анаграмма последней части фамилии Аркадина, и она призвана быть «эквивалентом» этой героини «Чайки»). В осмыслении своего положения, отношений с окружающими герой постоянно возвращается к чеховским праобразам: «Часть меня ненавидела ее, другая – стремилась к ней, но наиболее разумное, ясное безэмоциональное тригоринское начало восхищалось ею». Однако богатая, привыкшая к повиновению Надя является манипулятором в гораздо большей степени, чем он сам. И этот «кризис идентификации», а точнее, кризис его неопределенного положения в обществе и в жизни вообще постепенно приводит героя в. психиатрическую лечебницу. Последняя вариация на мотив «Чайки» в этом романе: повествователь сообщает, что его осматривал некий доктор Дорн. Между сумасшедшим и его опекунами устанавливается своего рода взаимопонимание:
«Дорн – единственный человек, которому я поверяю свои тайны, и по этой причине он внимательно следит, чтобы никто не подслушал, когда он называет меня по имени. Когда он появляется в дверях, улыбка уже играет у него под мягкими усами, он оглядывается и затем приветствует меня: «Доброе утро, Константин Гаврилович!» И мы оба улыбаемся, притворяясь, что это шутка, хотя хорошо знаем, что это не шутка, а наша тайна. Если бы кто-то подслушал нас, мы, конечно, могли бы притвориться, что это всего лишь шутка, и таким образом наша тайна осталась бы нераскрытой. «Что вы делали сегодня утром? Подстрелили чайку?» «Нет, я выстрелил, но промахнулся». «Если вы подстрелите чайку, можете положить ее у моих ног». «А я уже положил одну к вашим ногам – ту, которую я убил, потому что она выбрасывала мои туфли из окна». Повествователь имеет в виду Надю, но, возможно, говорит и о себе.
Роман «Треплев», с его методом использования образов чеховской пьесы, соответствует тому, что получило в современном литературоведении название мифологического романа: мифологическая параллель мыслится как аналогия или контраст современному миру, в котором совершаются основные события романа. Миф – в данном случае сюжет популярного произведения литературы – становится основным структурным принципом произведения.
Книга М. Харгиса в целом оправдывает ту характеристику, которая дается мифотворческой литературе XX века в работах советских исследователей: она связана с внеисторичными концепциями бытия, согласно которым мир есть лишь «замкнутая в себе неразвивающаяся система», где некие прафеномены лишь «меняют облик в вечном круговороте превращений». Можно говорить и о внелитературных причинах, объясняющих сходство в поведении героев, живших в эпоху загнивания русского царизма и в современном американском обществе (хотя вообще объяснять огромный интерес к Чехову в современном мире только близостью общественного уклада чеховской эпохи и современного капитализма было бы неверно).
Наконец, естествен и такой вопрос: «Чайкой» объясняют самих себя герои романа «Треплев», но в какой степени имеет место обратное явление: как «Треплев» объясняет собой «Чайку»? Совершенно очевидно, как ни изощренно истолковываются и освещаются светом современности связи между отдельными парами чеховских персонажей, такие истолкования их сущности, как Треплев – «нечто среднее между мужской ролью и немужским поведением» или Тригорин – «манипулятор людьми», означают отход далеко в сторону от подлинной сути чеховской пьесы. Д. Магаршак в книге «Подлинный Чехов» пишет о том «всеобщем сумасшествии, которое является столь характерной чертой культа Чехова» в современной Англии и Америке. Отчасти роман «Треплев» иллюстрирует эту обстановку.
Но хотелось бы обратить внимание на иную сторону. В XX веке миф перестал быть достоянием общенародного сознания, став достоянием отдельных социальных коллективов. Круг читателей, которому адресован роман «Треплев» и в пределах которого возможно восприятие данного мифа, достаточно велик – судя хотя бы по рецензиям на роман, которые поместили крупнейшие английские газеты, по подробному анализу его в монографии Дж. Уайта «Мифология в современном романе», выдержавшей уже два издания (1971, 1973). Нам хорошо известно, что значил Чехов для Голсуорси и Хемингуэя, для Б. Шоу и С. Моэма, для А. Миллера и Дж. Пристли. И возможность появления беллетристического произведения с подобным сюжетом говорит о действительно широчайшей популярности творчества Чехова в Англии и США, о возможности интимного переживания его произведений зарубежным читателем.
Л-ра: Филологические науки. – 1976. – № 5. – С. 71-77.