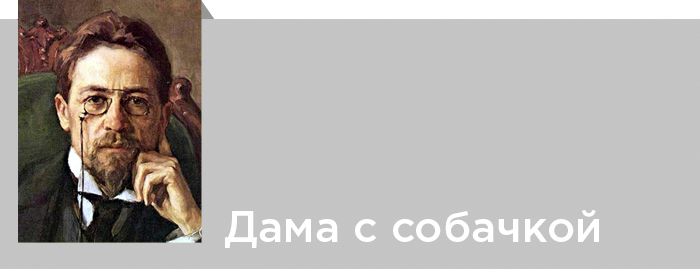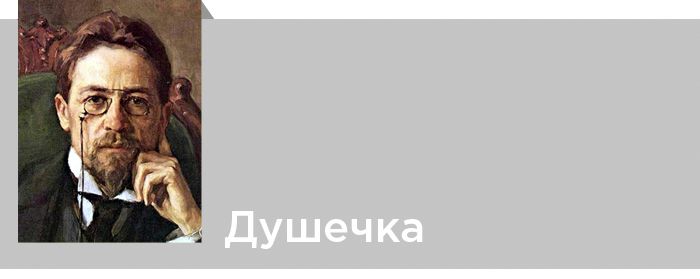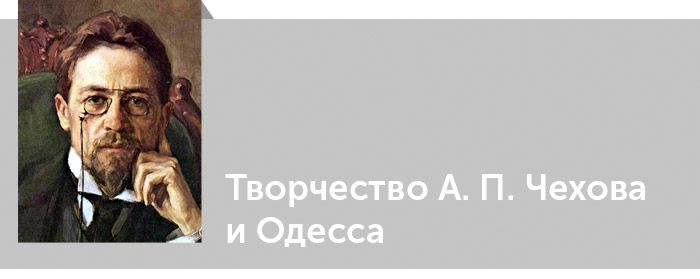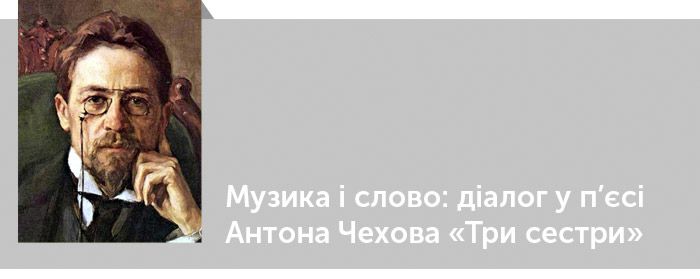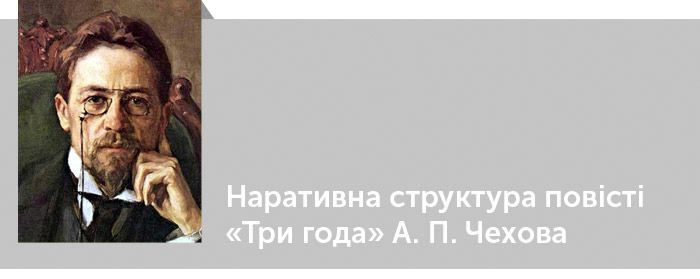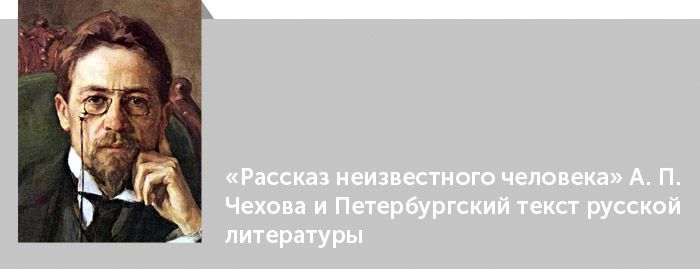Невеста
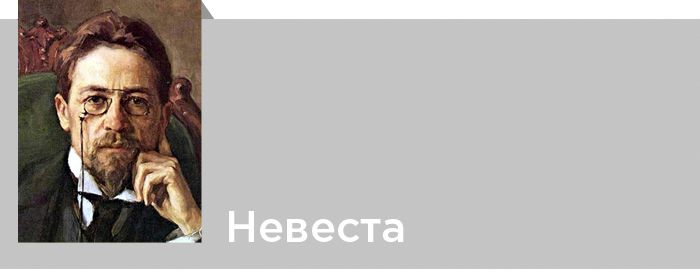
I
Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. В доме Шуминых только что кончилась всенощная, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна, и теперь Наде — она вышла в сад на минутку — видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье суетилась бабушка; отец Андрей, соборный протоиерей, говорил о чем-то с матерью Нади, Ниной Ивановной, и теперь мать при вечернем освещении сквозь окно почему-то казалась очень молодой; возле стоял сын отца Андрея, Андрей Андреич, и внимательно слушал.
В саду было тихо, прохладно, и темные покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть, за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах, развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать.
Ей, Наде, было уже 23 года; с 16 лет она страстно мечтала о замужестве, и теперь наконец она была невестой Андрея Андреича, того самого, который стоял за окном; он ей нравился, свадьба была уже назначена на седьмое июля, а между тем радости не было, ночи спала она плохо, веселье пропало... Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке; пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца!
Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце: это Александр Тимофеич, или, попросту, Саша, гость, приехавший из Москвы дней десять назад. Когда-то давно к бабушке хаживала за подаяньем ее дальняя родственница, Марья Петровна, обедневшая дворянка-вдова, маленькая, худенькая, больная. У нее был сын Саша. Почему-то про него говорили, что он прекрасный художник, и, когда у него умерла мать, бабушка, ради спасения души, отправила его в Москву в Комиссаровское училище; года через два перешел он в Училище живописи, пробыл здесь чуть ли не пятнадцать лет и кончил по архитектурному отделению, с грехом пополам, но архитектурой все-таки не занимался, а служил в одной из московских литографий. Почти каждое лето приезжал он, обыкновенно очень больной, к бабушке, чтобы отдохнуть и поправиться.
На нем был теперь застегнутый сюртук и поношенные парусинковые брюки, стоптанные внизу. И сорочка была неглаженая, и весь он имел какой-то несвежий вид. Очень худой, с большими глазами, с длинными худыми пальцами, бородатый, темный и все-таки красивый. К Шуминым он привык, как к родным, и у них чувствовал себя, как дома. И комната, в которой он жил здесь, называлась уже давно Сашиной комнатой.
Стоя на крыльце, он увидел Надю и пошел к ней.
— Хорошо у вас здесь, — сказал он.
— Конечно, хорошо. Вам бы здесь до осени пожить.
— Да, должно, так придется. Пожалуй, до сентября у вас тут проживу.
Он засмеялся без причины и сел рядом.
— А я вот сижу и смотрю отсюда на маму, — сказала Надя. — Она кажется отсюда такой молодой! У моей мамы, конечно, есть слабости, — добавила она, помолчав, — но всё же она необыкновенная женщина.
— Да, хорошая... — согласился Саша. — Ваша мама по-своему, конечно, и очень добрая и милая женщина, но... как вам сказать? Сегодня утром рано зашел я к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кроватей нет, вместо постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы... То же самое, что было двадцать лет назад, никакой перемены. Ну, бабушка, бог с ней, на то она и бабушка; а ведь мама небось по-французски говорит, в спектаклях участвует. Можно бы, кажется, понимать.
Когда Саша говорил, то вытягивал перед слушателем два длинных, тощих пальца.
— Мне всё здесь как-то дико с непривычки, — продолжал он. — Чёрт знает, никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь, бабушка тоже ничего не делает, вы — тоже. И жених, Андрей Андреич, тоже ничего не делает.
Надя слышала это и в прошлом году и, кажется, в позапрошлом и знала, что Саша иначе рассуждать не может, и это прежде смешило ее, теперь же почему-то ей стало досадно.
— Всё это старо и давно надоело, — сказала она и встала. — Вы бы придумали что-нибудь поновее.
Он засмеялся и тоже встал, и оба пошли к дому. Она, высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядом с ним очень здоровой и нарядной; она чувствовала это, и ей было жаль его и почему-то неловко.
— И говорите вы много лишнего, — сказала она. — Вот вы только что говорили про моего Андрея, но ведь вы его не знаете.
— Моего Андрея... Бог с ним, с вашим Андреем! Мне вот молодости вашей жалко.
Когда вошли в зал, там уже садились ужинать. Бабушка, или, как ее называли в доме, бабуля, очень полная, некрасивая, с густыми бровями и с усиками, говорила громко, и уже по ее голосу и манере говорить было заметно, что она здесь старшая в доме. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке и старинный дом с колоннами и садом, но она каждое утро молилась, чтобы бог спас ее от разорения, и при этом плакала. И ее невестка, мать Нади, Нина Ивановна, белокурая, сильно затянутая, в pince-nez и с бриллиантами на каждом пальце; и отец Андрей, старик, худощавый, беззубый и с таким выражением, будто собирался рассказать что-то очень смешное; и его сын Андрей Андреич, жених Нади, полный и красивый, с вьющимися волосами, похожий на артиста или художника, — все трое говорили о гипнотизме.
— Ты у меня в неделю поправишься, — сказала бабуля, обращаясь к Саше, — только вот кушай побольше. И на что ты похож! — вздохнула она. — Страшный ты стал! Вот уж подлинно, как есть, блудный сын.
— Отеческаго дара расточив богатство, — проговорил отец Андрей медленно, со смеющимися глазами, — с бессмысленными скоты пасохся окаянный...
— Люблю я своего батьку, — сказал Андрей Андреич и потрогал отца за плечо. — Славный старик. Добрый старик.
Все помолчали. Саша вдруг засмеялся и прижал ко рту салфетку.
— Стало быть, вы верите в гипнотизм? — спросил отец Андрей у Нины Ивановны.
— Я не могу, конечно, утверждать, что я верю, — ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьезное, даже строгое выражение, — но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного.
— Совершенно с вами согласен, хотя должен прибавить от себя, что вера значительно сокращает нам область таинственного.
Подали большую, очень жирную индейку. Отец Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговор. У Нины Ивановны блестели бриллианты на пальцах, потом на глазах заблестели слезы, она заволновалась.
— Хотя я и не смею спорить с вами, — сказала она, — но согласитесь, в жизни так много неразрешимых загадок!
— Ни одной, смею вас уверить.
После ужина Андрей Андреич играл на скрипке, а Нина Ивановна аккомпанировала на рояли. Он десять лет назад кончил в университете по филологическому факультету, но нигде не служил, определенного дела не имел и лишь изредка принимал участие в концертах с благотворительною целью; и в городе называли его артистом.
Андрей Андреич играл; все слушали молча. На столе тихо кипел самовар, и только один Саша пил чай. Потом, когда пробило двенадцать, лопнула вдруг струна на скрипке; все засмеялись, засуетились и стали прощаться.
Проводив жениха, Надя пошла к себе наверх, где жила с матерью (нижний этаж занимала бабушка). Внизу, в зале, стали тушить огни, а Саша всё еще сидел и пил чай. Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз. Наде, когда она разделась и легла в постель, долго еще было слышно, как внизу убирала прислуга, как сердилась бабуля. Наконец всё затихло, и только слышалось изредка, как в своей комнате, внизу, покашливал басом Саша.
II
Когда Надя проснулась, было, должно быть, часа два, начинался рассвет. Где-то далеко стучал сторож. Спать не хотелось, лежать было очень мягко, неловко. Надя, как и во все прошлые майские ночи, села в постели и стала думать. А мысли были всё те же, что и в прошлую ночь, однообразные, ненужные, неотвязчивые, мысли о том, как Андрей Андреич стал ухаживать за ней и сделал ей предложение, как она согласилась и потом мало-помалу оценила этого доброго, умного человека. Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх, беспокойство, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое.
«Тик-ток, тик-ток... — лениво стучал сторож. — Тик-ток...»
В большое старое окно виден сад, дальние кусты густо цветущей сирени, сонной и вялой от холода; и туман, белый, густой, тихо подплывает к сирени, хочет закрыть ее. На дальних деревьях кричат сонные грачи.
— Боже мой, отчего мне так тяжело!
Быть может, то же самое испытывает перед свадьбой каждая невеста. Кто знает! Или тут влияние Саши? Но ведь Саша уже несколько лет подряд говорит всё одно и то же, как по-писанному, и когда говорит, то кажется наивным и странным. Но отчего же все-таки Саша не выходит из головы? отчего?
Сторож уже давно не стучит. Под окном и в саду зашумели птицы, туман ушел из сада, всё кругом озарилось весенним светом, точно улыбкой. Скоро весь сад, согретый солнцем, обласканный, ожил, и капли росы, как алмазы, засверкали на листьях; и старый, давно запущенный сад в это утро казался таким молодым, нарядным.
Уже проснулась бабуля. Закашлял густым басом Саша. Слышно было, как внизу подали самовар, как двигали стульями.
Часы идут медленно. Надя давно уже встала и давно уже гуляла в саду, а всё еще тянется утро.
Вот Нина Ивановна, заплаканная, со стаканом минеральной воды. Она занималась спиритизмом, гомеопатией, много читала, любила поговорить о сомнениях, которым была подвержена, и всё это, казалось Наде, заключало в себе глубокий, таинственный смысл. Теперь Надя поцеловала мать и пошла с ней рядом.
— О чем ты плакала, мама? — спросила она.
— Вчера на ночь стала я читать повесть, в которой описывается один старик и его дочь. Старик служит где-то, ну, и в дочь его влюбился начальник. Я не дочитала, но там есть такое одно место, что трудно было удержаться от слез, — сказала Нина Ивановна и отхлебнула из стакана. — Сегодня утром вспомнила и тоже всплакнула.
— А мне все эти дни так невесело, — сказала Надя, помолчав. — Отчего я не сплю по ночам?
— Не знаю, милая. А когда я не сплю по ночам, то закрываю глаза крепко-крепко, вот этак, и рисую себе Анну Каренину, как она ходит и как говорит, или рисую что-нибудь историческое, из древнего мира...
Надя почувствовала, что мать не понимает ее и не может понять. Почувствовала это первый раз в жизни, и ей даже страшно стало, захотелось спрятаться; и она ушла к себе в комнату.
А в два часа сели обедать. Была среда, день постный, и потому бабушке подали постный борщ и леща с кашей.
Чтобы подразнить бабушку, Саша ел и свой скоромный суп и постный борщ. Он шутил всё время, пока обедали, но шутки у него выходили громоздкие, непременно с расчетом на мораль, и выходило совсем не смешно, когда он перед тем, как сострить, поднимал вверх свои очень длинные, исхудалые, точно мертвые, пальцы и когда приходило на мысль, что он очень болен и, пожалуй, недолго еще протянет на этом свете; тогда становилось жаль его до слез.
После обеда бабушка ушла к себе в комнату отдыхать, Нина Ивановна недолго поиграла на рояли и потом тоже ушла.
— Ах, милая Надя, — начал Саша свой обычный послеобеденный разговор, — если бы вы послушались меня! если бы!
Она сидела глубоко в старинном кресле, закрыв глаза, а он тихо ходил по комнате, из угла в угол.
— Если бы вы поехали учиться! — говорил он. — Только просвещенные и святые люди интересны, только они и нужны. Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие божие на земле. От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне — всё полетит вверх дном, всё изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди... Но главное не это. Главное то, что толпы в нашем смысле, в каком она есть теперь, этого зла тогда не будет, потому что каждый человек будет веровать и каждый будет знать, для чего он живет, и ни один не будет искать опоры в толпе. Милая, голубушка, поезжайте! Покажите всем, что эта неподвижная, серая, грешная жизнь надоела вам. Покажите это хоть себе самой!
— Нельзя, Саша. Я выхожу замуж.
— Э, полно! Кому это нужно?
Вышли в сад, прошлись немного.
— И как бы там ни было, милая моя, надо вдуматься, надо понять, как нечиста, как безнравственна эта ваша праздная жизнь, — продолжал Саша. — Поймите же, ведь если, например, вы и ваша мать и ваша бабулька ничего не делаете, то, значит, за вас работает кто-то другой, вы заедаете чью-то чужую жизнь; а разве это чисто, не грязно?
Надя хотела сказать: «да, это правда»; хотела сказать, что она понимает; но слезы показались у нее на глазах, она вдруг притихла, сжалась вся и ушла к себе.
Перед вечером приходил Андрей Андреич и по обыкновению долго играл на скрипке. Вообще он был неразговорчив и любил скрипку, быть может, потому, что во время игры можно было молчать. В одиннадцатом часу, уходя домой, уже в пальто, он обнял Надю и стал жадно целовать ее лицо, плечи, руки.
— Дорогая, милая моя, прекрасная!.. — бормотал он. — О, как я счастлив! Я безумствую от восторга!
И ей казалось, что это она уже давно слышала, очень давно, или читала где-то... в романе, в старом, оборванном, давно уже заброшенном.
В зале Саша сидел у стола и пил чай, поставив блюдечко на свои длинные пять пальцев; бабуля раскладывала пасьянс, Нина Ивановна читала. Трещал огонек в лампадке, и всё, казалось, было тихо, благополучно. Надя простилась и пошла к себе наверх, легла и тотчас же уснула. Но, как и в прошлую ночь, едва забрезжил свет, она уже проснулась. Спать не хотелось, на душе было непокойно, тяжело. Она сидела, положив голову на колени, и думала о женихе, о свадьбе... Вспомнила она почему-то, что ее мать не любила своего покойного мужа и теперь ничего не имела, жила в полной зависимости от своей свекрови, бабули. И Надя, как ни думала, не могла сообразить, почему до сих пор она видела в своей матери что-то особенное, необыкновенное, почему не замечала простой, обыкновенной, несчастной женщины.
И Саша не спал внизу — слышно было, как он кашлял. Это странный, наивный человек, думала Надя, и в его мечтах, во всех этих чудесных садах, фонтанах необыкновенных чувствуется что-то нелепое; но почему-то в его наивности, даже в этой нелепости столько прекрасного, что едва она только вот подумала о том, не поехать ли ей учиться, как всё сердце, всю грудь обдало холодком, залило чувством радости, восторга.
— Но лучше не думать, лучше не думать... — шептала она. — Не надо думать об этом.
«Тик-ток... — стучал сторож где-то далеко. — Тик-ток... тик-ток...»
III
Саша в середине июня стал вдруг скучать и засобирался в Москву.
— Не могу я жить в этом городе, — говорил он мрачно. — Ни водопровода, ни канализации! Я есть за обедом брезгаю: в кухне грязь невозможнейшая...
— Да погоди, блудный сын! — убеждала бабушка почему-то шёпотом, — седьмого числа свадьба!
— Не желаю.
— Хотел ведь у нас до сентября пожить!
— А теперь вот не желаю. Мне работать нужно!
Лето выдалось сырое и холодное, деревья были мокрые, всё в саду глядело неприветливо, уныло, хотелось в самом деле работать. В комнатах, внизу и наверху, слышались незнакомые женские голоса, стучала у бабушки швейная машина: это спешили с приданым. Одних шуб за Надей давали шесть, и самая дешевая из них, по словам бабушки, стоила триста рублей! Суета раздражала Сашу; он сидел у себя в комнате и сердился; но всё же его уговорили остаться, и он дал слово, что уедет первого июля, не раньше.
Время шло быстро. На Петров день после обеда Андрей Андреич пошел с Надей на Московскую улицу, чтобы еще раз осмотреть дом, который наняли и давно уже приготовили для молодых. Дом двухэтажный, но убран был пока только верхний этаж. В зале блестящий пол, выкрашенный под паркет, венские стулья, рояль, пюпитр для скрипки. Пахло краской. На стене в золотой раме висела большая картина, написанная красками: нагая дама и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой.
— Чудесная картина, — проговорил Андрей Андреич и из уважения вздохнул. — Это художника Шишмачевского.
Дальше была гостиная с круглым столом, диваном и креслами, обитыми ярко-голубой материей. Над диваном большой фотографический портрет отца Андрея в камилавке и в орденах. Потом вошли в столовую с буфетом, потом в спальню; здесь в полумраке стояли рядом две кровати, и похоже было, что когда обставляли спальню, то имели в виду, что всегда тут будет очень хорошо и иначе быть не может. Андрей Андреич водил Надю по комнатам и всё время держал ее за талию; а она чувствовала себя слабой, виноватой, ненавидела все эти комнаты, кровати, кресла, ее мутило от нагой дамы. Для нее уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андреича или, быть может, не любила его никогда; но как это сказать, кому сказать и для чего, она не понимала и не могла понять, хотя думала об этом все дни, все ночи... Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив, расхаживая по этой своей квартире; а она видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость, и его рука, обнимавшая ее талию, казалась ей жесткой и холодной, как обруч. И каждую минуту она готова была убежать, зарыдать, броситься в окно. Андрей Андреич привел ее в ванную и здесь дотронулся до крана, вделанного в стену, и вдруг потекла вода.
— Каково? — сказал он и засмеялся. — Я велел сделать на чердаке бак на сто ведер, и вот мы с тобой теперь будем иметь воду.
Прошлись по двору, потом вышли на улицу, взяли извозчика. Пыль носилась густыми тучами, и казалось, вот-вот пойдет дождь.
— Тебе не холодно? — спросил Андрей Андреич, щурясь от пыли.
Она промолчала.
— Вчера Саша, ты помнишь, упрекнул меня в том, что я ничего не делаю, — сказал он, помолчав немного. — Что же, он прав! бесконечно прав! Я ничего не делаю и не могу делать. Дорогая моя, отчего это? Отчего мне так противна даже мысль о том, что я когда-нибудь нацеплю на лоб кокарду и пойду служить? Отчего мне так не по себе, когда я вижу адвоката, или учителя латинского языка, или члена управы? О матушка Русь! О матушка Русь, как еще много ты носишь на себе праздных и бесполезных! Как много на тебе таких, как я, многострадальная!
И то, что он ничего не делал, он обобщал, видел в этом знамение времени.
— Когда женимся, — продолжал он, — то пойдем вместе в деревню, дорогая моя, будем там работать! Мы купим себе небольшой клочок земли с садом, рекой, будем трудиться, наблюдать жизнь... О, как это будет хорошо!
Он снял шляпу, и волосы развевались у него от ветра, а она слушала его и думала: «Боже, домой хочу! Боже!» Почти около самого дома они обогнали отца Андрея.
— А вот и отец идет! — обрадовался Андрей Андреич и замахал шляпой. — Люблю я своего батьку, право, — сказал он, расплачиваясь с извозчиком. — Славный старик. Добрый старик.
Вошла Надя в дом сердитая, нездоровая, думая о том, что весь вечер будут гости, что надо занимать их, улыбаться, слушать скрипку, слушать всякий вздор и говорить только о свадьбе. Бабушка, важная, пышная в своем шелковом платье, надменная, какою она всегда казалась при гостях, — сидела у самовара. Вошел отец Андрей со своей хитрой улыбкой.
— Имею удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здоровье, — сказал он бабушке, и трудно было понять, шутит это он или говорит серьезно.
IV
Ветер стучал в окна, в крышу; слышался свист, и в печи домовой жалобно и угрюмо напевал свою песенку. Был первый час ночи. В доме все уже легли, но никто не спал, и Наде всё чуялось, что внизу играют на скрипке. Послышался резкий стук, должно быть, сорвалась ставня. Через минуту вошла Нина Ивановна в одной сорочке, со свечой.
— Что это застучало, Надя? — спросила она.
Мать, с волосами, заплетенными в одну косу, с робкой улыбкой, в эту бурную ночь казалась старше, некрасивее, меньше ростом. Наде вспомнилось, как еще недавно она считала свою мать необыкновенной и с гордостью слушала слова, какие она говорила; а теперь никак не могла вспомнить этих слов; всё, что приходило на память, было так слабо, ненужно.
В печке раздалось пение нескольких басов и даже послышалось: «А-ах, бо-о-же мой!» Надя села в постели и вдруг схватила себя крепко за волосы и зарыдала.
— Мама, мама, — проговорила она, — родная моя, если б ты знала, что со мной делается! Прошу тебя, умоляю, позволь мне уехать! Умоляю!
— Куда? — спросила Нина Ивановна, не понимая, и села на кровать. — Куда уехать?
Надя долго плакала и не могла выговорить ни слова.
— Позволь мне уехать из города! — сказала она наконец. — Свадьбы не должно быть и не будет — пойми! Я не люблю этого человека... И говорить о нем не могу,
— Нет, родная моя, нет, — заговорила Нина Ивановна быстро, страшно испугавшись. — Ты успокойся — это у тебя от нерасположения духа. Это пройдет. Это бывает. Вероятно, ты повздорила с Андреем; но милые бранятся — только тешатся.
— Ну, уйди, мама, уйди! — зарыдала Надя.
— Да, — сказала Нина Ивановна, помолчав. — Давно ли ты была ребенком, девочкой, а теперь уже невеста. В природе постоянный обмен веществ. И не заметишь, как сама станешь матерью и старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня.
— Милая, добрая моя, ты ведь умна, ты несчастна, — сказала Надя, — ты очень несчастна, — зачем же ты говоришь пошлости? Бога ради, зачем?
Нина Ивановна хотела что-то сказать, но не могла выговорить ни слова, всхлипнула и ушла к себе. Басы опять загудели в печке, стало вдруг страшно. Надя вскочила с постели и быстро пошла к матери. Нина Ивановна, заплаканная, лежала в постели, укрывшись голубым одеялом, и держала в руках книгу.
— Мама, выслушай меня! — проговорила Надя. — Умоляю тебя, вдумайся и пойми! Ты только пойми, до какой степени мелка и унизительна наша жизнь. У меня открылись глаза, я теперь всё вижу. И что такое твой Андрей Андреич? Ведь он же неумен, мама! Господи боже мой! Пойми, мама, он глуп!
Нина Ивановна порывисто села.
— Ты и твоя бабка мучаете меня! — сказала она, вспыхнув. — Я жить хочу! жить! — повторила она и раза два ударила кулачком по груди. — Дайте же мне свободу! Я еще молода, я жить хочу, а вы из меня старуху сделали!..
Она горько заплакала, легла и свернулась под одеялом калачиком, и показалась такой маленькой, жалкой, глупенькой. Надя пошла к себе, оделась и, севши у окна, стала поджидать утра. Она всю ночь сидела и думала, а кто-то со двора всё стучал в ставню и насвистывал.
Утром бабушка жаловалась, что в саду ночью ветром посбивало все яблоки и сломало одну старую сливу. Было серо, тускло, безотрадно, хоть огонь зажигай; все жаловались на холод, и дождь стучал в окна. После чаю Надя вошла к Саше и, не сказав ни слова, стала на колени в углу у кресла и закрыла лицо руками.
— Что? — спросил Саша.
— Не могу... — проговорила она. — Как я могла жить здесь раньше, не понимаю, не постигаю! Жениха я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь...
— Ну, ну... — проговорил Саша, не понимая еще, в чем дело. — Это ничего... Это хорошо.
— Эта жизнь опостылела мне, — продолжала Надя, — я не вынесу здесь и одного дня. Завтра же я уеду отсюда. Возьмите меня с собой, бога ради!
Саша минуту смотрел на нее с удивлением; наконец он понял и обрадовался, как ребенок. Он взмахнул руками и начал притоптывать туфлями, как бы танцуя от радости.
— Великолепно! — говорил он, потирая руки. — Боже, как это хорошо!
А она глядела на него не мигая, большими, влюбленными глазами, как очарованная, ожидая, что он тотчас же скажет ей что-нибудь значительное, безграничное по своей важности; он еще ничего не сказал ей, но уже ей казалось, что перед нею открывается нечто новое и широкое, чего она раньше не знала, и уже она смотрела на него, полная ожиданий, готовая на всё, хотя бы на смерть.
— Завтра я уезжаю, — сказал он, подумав, — и вы поедете на вокзал провожать меня... Ваш багаж я заберу в свой чемодан и билет вам возьму; а во время третьего звонка вы войдете в вагон — мы и поедем. Проводите меня до Москвы, а там вы одни поедете в Петербург. Паспорт у вас есть?
— Есть.
— Клянусь вам, вы не пожалеете и не раскаетесь, — сказал Саша с увлечением. — Поедете, будете учиться, а там пусть вас носит судьба. Когда перевернете вашу жизнь, то всё изменится. Главное — перевернуть жизнь, а всё остальное не важно. Итак, значит, завтра поедем?
— О да! Бога ради!
Наде казалось, что она очень взволнована, что на душе у нее тяжело, как никогда, что теперь до самого отъезда придется страдать и мучительно думать; но едва она пришла к себе наверх и прилегла на постель, как тотчас же уснула и спала крепко, с заплаканным лицом, с улыбкой, до самого вечера.
V
Послали за извозчиком. Надя, уже в шляпе и пальто, пошла наверх, чтобы еще раз взглянуть на мать, на всё свое; она постояла в своей комнате около постели, еще теплой, осмотрелась, потом пошла тихо к матери. Нина Ивановна спала, в комнате было тихо. Надя поцеловала мать и поправила ей волосы, постояла минуты две... Потом не спеша вернулась вниз.
На дворе шел сильный дождь. Извозчик с крытым верхом, весь мокрый, стоял у подъезда.
— Не поместишься с ним, Надя, — сказала бабушка, когда прислуга стала укладывать чемоданы. — И охота в такую погоду провожать! Оставалась бы дома. Ишь ведь дождь какой!
Надя хотела сказать что-то и не могла. Вот Саша подсадил Надю, укрыл ей ноги пледом. Вот и сам он поместился рядом.
— В добрый час! Господь благословит! — кричала с крыльца бабушка. — Ты же, Саша, пиши нам из Москвы!
— Ладно. Прощайте, бабуля!
— Сохрани тебя царица небесная!
— Ну, погодка! — проговорил Саша.
Надя теперь только заплакала. Теперь уже для нее ясно было, что она уедет непременно, чему она все-таки не верила, когда прощалась с бабушкой, когда глядела на мать. Прощай, город! И всё ей вдруг припомнилось: и Андрей, и его отец, и новая квартира, и нагая дама с вазой; и всё это уже не пугало, не тяготило, а было наивно, мелко и уходило всё назад и назад. А когда сели в вагон и поезд тронулся, то всё это прошлое, такое большое и серьезное, сжалось в комочек, и разворачивалось громадное, широкое будущее, которое до сих пор было так мало заметно. Дождь стучал в окна вагона, было видно только зеленое поле, мелькали телеграфные столбы да птицы на проволоках, и радость вдруг перехватила ей дыхание: она вспомнила, что она едет на волю, едет учиться, а это всё равно, что когда-то очень давно называлось уходить в казачество. Она и смеялась, и плакала, и молилась.
— Ничего-о! — говорил Саша ухмыляясь. — Ничего-о!
VI
Прошла осень, за ней прошла зима. Надя уже сильно тосковала и каждый день думала о матери и о бабушке, думала о Саше. Письма из дому приходили тихие, добрые, и, казалось, всё уже было прощено и забыто. В мае после экзаменов она, здоровая, веселая, поехала домой и на пути остановилась в Москве, чтобы повидаться с Сашей. Он был всё такой же, как и прошлым летом: бородатый, со всклокоченной головой, всё в том же сюртуке и парусинковых брюках, всё с теми же большими, прекрасными глазами; но вид у него был нездоровый, замученный, он и постарел, и похудел, и всё покашливал. И почему-то показался он Наде серым, провинциальным.
— Боже мой, Надя приехала! — сказал он и весело рассмеялся. — Родная моя, голубушка!
Посидели в литографии, где было накурено и сильно, до духоты пахло тушью и красками; потом пошли в его комнату, где было накурено, наплевано; на столе возле остывшего самовара лежала разбитая тарелка с темной бумажкой, и на столе и на полу было множество мертвых мух. И тут было видно по всему, что личную жизнь свою Саша устроил неряшливо, жил как придется, с полным презрением к удобствам, и если бы кто-нибудь заговорил с ним об его личном счастье, об его личной жизни, о любви к нему, то он бы ничего не понял и только бы засмеялся.
— Ничего, всё обошлось благополучно, — рассказывала Надя торопливо. — Мама приезжала ко мне осенью в Петербург, говорила, что бабушка не сердится, а только всё ходит в мою комнату и крестит стены.
Саша глядел весело, но покашливал и говорил надтреснутым голосом, и Надя всё вглядывалась в него и не понимала, болен ли он на самом деле серьезно или ей это только так кажется.
— Саша, дорогой мой, — сказала она, — а ведь вы больны!
— Нет, ничего. Болен, но не очень...
— Ах, боже мой, — заволновалась Надя, — отчего вы не лечитесь, отчего не бережете своего здоровья? Дорогой мой, милый Саша, — проговорила она, и слезы брызнули у нее из глаз, и почему-то в воображении ее выросли и Андрей Андреич, и голая дама с вазой, и всё ее прошлое, которое казалось теперь таким же далеким, как детство; и заплакала она оттого, что Саша уже не казался ей таким новым, интеллигентным, интересным, как был в прошлом году. — Милый Саша, вы очень, очень больны. Я бы не знаю что сделала, чтобы вы не были так бледны и худы. Я вам так обязана! Вы не можете даже представить себе, как много вы сделали для меня, мой хороший Саша! В сущности для меня вы теперь самый близкий, самый родной человек.
Они посидели, поговорили; и теперь, после того как Надя провела зиму в Петербурге, от Саши, от его слов, от улыбки и от всей его фигуры веяло чем-то отжитым, старомодным, давно спетым и, быть может, уже ушедшим в могилу.
— Я послезавтра на Волгу поеду, — сказал Саша, — ну, а потом на кумыс. Хочу кумыса попить. А со мной едет один приятель с женой. Жена удивительный человек; всё сбиваю ее, уговариваю, чтоб она учиться пошла. Хочу, чтобы жизнь свою перевернула.
Поговоривши, поехали на вокзал. Саша угощал чаем, яблоками; а когда поезд тронулся и он, улыбаясь, помахивал платком, то даже по ногам его видно было, что он очень болен и едва ли проживет долго.
Приехала Надя в свой город в полдень. Когда она ехала с вокзала домой, то улицы казались ей очень широкими, а дома маленькими, приплюснутыми; людей не было, и только встретился немец-настройщик в рыжем пальто. И все дома точно пылью покрыты. Бабушка, совсем уже старая, по-прежнему полная и некрасивая, охватила Надю руками и долго плакала, прижавшись лицом к ее плечу, и не могла оторваться. Нина Ивановна тоже сильно постарела и подурнела, как-то осунулась вся, но всё еще по-прежнему была затянута, и бриллианты блестели у нее на пальцах.
— Милая моя! — говорила она, дрожа всем телом. — Милая моя!
Потом сидели и молча плакали. Видно было, что и бабушка и мать чувствовали, что прошлое потеряно навсегда и безвозвратно: нет уже ни положения в обществе, ни прежней чести, ни права приглашать к себе в гости; так бывает, когда среди легкой, беззаботной жизни вдруг нагрянет ночью полиция, сделает обыск, и хозяин дома, окажется, растратил, подделал, — и прощай тогда навеки легкая, беззаботная жизнь!
Надя пошла наверх и увидела ту же постель, те же окна с белыми, наивными занавесками, а в окнах тот же сад, залитый солнцем, веселый, шумный. Она потрогала свой стол, постель, посидела, подумала. И обедала хорошо, и пила чай со вкусными, жирными сливками, но чего-то уже не хватало, чувствовалась пустота в комнатах, и потолки были низки. Вечером она легла спать, укрылась, и почему-то было смешно лежать в этой теплой, очень мягкой постели.
Пришла на минутку Нина Ивановна, села, как садятся виноватые, робко и с оглядкой.
— Ну, как, Надя? — спросила она, помолчав. — Ты довольна? Очень довольна?
— Довольна, мама.
Нина Ивановна встала и перекрестила Надю и окна.
— А я, как видишь, стала религиозной, — сказала она. — Знаешь, я теперь занимаюсь философией и всё думаю, думаю... И для меня теперь многое стало ясно, как день. Прежде всего надо, мне кажется, чтобы вся жизнь проходила как сквозь призму.
— Скажи, мама, как здоровье бабушки?
— Как будто бы ничего. Когда ты уехала тогда с Сашей и пришла от тебя телеграмма, то бабушка, как прочла, так и упала; три дня лежала без движения. Потом всё богу молилась и плакала. А теперь ничего.
Она встала и прошлась по комнате.
«Тик-ток... — стучал сторож. — Тик-ток, тик-ток...»
— Прежде всего надо, чтобы вся жизнь проходила как бы сквозь призму, — сказала она, — то есть, другими словами, надо, чтобы жизнь в сознании делилась на простейшие элементы, как бы на семь основных цветов, и каждый элемент надо изучать в отдельности.
Что еще сказала Нина Ивановна и когда она ушла, Надя не слышала, так как скоро уснула.
Прошел май, настал июнь. Надя уже привыкла к дому. Бабушка хлопотала за самоваром, глубоко вздыхала; Нина Ивановна рассказывала по вечерам про свою философию; она по-прежнему проживала в доме, как приживалка, и должна была обращаться к бабушке за каждым двугривенным. Было много мух в доме, и потолки в комнатах, казалось, становились всё ниже и ниже. Бабуля и Нина Ивановна не выходили на улицу из страха, чтобы им не встретились отец Андрей и Андрей Андреич. Надя ходила по саду, по улице, глядела на дома, на серые заборы, и ей казалось, что в городе всё давно уже состарилось, отжило и всё только ждет не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего. О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет! Ведь будет же время, когда от бабушкина дома, где всё так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте, — будет же время, когда от этого дома не останется и следа, и о нем забудут, никто не будет помнить. И Надю развлекали только мальчишки из соседнего двора; когда она гуляла по саду, они стучали в забор и дразнили ее со смехом:
— Невеста! Невеста!
Пришло из Саратова письмо от Саши. Своим веселым, танцующим почерком он писал, что путешествие по Волге ему удалось вполне, но что в Саратове он прихворнул немного, потерял голос и уже две недели лежит в больнице. Она поняла, что это значит, и предчувствие, похожее на уверенность, овладело ею. И ей было неприятно, что это предчувствие и мысли о Саше не волновали ее так, как раньше. Ей страстно хотелось жить, хотелось в Петербург, и знакомство с Сашей представлялось уже милым, но далеким, далеким прошлым! Она не спала всю ночь и утром сидела у окна, прислушивалась. И в самом деле, послышались голоса внизу; встревоженная бабушка стала о чем-то быстро спрашивать. Потом заплакал кто-то... Когда Надя сошла вниз, то бабушка стояла в углу и молилась, и лицо у нее было заплакано. На столе лежала телеграмма.
Надя долго ходила по комнате, слушая, как плачет бабушка, потом взяла телеграмму, прочла. Сообщалось, что вчера утром в Саратове от чахотки скончался Александр Тимофеич, или, попросту, Саша.
Бабушка и Нина Ивановна пошли в церковь заказывать панихиду, а Надя долго еще ходила по комнатам и думала. Она ясно сознавала, что жизнь ее перевернута, как хотел того Саша, что она здесь одинокая, чужая, ненужная и что всё ей тут ненужно, всё прежнее оторвано от нее и исчезло, точно сгорело и пепел разнесся по ветру. Она вошла в Сашину комнату, постояла тут.
«Прощай, милый Саша!» — думала она, и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее.
Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город — как полагала, навсегда.
Примечания
НЕВЕСТА
Впервые — «Журнал для всех», 1903, № 12 (ценз. разр. 26 ноября), стлб. 1413—1432. Подпись: Антон Чехов.
Сохранились черновой и беловой автографы (ГБЛ), первые и вторые гранки журнального текста с правкой Чехова (ИРЛИ), а также третьи гранки, с одной авторской поправкой (ГЛМ).
Печатается по «Журналу для всех», с исправлениями по беловому автографу:
Стр. 206, строки 9—10: что и в прошлую ночь — вместо: что в прошлую ночь
Стр. 206, строка 20: дальние кусты — вместо: дальше кусты
Стр. 206, строка 23: На дальних деревьях — вместо: На далеких деревьях
Стр. 206, строка 38: густым басом — вместо: грубым басом
Стр. 209, строка 38: до сентября пожить — вместо: до сентября прожить
Стр. 211, строка 3: и засмеялся — вместо: и рассмеялся
Стр. 213, строки 20—21: сказала она, вспыхнув — вместо: сказала она, всхлипнув
Стр. 218, строки 2—3: потрогала свой стол, постель — вместо: потрогала свой стол
1
«Невеста» — единственный у Чехова рассказ, к которому сохранились почти все авторские рукописи и корректуры. Как видно из сопоставления последних гранок с журнальной публикацией, была еще одна авторская корректура — и только она остается неизвестной.
Черновой автограф, на восьми листах большого формата (заполнены с обеих сторон), весь испещрен поправками, зачеркиваньями, вставками. Чехов, очевидно, не успел его уничтожить, как это делал обычно со своими черновиками. Впервые автограф опубликован Е. Н. Коншиной в кн.: «Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Сборник II». М., 1928, стр. 31—61. В настоящем издании текст черновика печатается полностью, по автографу: дается последний слой, под строкой — первоначальные варианты.
Беловой автограф, с которого рассказ набирался в «Журнале для всех», поступил в ГБЛ в 1957 г. как дар Б. П. Сацердотова. Рукопись была найдена им под переплетом одной из книг, купленных на рынке в Петрограде зимой 1917/18 г. Полулистки пожелтевшей почтовой бумаги (26 листов) заключены в конверт с оттиском штампа «Журнал для всех». Тогда же Сацердотов приобрел еще книгу — рассказы Л. Андреева с дарственной надписью автора В. С. Миролюбову, редактору «Журнала дли всех». Несомненно, что рукопись и обе книги попали на рынок из одного источника — собрания Миролюбова. История поступления этого автографа в Государственный архив подробно изложена Е. Н. Коншиной в Записках ГБЛ, вып. 20. М., 1958; ею же в 1960 г. опубликована рукопись (ЛН, т. 68, стр. 93—108). На автографе надпись рукой Миролюбова: «Набрать и послать корр<ектуру> Ялта Антону Павловичу Чехову». Варианты белового автографа нередко совпадают с текстом гранок. В нашем издании они объединены в общий свод вариантов.
Сопоставление беловой рукописи с первоначальными гранками показало, что наборщик в ряде случаев плохо разобрал некоторые слова и допустил ошибки, не замеченные Чеховым при чтении корректуры. На значительную часть ошибок указала Е. Н. Коншина (ЛН, т. 68, стр. 92). В настоящем издании эти ошибки устранены из основного текста рассказа.
Что касается существенного смыслового разночтения, появившегося в главе IV рассказа в посмертном XI томе марксовского издания (СПб., 1906): «Главное — перевернуть жизнь, а всё остальное не нужно» (вместо верного «всё остальное не важно»), то в данном случае указание Е. Н. Коншиной неточно. В журнальном тексте ошибки не было — наборщик верно прочел слова, вписанные Чеховым во второй корректуре. Искажение появилось лишь в посмертном издании, но, как установлено теперь (см. стр. 335), том XI нельзя считать авторизованным. Рассказ «Невеста» должен печататься не по тому XI (как это делалось в предыдущих изданиях, в том числе и в ПССП), а по журнальному тексту. Надобность в исправлении «не нужно» на «не важно» отпала.
В записных книжках Чехова есть две заметки, использованные в рассказе «Невеста». Среди записей 1901 г. — сентенция Бисмарка, вошедшая и в черновой и в беловой текст, но вычеркнутая в корректуре: «Медленно запрягать, но быстро ездить — в характере этого народа, сказал Бисмарк» (Зап. кн. I, стр. 118). И несколько раньше (стр. 108) — неиспользованный сюжет, где главный персонаж — «деспот» — прозван «Дзыга» (в рукописях «Невесты» этим прозвищем называют слуги бабушку Нади), при этом в черновом автографе Чехов писал слово с прописной буквы (как личное, индивидуальное прозвище), а в беловом — со строчной (как нарицательное имя). Этот южнорусский диалектизм (дзыга, или зыга) отмечен в словаре В. И. Даля и означает: зуда, егоза.
Сохранился еще вырванный из блокнота листок с заметками к «Невесте» (см. т. XVII Сочинений). Все они относятся к заключительной, шестой главе и сделаны после того, как рассказ был начерно написан.
История работы над рассказом «Невеста» детально восстанавливается по письмам Чехова и, главное, по рукописям и гранкам.
Еще во время переписки с Миролюбовым по поводу «Архиерея» в начале 1902 г. Чехов дважды (20 февраля и 8 марта) писал, что в случае цензурных затруднений пришлет «другой рассказ». Называлась даже приблизительная дата — май 1902 г. Возможно, что, обещая рассказ, Чехов имел в виду «Невесту».
После напечатают «Архиерея» Миролюбов продолжал настойчиво напоминать о новом рассказе, просил (телеграмма от 18 октября 1902 г.) дать его название для объявления о подписке на 1903 г. — «чтобы похвастаться первым номером» (письмо от 14 октября 1902 г. — ГБЛ). «Название рассказа, — отвечал Чехов 16 октября, — я пришлю Вам тотчас же, как это будет возможно, т. е. когда я остановлюсь на теме и мне будет ясно, что я ни в коем случае не обману Вас». Через четыре дня (в ответ на очередную просьбу Миролюбова «дать заглавие») он писал: «Если Вам так нужно название рассказа, которое можно потом и изменить, то вот оно: „Невеста“».
Непосредственно к работе над рассказом Чехов приступил сразу же по возвращении в Ялту. 1 декабря 1902 г. он уведомлял О. Л. Книппер: «Завтра засяду писать»; затем 4 декабря сообщал, что «пописывает»; 6 декабря говорил определенно: «За работу я уже сел, пишу рассказ» и 12 декабря: «Пишу я рассказ, но он выходит таким страшным, что даже Леонида Андреева заткну за пояс». Скоро наступило охлаждение. «Пока сижу за рассказом, — писал Чехов жене 14 декабря, — довольно неинтересным — для меня по крайней мере; надоел».
Судя по всему, работа в первые две недели велась без перерыва и шла хорошо. В это время у Чехова почти никто не бывал, здоровье его было удовлетворительно. Над другими вещами он в это время не работал (см. его письма к О. Л. Книппер от 14 и 28 декабря 1902 г., К. С. Станиславскому от 1 января 1903 г., Ф. Д. Батюшкову от 11 января 1903 г. и др.). Сам Чехов этот период писания оценивал высоко: «Я работал, был в ударе» (Книппер, 19 декабря 1902 г.). Но в этом же письме: «В последние 4—5 дней ничего не делаю <...> заминка в рассказе вышла». Время «заминки» совпадает с тем, когда Чехов впервые выразил недовольство своим «неинтересным» рассказом — 14 декабря. По виду черновой рукописи (самое большое число вычеркиваний и исправлений, правка более темными чернилами) можно предположить, что «заминка» приходится на конец 5-й и начало 6-й страницы. Сюжетно это место — перед первым открытым высказыванием Нади, началом ее «бунта» («Мама, милая, отчего мне так невесело?»).
Но «заминка» продолжалась не более недели; уже 20 декабря Чехов сообщал жене: «Завтра буду писать». Дальше работа шла медленнее, «понемножку» (письмо Станиславскому от 1 января 1903 г.), но всё же шла. 30 декабря 1902 г. Чехов обещал Миролюбову «Невесту» в скором времени прислать, а в письме от 4 января 1903 г. спрашивал, на какой адрес. Но в январе в работе произошел перерыв. «Давно уже не писал ничего, всё похварывал, завтра опять засяду» (Книппер, 9 января 1903 г.). «С болезнью возился все праздники, ничего не делал и теперь всё, что начал, придется начинать снова, начинать с досадой <...> Мне нужно кончить рассказ еще для „Журнала для всех“, куда я обещал очень давно. Плохим я стал работником, говоря в скобках» (Батюшкову, 11 января 1903 г.). «За праздники у меня всё переболталось в голове, так как был нездоров и ничего не делал. Теперь приходится опять начинать всё сначала» (Книппер, 11 января 1903 г.). «Мне грустно, что у меня столько времени ушло без работы и что, по-видимому, я уже не работник» (Книппер, 13 января 1903 г.). «Веду жизнь праздную, ничего не делаю — поневоле» (Л. С. Суворину, 14 января 1903 г.).
23 января в письме к Л. В. Средину Чехов сообщал: «Теперь мне лучше, сижу и работаю». «С декабря по сие время я ничего не делаю, — писал он В. А. Гольцеву 26 января, — у меня был плеврит. <...> Теперь уже совсем полегчало <...>, я уже сижу и пишу рассказ для „Журнала для всех“». Об этом же говорится и в письмах к жене от 26 и 28 января. В письме от 26 января — характерное признание: «Пишу рассказ для „Журнала для всех“ на старинный манер, на манер семидесятых годов. Не знаю, что выйдет». Говоря о семидесятых годах, Чехов, вероятно, имел в виду рассказы, повести и романы того времени о девушках и женщинах, уходивших из дома (как у Тургенева в его стихотворении в прозе «Порог»).
Работа, как видно из писем, шла медленно. «Пишу рассказ, но медленно, через час по столовой ложке — быть может, оттого, что много действующих лиц, а может быть, и отвык, привыкать надо» (Книппер, 30 января 1903 г.). «Хотя и медленно, но всё же пишу. Сейчас сажусь писать, буду продолжать рассказ, но писать, вероятно, буду плохо, вяло, так как ветер продолжается и в доме нестерпимо скучно» (ей же, 1 и 2 февраля). «Вчера я не писал, ибо в моей комнате было только 11 градусов» (ей же, 3 февраля). «У меня в кабинете вот уже несколько дней температура держится на 11—12, не повышаясь. <...> Пишу по 6—7 строчек в день, больше не могу, хоть убей» (ей же, 5 февраля).
Но к февралю работа все-таки подвинулась. 9 февраля, в ответ на новые запросы Миролюбова от 23 января и 4 февраля (ГБЛ), Чехов уже сообщал, что «Невесту» рассчитывает «кончить к 20 февраля или раньше, или немного позже — смотря по тому, как здравие и проч. и проч.» Этот же срок он называл и в письмах к М. П. Алексеевой (Лилиной) и Книппер от 11 февраля. Впрочем, уже 14 февраля он писал А. А. Андреевой, что кончает рассказ, а в письме к жене в этот же день называл дату — «через два дня».
20 февраля Чехов сообщал Миролюбову, что рассказ вчерне готов: «Переписывать я буду его и исправлять при этом — дней пять, стало быть, 25 февраля вышлю Вам». Это и была та законченная черновая рукопись, которая сохранилась в архиве Чехова. Затем три дня Чехов «был нездоров, не писал вовсе» (письмо Миролюбову от 23 февраля) и перебелять рукопись начал только 23 февраля. К вечеру 27 февраля беловая рукопись была закончена и отослана. В письме, отправленном тогда же, Чехов просил: «Корректуру пришлите, ибо надо исправить и сделать конец. Концы я всегда в корректуре делаю».
В марте Чехов правил первую корректуру рассказа. 23 марта, в ответ на просьбу Книппер познакомить ее с рассказом, Чехов ответил: «Рассказ „Невеста“ прислать не могу, ибо у меня нет; скоро прочтешь в „Журнале для всех“». И добавлял: «Такие рассказы я уже писал, писал много раз, так что нового ничего не вычитаешь».
29 марта Миролюбов, приехавший в Крым, запрашивал Чехова (из Алупки), отправил ли он в редакцию «Журнала для всех» корректуру «Невесты», которую «1-го апреля должны верстать» (ГБЛ).
В середине апреля выправленная в типографии корректура была передана в цензуру (это видно по журнальной надписи на корректуре «Невесты» и конторским книгам «Журнала для всех» — см. Летопись, стр. 745). Другой оттиск (опять в гранках) был послан Чехову. Приехав 24 апреля в Москву, он читал и правил эту корректуру. «Сижу дома безвыходно и читаю корректуру», — сообщал он И. Н. Альтшуллеру 29 апреля. После перерыва (поездки в Петербург) в конце мая и начале июня он снова работал над ней и 12 июня отослал в журнал.
5 июня Чехов писал В. В. Вересаеву: «„Невесту“ искромсал и переделал в корректуре», а 12 июня — Миролюбову: «Сегодня послал Вам заказною бандеролью рассказ. Простите, делать мне нечего и вот на досуге я увлекся и почеркал весь рассказ». 2 июля он просил редактора: «Хорошо было бы, если бы Вы прислали мне еще раз взглянуть — не для исправления, а так, для знаков препинания». 6 июля Миролюбов ответил: «Очень Вам благодарен за корректуру, по исправлении мы Вам вышлем» (ГБЛ). 10 июля редакция «Журнала для всех» выслала Чехову исправленный оттиск «Невесты» (письмо редакции от этого числа — ГБЛ). В сохранившемся экземпляре третьей корректуры лишь одна авторская замена: «бабушка» — на «бабулька» (так и в окончательном тексте, стр. 208, строка 25). Но Чехов еще раз правил рассказ — в корректуре, остающейся неизвестной. В сентябре окончательный текст был у Миролюбова. Рассказ предполагалось печатать в ноябре, но 16 октября Миролюбов писал Чехову: «„Невесту“ пускаем в декабре, во время подписки» (ГБЛ).
Как известно, еще в корректуре с новым рассказом Чехова познакомились М. Горький и Вересаев. Происходило это в Крыму 21 апреля, так что читать они могли только вторую, но еще чистую, не выправленную автором корректуру. Об этом чтении сохранились воспоминания Вересаева:
«Накануне, у Горького, мы читали в корректуре новый рассказ Чехова „Невеста“...
Антон Павлович спросил:
— Ну, что, как вам рассказ?
Я помялся, но решил высказаться откровенно.
— Антон Павлович, не так девушки уходят в революцию. И такие девицы, как ваша Надя, в революцию не идут.
Глаза его взглянули с суровою настороженностью.
— Туда разные бывают пути.
Был этот разговор двадцать пять лет назад, но я его помню очень ясно. Однако меня теперь берет сомнение: не напутал ли я здесь чего? В печати я тогда этого рассказа не прочел. А сейчас перечитал: вовсе в революцию девица не идет. Выведена типичная безвольная чеховская девушка, кузен подбивает ее бросить жениха и уехать в столицу учиться, она уезжает чуть ли не накануне свадьбы и там, в столице, учится и работает. Но учится и работает не в том смысле, как в то время это понималось в революционной среде, а в специально чеховском смысле: учится вообще наукам и вообще работает, как, например, работали у Чехова дядя Ваня и Соня в пьесе „Дядя Ваня“. В чем тут дело? Я ли напутал, или Чехов переработал рассказ? Интересно было бы сравнить корректурный оттиск рассказа „Невеста“ с окончательной его редакцией <...>
Через месяц я получил от Чехова письмо, и там, между прочим, он сообщает: „Кое-что поделываю. Рассказ „Невеста“ искромсал и переделал в корректуре“. Из этого заключаю, что, может быть, Чехов в этом направлении что-то исправил и нашел более подходящим для своей Нади, чтобы она ушла не в революцию, а просто в учебу.
Всё это интересно в том смысле, что под конец жизни Чехов сделал попытку, — пускай неудачную, от которой потом отказался, — но все-таки попытку вывести хорошую русскую девушку на революционную дорогу» (В. В. Вересаев. А. П. Чехов и встречи с ним. — «Красная панорама», 1929, № 28, 13 июля; Чехов в воспоминаниях, стр. 675—676).
Располагая сейчас рукописями и корректурами рассказа, можно объективно судить, прав или неправ был Вересаев в своих предположениях.
2
И в рукописях, и в корректурах авторская правка была чрезвычайно большой. Это тем более поразительно, что сюжет, композиция, все образы рассказа были выношены до того, как началось писание. Деление на шесть глав сохранялось и в черновой рукописи, и в окончательном тексте; совсем не изменилось число персонажей. И все-таки каждая глава переделывалась много раз; существенно менялись характеристики героев, их суждения.
Не сразу было найдено самое начало. И в черновой, и в беловой рукописи рассказ начинался сердитым криком горничной: «Ступай наверх скорей, там Дзыга зовет!» Это прозвище бабушки повторялось потом, в ходе первоначального повествования, несколько раз — и совсем исчезло в первой же корректуре (вообще исчез этот мотив — о ворчливо-злой бабушке, которую ненавидит прислуга). Однако до второй корректуры сохранялось подчеркнуто бытовое начало: «Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке; в саду около дома пахло жареной индейкой и маринованными вишнями». Во второй корректуре это описание было сохранено, даже усилено вставкой: «И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца!» — но перенесено немного дальше, а рассказ открылся словами о природе: «Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна».
Имена героев установились, после некоторых колебаний, уже в черновой рукописи. Первоначальная Наташа была заменена Надей; отец Георгий, Григорий, Иван, Василий — известным по окончательному тексту отцом Андреем; мать Нади Елизавета Ивановна — Ниной Ивановной. Имя Саша и Андрей (для жениха Нади) были даны сразу.
Но над самими образами, над деталями их характеристик, взаимоотношений Чехов много и пристально работал.
Это касается прежде всего Нади, ее переживаний, мотивов ее ухода из дома, ее отношений с Сашей, с женихом, с матерью.
Первоначально в поступке Нади гораздо большую роль играл Саша, его речи и призывы — вообще он очень много говорил.
При первой встрече с Надей в окончательном тексте остались лишь слова Саши о нечистоте, в какой живет прислуга; о безделье матери, бабушки, жениха; о том, что ему молодости Надиной жалко.
В черновой рукописи Надя возражала: «Мой жених делает, только чем он занимается, никак не пойму» — и Саша разражался гневной тирадой: «Ничего он не делает. Он хороший человек, славный, спора нет, ну, и умный там, что ли, только такие, как он, никому в России не нужны». Первоначально было сказано еще сильнее: «такие, как он, достаточно зла принесли [себе и России] России». Чехов не внес эти слова уже в беловую рукопись. Здесь, как и во всем рассказе, была усилена самостоятельность, независимость, активность героини. В первой корректуре сделана вставка: Надя сама упрекает, прямо отчитывает Сашу — за невнимание к болезни (см. варианты, стр. 204, строки 12—13). Во второй корректуре строки вычеркнуты и заменены более спокойными: «Всё это старо и давно надоело, — сказала она и встала. — Вы бы придумали что-нибудь поновее».
В беловой рукописи снято наставление Саши (конец гл. I): «В молодые годы, в ваши годы учиться нужно! — сказал он хмурясь. — Да... В Петербург вам нужно».
Также сокращен в первых гранках весь обеденный спор Саши с бабушкой (гл. II) о «мертвом городе» и «мертвых людях», который должна была слышать Надя. Послеобеденный разговор с нею остался в окончательном тексте — но в сильно измененном виде. Уже в беловую рукопись не вошли слова Саши: «Удастся ли вам учение или нет, всё же вы увидите другую жизнь, кое-что поймете, кое-что новое откроется вам». Но восторженная чудаковатость Саши, его разговоры про «громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, чудесных людей» — остались; в беловой рукописи даже добавились «фонтаны необыкновенные». Так дошло до окончательного текста.
В последнем перед отъездом разговоре по мере авторской работы Саша и Надя как бы менялись ролями.
В рукописных (и черновом, и беловом) вариантах Саша предлагал Наде уехать с ним: «Значит, вам уехать надо...», а в черновике еще произносил восторженную речь (см. стр. 290). В беловой рукописи осталось лаконичное: «Увезу вас, будете учиться, а там пусть вас носит судьба» и радостное согласие Нади: «О да! Бога ради!» Так — и в первой корректуре. Но во второй корректуре Чехов заново написал весь эпизод — Надя первая говорит о том, что хочет уехать; подробно рассказано о ее возбужденном и решительном душевном состоянии (см. стр. 313 и 213—214).
Отвечая этому настроению Нади, Саша произносит (также вписано во второй корректуре): «Когда перевернете вашу жизнь, то всё изменится. Главное — перевернуть жизнь, а всё остальное не важно».
Это дошло и до окончательного текста.
Вересаев, таким образом, был неточен: и в первых вариантах рассказа прямых слов о том, что героиня уходит в революцию, сказано не было; цель ее ухода из дома остается неопределенной (при окончательной отделке рассказа эта неопределенность была даже подчеркнута). Но в последних корректурах Чехов не только не снизил пафос ее общего порыва к тому, чтобы «перевернуть» свою жизнь, а, напротив, усилил его.
Впрочем, у Вересаева были основания предполагать какую-то существенную правку в конце рассказа, устранившую некий намек на революционное движение. Но касалось это не образа Нади, а Саши (эпизод, когда Саша отказывался ехать с Надей на каникулы в родной их город — см. стр. 216—217, строки 37—17). Отрывок сохранялся, с небольшими вариациями, от черновика до первой корректуры; но во второй корректуре зачеркнут так, что текст теперь трудно прочитать. Та же судьба постигла и другую вставку (сделана была в беловой рукописи): «Отлично, превосходно, — говорил он, — я очень рад. Вы не пожалеете и не раскаетесь, клянусь вам. Ну, пусть вы будете жертвой, но ведь так надо, без жертв нельзя, без нижних ступеней лестниц не бывает. Зато внуки и правнуки скажут спасибо!» Вместо этого текста, напоминающего революционную фразеологию тогдашней молодежи, во второй корректуре появилось обращение Нади к больному Саше и его слова: «Я послезавтра на Волгу поеду, ну, а потом на кумыс. Хочу кумыса попить. А со мной едет один приятель с женой. Жена удивительный человек, всё сбиваю ее, уговариваю, чтоб она учиться пошла. Хочу, чтобы жизнь свою перевернула». Так осталось и в опубликованном рассказе.
Отношения Нади с Андреем Андреичем поначалу, в рукописях, не рисовались столь определенно тягостными. В черновике сказано: «Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх и беспокойство, и если бы почему-либо отложили свадьбу до осени или даже до зимы, то она имела бы время всё обдумать и, пожалуй, еще сильнее полюбила бы жениха и была бы счастлива». Слова «и была бы счастлива» вычеркнуты уже в черновой рукописи. В беловом автографе опущены предшествующие им: «и, пожалуй, еще сильнее полюбила бы жениха». В первой корректуре добавлено: «как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое, вроде сна с кошмарами», а в третьей — снята последняя фраза, как будто дававшая надежду: «Если бы отложили свадьбу до осени или даже до зимы!» После восторженных слов Андрея Андреича: «Дорогая моя, моя милая, прекрасная... Я безумствую от восторга» — о чувствах Нади в черновой рукописи сказано: «И ей казалось, что это она уже давно, давно слышала или читала где-то...» В последней корректуре Чехов добавил: «в романе, в старом, оборванном, давно уже заброшенном».
Весь эпизод с осмотром нового дома из черновика почти без изменений вошел в окончательный текст. Некоторые детали были все-таки изменены.
Усилены непривлекательные черты Андрея Андреича. В черновике: Надя «замечала только, что у жениха очень мягкие руки с короткими пальцами, что на нем очень новые, хорошо выглаженные брюки». В беловой рукописи эти слова вычеркнуты. В первой корректуре вписано: «и его рука, обнимавшая ее талию, казалась ей жесткой и холодной, как обруч». Так вошло в окончательный текст. Подчеркнута его рисовка, пустая высокопарность речи. Оправдываясь в своей праздности, он заканчивал восклицанием: «О матушка Россия, много носишь ты нас, праздных и бесполезных, многострадальная!» Фраза исправлялась в беловике и во всех корректурах. В результате стало: «О матушка Русь! О матушка Русь, как еще много ты носишь на себе праздных и бесполезных! Как много на тебе таких, как я, многострадальная!» Всё это Надя воспринимает острее.
Более жесткими, чем в первоначальных вариантах, выглядят отношения с Андреем Андреичем в конце, после приезда Нади в родной город. От черновика до второй корректуры сохранялся текст: «На другой день вечером приходил Андрей Андреич, всё такой же тихий, молчаливый, и играл на скрипке очень долго, с чувством, и Наде казалось, что ему больше уж ничего не оставалось на этом свете, как только игра на скрипке. Он робко говорил Наде вы, но всё еще, как было заметно, любил и как будто не верил тому, что произошло; вот, казалось ему, он вдруг проснется, и всё окажется сном...» Зачеркнув этот трогательный отрывок, Чехов написал: «Бабуля и Нина Ивановна не выходили на улицу из страха, чтобы им не встретились отец Андрей и Андрей Андреич».
Первые слова Нади о матери остались неизменными от черновика до печатного текста: «А я вот сижу и смотрю отсюда на маму. Она кажется отсюда такой молодой! Да и на самом деле она еще молода. У моей мамы, конечно, есть слабости, но она необыкновенная женщина». В корректуре была лишь вычеркнута фраза: «Да и на самом деле она еще молода».
Но над всеми эпизодами встреч, разговоров Нади с матерью Чехов работал много. Первоначальные варианты были, прежде всего, пространнее, в них больше разных деталей, не касающихся прямо отношений Нины Ивановны с дочерью. Например — о том, что Нина Ивановна «была любительницей театров, концертов, благотворительных балов, часто спорила о пользе театров и раз даже участвовала в спектакле, после которого тяжело дышала».
От варианта к варианту Чехов усиливал детали, рисующие равнодушие Нины Ивановны к дочери. На тревожный вопрос Нади, отчего ей так невесело, Нина Ивановна поначалу давала напрасный, но все-таки совет: «Я знаю, тебе скучно без занятий, ну да ведь — бабушку не убедишь. А ты бы рисовала, что ли. Или вышивай». Уже в беловой рукописи, вместо ответа, Нина Ивановна начинает говорить о себе: «А когда я не сплю ночью, то закрываю глаза крепко-крепко и рисую себе Анну Каренину, как она ходит и говорит, или рисую Лаврецкого, или кого-нибудь из истории». В корректуре было добавлено: «Не знаю, милая» и еще: «или решаю вопрос, зачем мы живем, какая цель нашего бытия». Наде ясно с самого начала, что мать не понимает и не может понять ее, но в первых вариантах после этого разговора она «тотчас же обняла мать, и обе пошли в дом и сели за рояль играть в четыре руки». Во второй корректуре вместо этого сказано: «почувствовала это первый раз в жизни; ей даже страшно стало, захотелось спрятаться, и она ушла к себе в комнату». Так вошло и в печатный текст.
Изменилась тональность IV главы — ночного разговора с матерью, когда Надя просит мать «спасти» ее — позволить уехать. Уже в рукописях — черновой и беловой — появился текст, очень близкий к окончательному. В корректуре Чехов сделал лишь одну замену — совсем снял момент ссоры, раздражения, обиды. Разговор стал добрее, хотя остался таким же безнадежным.
Сокращая текст, Чехов устранил эпизод в начале VI главы о приезде Нины Ивановны в Петербург (см. вариант к стр. 215, строка 40). Всё это зачеркнуто в первой же корректуре, и взамен появилось короткое сообщение: «Надя рассказала, как осенью приезжала к ней в Петербург Нина Ивановна; сильно похудевшая и какая-то странная, виноватая». Потом и это было изменено: «Мама приезжала ко мне осенью в Петербург, говорила, что бабушка не сердится, а только всё ходит в мою комнату и крестит стены».
Изменился и последний разговор Нади с матерью. Сначала в ответ на вопрос, довольна ли она, Надя рассказала подробно: «Конечно, когда поступала на курсы, то думала, что достигла всего, уже не захочу ничего больше, а вот как походила, поучилась, то открылись впереди новые планы, а потом опять новые и всё шире и шире, и, кажется, нет и не будет конца ни работе, ни заботе». Уже в беловой рукописи остался лаконичный ответ: «Довольна, мама». Во второй корректуре сделана вставка, внесшая легкий юмористический оттенок; Нина Ивановна говорит о себе: «я теперь занимаюсь философией и всё думаю, думаю... И для меня теперь многое стало ясно, как день. Прежде всего надо, мне кажется, чтобы вся жизнь проходила бы как сквозь призму...»
Вообще шестую главу Чехов много правил и в рукописи, и в корректуре. В отличие от других глав, где делались главным образом сокращения и перемены, здесь появились добавления. Были использованы те заметки на листке из блокнота, которые писались, когда весь рассказ начерно был уже окончен. Во второй корректуре, например, сделана вставка, как развлекали Надю мальчишки из соседнего двора, дразнившие: «Невеста! Невеста!» Но осталось нереализованным подробно намечавшееся в этих заметках объяснение с Андреем Андреичем: «Милая, одно слово, только одно: надеяться ли мне! О, я буду ждать! Я готов ждать!» Эти слова так и не были сказаны (ср. в черновике, стр. 298).
Последние строки рассказа определились уже в черновике: «„Прощай, милый Саша!“ — думала она.
Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром уехала, и впереди ей рисовалась жизнь трудовая, широкая, чистая». В беловой рукописи текст остался, с некоторыми перестановками.
В первой корректуре Чехов сделал вставки: «Прощай, милый Саша! — думала она, и впереди ей рисовалась жизнь трудовая, широкая, [чистая], просторная, и эта жизнь манила ее. Настоящее, как казалось ей, уже перевернуто вверх дном, беспокойство останется до конца дней, что бы там ни было, куда бы судьба ни занесла, но всё же жизнь будет чистой, совесть покойной... Только бы уехать!
Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром [уехала] простилась со своими и покинула город, — как полагала, навсегда».
Во второй корректуре значительная часть этой вставки была вычеркнута. Но снова искались эпитеты к слову «жизнь», которая впереди рисовалась Наде. Вместо «трудовая» стало «новая» и добавлено: «еще неясная, полная тайн». Сделано важное добавление о том, в каком настроении теперь уезжала Надя из дома: «живая, веселая».
Стилистическая правка текста на всех стадиях создания рассказа была громадной. Нет, пожалуй, ни одной фразы, которая неизмененной вошла бы в печатный текст.
Полное представление о размерах и характере работы Чехова над рассказом «Невеста» дают рукописные и корректурные материалы, целиком опубликованные в этом томе: черновая рукопись со всеми ее вариантами, варианты беловой рукописи и гранок. См. также специальные работы: Н. Замошкин. Устранение лишнего (Вместо юбилейной статьи о Чехове). — В его кн.: Литературные межи. М., изд-во «Федерация», 1930; Е. Н. Коншина. Беловая рукопись рассказа «Невеста». — ЛН, т. 68, стр. 87—92; В. Гольдинер, В. Хализев. Работа Чехова над рассказом «Невеста». — «Вопросы литературы», 1961, № 9; С. Брагин. Из творческой истории рассказа «Невеста». — «Дон», 1960, № 1; В. М. Родионова. «Невеста» А. П. Чехова (К творческой истории рассказа). — Теория и история русской литературы. Труды Московского гос. пед. ин-та имени В. И. Ленина. М., 1963; И. Ф. Кузнецова. Работа А. П. Чехова над языком рассказа «Невеста» (Из наблюдений над вариантами рассказа). — Труды Университета дружбы народов, 1968, т. 29, вып. 3; Г. В. Судаков. Работа А. П. Чехова над языком рассказа «Невеста» (по рукописным и печатным вариантам). — Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та, 1969, т. 378; В. Б. Катаев. Финал «Невесты». — В сб. «Чехов и его время». М., «Наука», 1977.
3
В некоторых рецензиях на рассказ «Невеста» еще были отзвуки специфически «чеховской» проблематики, традиционной при обсуждении едва ли не всякого нового его произведения. Так, М. О. Гершензон писал, что «этот рассказ, как большинство рассказов Чехова, не картина, а эскиз», персонажи Чехова — «все-таки не портреты, а силуэты». Традиционен и упрек в немотивированном изменении характера персонажа: «Новой Нади почти совсем не видать: какой переворот произошел <...> в ее душе — об этом трудно догадаться по тем немногим внешним признакам, которые дал художник» (М. Гершензон. Литературное обозрение. — «Научное слово», 1904, № 1, стр. 135).
В другой рецензии говорилось, что рассказ «страдает большой схематичностью. В маленькую рамку заключено слишком значительное содержание, вследствие чего некоторые части его остались без надлежащей разработки. <...> Очень эскизны и слабо намечены Андрей Андреич и его отец, эскизна и сама Надя» (И. Джонсон <И. В. Иванов>. Чехов и его рассказ «Невеста». — «Правда», 1904, № 5, стр. 239).
«Это типичный чеховский рассказ, — отмечал М. А. Кириенко-Волошин, — написанный в мягком тоне <...> с тонкими нюансами в настроениях и в немногих строках вырисовывающий целые категории типов и характернейшие черты момента» (М. Волошин. Литературные характеристики. — «Киевские отклики», 1904, № 47—8, 8 января).
Но все эти вопросы занимают в рецензиях место небольшое. Гораздо сильней, начиная с самых первых отзывов, критику интересовало другое — общий тон, общее настроение рассказа. И здесь она проявила редкое в практике оценок Чехова единодушие.
Отмечая «чисто чеховскую обстановку» рассказа, обозреватель «Северного Кавказа» заключал: «И мы уверены, несколько лет тому назад Чехов заставил бы этих героев медленно тянуть эту канитель, называемую жизнью <...>. Но, видно, времена изменились. И чеховская героиня-невеста не хочет этого медленного самоуничтожения» (Primo. Литературные заметки. — «Северный Кавказ», 1904, № 6, 13 января). В творчестве Чехова, по мнению критики, появляется новый герой — порвавший со своей средой, нашедший в себе силы для решительного шага. «Основной фон <...> чисто чеховский, хорошо всем знакомый по целому ряду других его рассказов. <...> Можно бы подумать, что и Надя <...> превратится в такую же мещанку, как и многие из ее подруг... Зная Чехова, это можно было предсказывать почти с полной уверенностью. <...> Из предшествующих героев Чехова ни один не позволял себе такого решительного шага, и уже одно бегство Нади на курсы должно быть признано новым этапом в писательской деятельности Чехова» (Вл. Боцяновский. Новый рассказ Чехова. — «Русь», 1904, № 22, 3 января).
Новый положительный герой Чехова — это активный герой. «Если прежде его положительные типы в подавленном и беспомощном недоумении стояли перед пустотой и пошлостью нашего обывательского прозябания, то теперь они активно ищут отсюда выхода» (М. Гельрот. Из нашей текущей литературы. — «Южные записки», Одесса, 1903, № 2, 21 декабря, стр. 31).
Литературный обозреватель одного из провинциальных журналов именно так воспринимал общий тон критических высказываний о новом рассказе Чехова: «В последнем своем рассказе Чехов, по замечанию некоторых критиков, выступает с новым настроением, которое мало свойственно этому поэту скуки, тины, длинных тягучих мыслей <...>. Вместо слабоволия, нерешительности, среди пошлой обстановки просыпается от тяжелого кошмара живая душа» (В. Х. Беллетристические новости. — «Мирный труд», Харьков, 1904, № 2, стр. 204).
Критики, близкие к социал-демократическим кругам, считали, что рассказ неопределенен, не указывает ясных путей или указывает не совсем те, какие нужно. «Оттого, что кто-то в одиночку перевернет свою жизнь, — писал И. Джонсон в журнале „Правда“, — еще, пожалуй, немного выйдет доброго, — только ему одному и будет лучше, как стало лучше Наде. Силы должны быть направлены на то, чтобы перевернуть жизнь общественную, а не только личную» («Правда», 1904, № 5, стр. 244).
С особенной энергией проводил подобную точку зрения В. Шулятиков: «Финал, говорящий о „живой“ жизни, зовущий к ней, звучит, действительно, как нечто „новое“ в устах г. Чехова. Но ... мы не имеем ни малейшего права преувеличивать ценность этого финала». Чехов, писал Шулятиков, чувствует «биение пульса времени». Но с вульгарно-социологической прямолинейностью он упрекал Чехова в том, что процесс нарастания жизни воспринимается им как «„идеологом“ общественной группы, не стоящей на „большой дороге“ истории. <...> Ничего определенного, ясно сознанного! <...> Неясными и неопределенными кажутся Наде задачи „новой“ жизни и тогда, когда она уже стоит на новом пути... Автор оставляет их невыясненными до конца. <...> Мы не можем считать провозглашенный им „культ жизни“ проповедью истинной жизни, ее победоносного развития. Подобная проповедь, как известно, составляет достояние иной общественной группы, чем та, которая воспитывает „чеховских героев“» (В. Шулятиков. Критические этюды. — «Курьер», 1903, № 296, 24 декабря).
Но большая часть критиков смысл и ценность рассказа видела не в указании каких-то конкретных дорог и даже не столько в образе самой героини, сколько в том общем мажорном настроении, которое возникает в рассказе.
В. Ф. Боцяновский полагал, что «бегство Нади» еще «может быть поставлено в связь с несомненным стремлением ввысь других ранних героев Чехова» (называются герои «Скучной истории», «Трех сестер», «Дяди Вани») и в сюжете до возвращения Нади из Петербурга не видел чего-либо принципиально нового. Но финал рассказа, «это смелое, живое слово» (имеются в виду прежде всего слова «О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь...») — «бесспорно, большая новость в творчестве Чехова» (Вл. Боцяновский. Новый рассказ Чехова. — «Русь», 1904, № 22, 3 января).
Различие в тоне первой и второй части рассказа отмечал и А. И. Богданович и тоже большое значение придавал финалу: «Бодрый, сильный аккорд, заканчивающий эту прелестную вещь, звучит в душе читателя как победный клич, как торжество жизни над мертвой скукой и пошлостью серой и однообразной обыденности. <...> „Невеста“ г. Чехова — это живой и яркий символ всего живого, протестующего, не укладывающегося в устарелые рамки серой провинциальной жизни» (А. Б. Критические заметки. — «Мир божий», 1904, № 1, стр. 7—8).
«Из нового произведения Чехова веет на читателя тот дух энергии, бодрости, веры в человеческие силы и в возможность завоевания этого близкого будущего, который, казалось, совсем покинул за последнее время его творчество. И притом — что самое важное — веет с силой, раньше в такой мере не обнаруживавшейся» (И. Джонсон. — «Правда», 1904, № 5, стр. 243).
Новый тон, новое настроение рассказа критика тесно связывала с изменениями в настроениях самого автора, а эти настроения — с общественными переменами в стране. «Что касается до самого Чехова, — заканчивал свою статью И. Джонсон (в ее начале он говорил, что рассказ „Невеста“ имеет совершенно особый интерес), — то он, несомненно, снова вступил в период бодрости и веры, и озаренное надеждой настроение как бы замолодило его творчество. На безусловную прочность этого настроения еще, может быть, рискованно уповать <...> Но что нынешнее его настроение, поскольку „Невеста“ служит его выразителем, отличается небывалой раньше степенью бодрости и силы, это слишком ясно.
И если литературу в лице даровитейших ее представителей справедливо называют чувствительным барометром, чутко отражающим состояние социальной погоды и предсказывающим близящиеся перемены, то с этой стороны последнее произведение знаменитого писателя приобретает еще и особый, огромный смысл» (там же, стр. 244).
В некоторых статьях отмечалась скептическая нота, звучащая в последней фразе рассказа: «...покинула город, — как полагала, навсегда». «Это „как полагала, навсегда“, — весьма характерно и производит такое же впечатление, как заключительные словечки некоторых песенок любви Гейне, расхолаживающих одним ударом лирический восторг» («Мирный труд», 1904, № 2, стр. 208). «Чехов не может еще вполне отрешиться от его скептицизма и пессимизма. Весьма вероятно, что в последнюю минуту, быть может, даже в корректуре, он вставил это грустное слово. Без этого рассказ уж слишком не похож был бы на все другие произведения писателя», — проницательно заметил Боцяновский. (Как известно, эти слова действительно были вставлены в корректуре.) «Но, — заключал критик, — этот, я сказал бы, робкий скептицизм не в состоянии парализовать силы яркого и живого, нового у Чехова слова» («Русь», 1904, № 22, 3 января).
При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорватский язык.