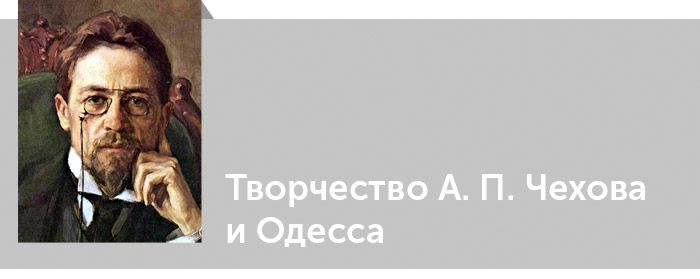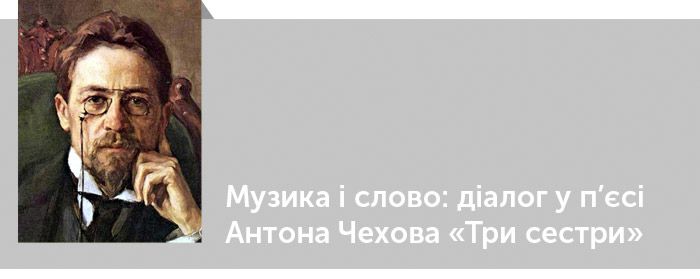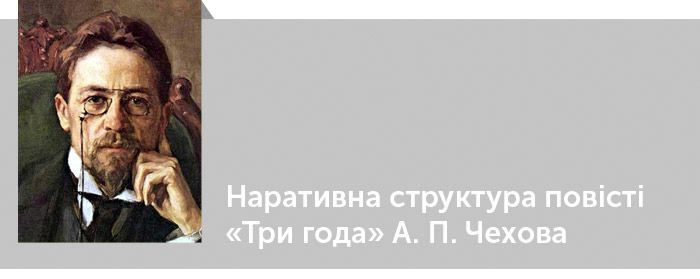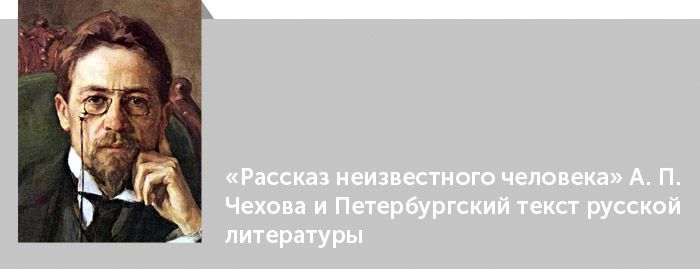О любви

На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны.
Алехин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так; он требовал, чтобы она шла за него, и иначе не хотел, и бранил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности.
Стали говорить о любви.
— Как зарождается любовь, — сказал Алехин, — почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло, — тут у нас все зовут его мурлом, — поскольку в любви важны вопросы личного счастья — всё это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», всё же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему, — это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.
— Совершенно верно, — согласился Буркин.
— Мы, русские, порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает — это я знаю.
Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать.
— Я живу в Софьине и занимаюсь хозяйством уже давно, — начал Алехин, — с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям — кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля дает не много, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьей. Середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень, работа у меня тут кипела неистовая; я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы; тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» пошел тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае в санях или где-нибудь в лесной сторожке — какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно.
В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, всё юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди — это такая роскошь!
В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба: милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал:
— Знаете что? Пойдемте ко мне обедать.
Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минутку зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня всё было неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде у моей матери.
В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна всё покачивала головой и говорила мужу:
— Дмитрий, как же это так?
Луганович — это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре.
— Мы с вами не поджигали, — говорил он мягко, — и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму.
И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем всё лето провел я в Софьине безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.
Позднею осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю — рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых, ласковых глаз, и опять то же чувство близости.
Мы сидели рядом, потом ходили в фойе.
— Вы похудели, — сказала она. — Вы были больны?
— Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю.
— У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу.
И она засмеялась.
— Но сегодня у вас вялый вид, — повторила она. — Это вас старит.
На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин и молодая мать всё уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.
— Кто там? — слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным.
— Это Павел Константиныч, — отвечала горничная или няня.
Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала:
— Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?
Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги всякий раз производили на меня всё то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик.
Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю и если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил:
— Если вы, Павел Константиныч, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас.
И уши краснели у него от волнения. А случалось, что точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами, и говорил:
— Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок.
И подавал запонки, портсигар или лампу; и я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. В первое время я часто брал взаймы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом!
Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей, — понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей; и я всё старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.
А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или просто если бы мы разлюбили друг друга?
И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, — и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка.
Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.
В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.
Мы молчали и всё молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно:
— Поздравляю вас.
Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила:
— Я так и знала, что вы забудете.
К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию.
Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, — о, как мы были с ней несчастны! — я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было всё то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.
Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались — навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, — оно было пусто, — и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком...
Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иваныч вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.
Примечания
О ЛЮБВИ
Впервые — «Русская мысль», 1898, № 8, стр. 154—162. Перед заглавием обозначено: III. Подпись: Антон Чехов.
Вошло во второе издание А. Ф. Маркса («Приложение к журналу „Нива“ на 1903 г.»).
Печатается по тексту: Чехов, 2, т. XII, стр. 155—164.
В записных книжках Чехова довольно много записей к рассказу «О любви». Первая из них может быть отнесена к 1895 г., но сделана, по всей видимости, до того, как возник замысел рассказа: «Одинокие ходят в рестораны и в баню, чтобы разговаривать» (Зап. кн. I, стр. 62 — ср. в рассказе стр. 67). На первых страницах рассказа почти дословно использована запись, сделанная за границей весной 1898 г.: «Дама 35 лет, обывательница средней руки. И когда он соблазнил ее и уже держал в объятиях, она думала о том, сколько он будет выдавать ей в месяц и почем теперь говядина» (Зап. кн. I, стр. 82 — ср. в рассказе стр. 67).
В той же записной книжке вскоре намечена главная ситуация рассказа: «Мы не признавались друг другу в любви и скрывали ее робко и ревниво. Мне казалось невероятным то, что моя тихая грустная любовь могла бы нарушить жизнь мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили. И куда бы я мог увлечь ее? Другое дело, если бы у меня была интересная жизнь, если бы я, например, боролся за освобождение родины, если бы я был необыкновенным человеком, а то ведь из обычной [мещанск<ой>] будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в такую же будничную. И она тоже, по-видимому, рассуждала, боясь сделать меня несчастным, хотела, чтобы я женился на хорошей, достойной девушке и часто говорила об этом. И потом уж, обнимая ее в вагоне, я со жгучей болью в сердце понял, как ненужны, неважны были все эти наши рассуждения. Да, рассуждать нужно, но исходить нужно не с точки зрения счастья чьего-либо, а с чего-то более высшего и важного» (Зап. кн. I, стр. 84).
Рассказ «О любви» Чехов писал в Мелихове в июне — июле 1898 г. В записных книжках появилось еще несколько заметок, вошедших в рассказ: «помещик: я сначала тоже жил на интеллигентный манер, подавал после завтрака ликеры, но поп выпил мои ликеры в два присеста, и я бросил так жить и стал обедать в кухне» (Зап. кн. III, стр. 28; зачеркнуто и перенесено в Первую книжку, стр. 86, где тоже зачеркнуто — ср. в рассказе стр. 68).
К августовской книжке «Русской мысли» готовились сразу два рассказа — «Крыжовник» и «О любви». В записных книжках заметки к обоим рассказам всё время перемежаются. Например, на стр. 88 Первой записной книжки: «Когда любишь, то какое богатство открываешь в себе, сколько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить» (вошло в журнальный текст рассказа «О любви»; см. варианты); рядом: «Зачем мне ждать, пока ров зарастет или затянет его водой? Лучше я перескочу через него или построю мост» (финал рассказа «Крыжовник»). В Третьей записной книжке на 36-й странице, после нескольких заметок к рассказу «Крыжовник», записано: «Когда кто-нибудь спорил со мной, она принимала сторону моего противника» (ср. «О любви», стр. 73).
По мысли Чехова, рассказом «О любви» серия не заканчивалась. В корректуре он намеревался добавить еще рассказ (см. стр. 380). Но творческое напряжение летних месяцев 1898 г. сменилось в конце июля, когда большая работа была завершена, чувством неудовлетворенности: «Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать» (письмо к Л. А. Авиловой от 23—27 июля 1898 г.). О том же — в письме к брату Ал. П. Чехову 30 июля 1898 г.: «Не хочется писать и пишешь так, точно ешь постное на шестой неделе поста».
Вскоре это настроение прошло, но наступала осень, и болезнь опять заставляла искать прибежище на юге. Из Ялты Чехов писал 21 сентября П. Ф. Иорданову: «Я выбит из колеи и почти не работаю. Эта вынужденная праздность и шатань по урортам хуже всяких бацилл».
В ноябре работа возобновилась — но не над продолжением серии, а над новыми самостоятельными рассказами — «Случай из практики» и «По делам службы».
Серия рассказов так и осталась «маленькой трилогией».
В декабре 1898 г. В. А. Гольцев спрашивал Чехова: «А ты не вернешься к беседам Ивана Ивановича и Буркина?» (ГБЛ, ф. 77, к. X, ед. хр. 42). Чехов «не вернулся».
Включая рассказ «О любви» в марксовское издание, Чехов снял цифровое обозначение перед заглавием, внес несколько стилистических поправок и сделал небольшие сокращения. Изменился финал. В первоначальном варианте рассказ заканчивался подчеркнуто бытовым диалогом об отъезде Ивана Иваныча. В тексте собрания сочинений он завершается лирической концовкой: картина природы и грустное раздумье людей, выслушавших рассказ Алехина.
О жизненных истоках рассказа писала в воспоминаниях «А. П. Чехов в моей жизни» Л. А. Авилова. «Что „О любви“ касалось меня, я не сомневалась...» (Чехов в воспоминаниях, стр. 271). По утверждению Авиловой, в рассказе отразилась история ее взаимоотношений с Чеховым — «роман, о котором никогда никто не знал, хотя он длился целых десять лет <...> „наш роман“» (предисловие К воспоминаниям — ЛН, т. 68, стр. 260).
Прочитав рассказ, она послала Чехову «неласковое» письмо, в котором «благодарила за честь фигурировать героиней хотя бы и маленького рассказа» (Чехов в воспоминаниях, стр. 274). Это письмо, как и все письма Авиловой к Чехову, неизвестно. Она вспоминала фразы: «Сколько тем нужно найти для того, чтобы печатать один том за другим повестей и рассказов. И вот писатель, как пчела, берет мед, откуда придется». Нечто подобное, несомненно, было в письме; известен ответ Чехова: «Вы неправильно судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы; а потом уже берет мед. Что же касается всего прочего — равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазий, — могу сказать одно: чужая душа потемки» (30 августа 1898 г.).
Впервые воспоминания о Чехове Авилова опубликовала в 1910 г. («Мои воспоминания». — «Русские ведомости», 1910, № 13; Чеховский сб., стр. 379—386; О Чехове, стр. 1—10). Это была короткая заметка, совершенно не касавшаяся той сложной темы, о которой Авилова писала впоследствии.
Над рукописью «А. П. Чехов в моей жизни» писательница работала в 1930-х годах и закончила ее в 1939 г., незадолго до смерти (1943). В семейном архиве Авиловых хранится первоначальный вариант этих воспоминаний, тоже 1930-х годов, озаглавленный «О любви», а также ряд дневниковых записей и заметок, поясняющих воспоминания1.
Так, на полях повести «О любви» записано: «И вот сколько лет прошло. Я вся седая, старая... Тяжело жить. Надоело жить. И я уже не живу... Но всё больше и больше люблю одиночество, тишину, спокойствие. И мечту. А мечта — это А. П. И в ней мы оба молоды и мы вместе.
... В этой тетради я пыталась распутать очень запутанный моток шёлка: решить один вопрос: любили ли мы оба? Он? Я?.. Я не могу распутать этого клубка».
В дневниковой записи 27 ноября 1939 г. Авилова рассказала о причинах, побудивших ее уничтожить копию письма Чехова, подписанного «Алехин» и относящегося ко времени женитьбы Чехова2: «Я сегодня уничтожила копию письма Алехина. Жалко. Я сделала ее после того, как погиб оригинал. Помнила каждое слово, даже длину строк. И написала всё точь-в-точь так же, даже подражая мелкому почерку А. П. Так вышло похоже, что меня это утешило. И я долго хранила эту копию. А сегодня уничтожила. Вот почему: нашли бы ее после моей смерти и, конечно, узнали бы, что это фальшивка, подделка. Кто бы мог понять, зачем она сделана?»3.
Среди рукописей Авиловой, хранящихся в семейном архиве, имеется тетрадь, датированная 1918 годом и посвященная литературному быту конца XIX — начала XX в. В этих литературных воспоминаниях даны живые зарисовки и портреты многих писателей, критиков, журналистов, с которыми Авилова была знакома или дружна (Л. Н. Толстой, М. Горький, Н. К. Михайловский, А. А. Тихонов, Н. А. Лейкин и др.).
Сопоставляя Чехова с Толстым и Горьким, Авилова писала:
«Про Чехова я не сказала бы, что он великий человек и великий писатель. Конечно, нет! Он — большой симпатичный талант и был умной и интересной личностью.
Горький — яркий талант и оригинальный человек.
Толстой — великий писатель, великий мыслитель, великий человек. Нет величины больше его в литературном свете.
Случается, что талант точно освещает, пронизывает всю личность писателя, он сильней личности и точно силится поднять ее до себя. Это — Чехов.
Случается, что талант и личность одинаково сильны, ярки; помогают друг другу, выражаются каждый по-своему, сплетаются, сливаются. Это — Горький.
Но когда и талант и личность не только велики, сильны, могучи, а когда они еще совершенны, когда дух их поднимается над человечеством и приближается к божескому — тогда это Толстой».
Воспоминания «А. П. Чехов в моей жизни» вызвали разноречивые суждения среди людей, близких Чехову и хорошо знавших Авилову. М. П. Чехова писала: «Эти воспоминания, живо и интересно написанные, правдивы в описании многих фактов <...> И правильно, видимо, Лидия Алексеевна сообщает о тех больших чувствах к Антону Павловичу, которые она когда-то пережила. Но вот когда она пытается раскрыть чувства к ней со стороны Антона Павловича, то тут у нее получается слишком „субъективно“» (Из далекого прошлого, стр. 166—167).
И. А. Бунин дал противоположную оценку: «Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием. Я хорошо знал Лидию Алексеевну, отличительными чертами которой были правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора <...> Прочтя ее воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нем приоткрылось. Я и не подозревал о тех отношениях, какие существовали между ними» (И. А. Бунин. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 9. М., 1967, стр. 230).
Откликами на августовскую книжку «Русской мысли» с рассказами «Крыжовник» и «О любви» явились три статьи.
Разбирая трилогию в целом, А. Измайлов первый заговорил о переменах, ясно обозначившихся в творчестве Чехова: «В этих рассказах г. Чехов уже вовсе не тот объективист-художник, по-видимому, совершенно безучастно относящийся к изображаемому, каким он представлялся ранее <...> Всюду за фигурою рассказчика виден субъективист автор, болезненно тонко чувствующий жизненную нескладицу и не имеющий силы не высказаться. Мы сказали бы, что автор болен мировою скорбью, если бы значение этого последнего выражения не было так опошлено и избито <...> нам кажется, что настает серьезный перелом в творчестве г. Чехова, болезненно созревает в его душе что-то новое <...> Почти все без исключения рассказы его, написанные за последние годы, носят драматический характер, иногда возвышаясь до высокого трагизма. В самом выборе темы чувствуется, что его давят кошмаром и гнетут темные стороны жизни, которых он не может не видеть, и его пейзаж почти всегда запечатлен меланхолическою красотою. „Над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет“, вот общий фон, на котором происходит действие его последних сочинений».
Измайлов сопоставлял этот «перелом» у Чехова с тем, что пережили в свое время другие великие русские писатели: «...нам кажется, что в душе г. Чехова начинается тот перелом, который в свое время пережили многие из наших больших писателей, от Гоголя, Достоевского и Лескова до ныне здравствующего Л. Толстого и некоторых других художников слова, с тою только разницею, что в нем он начинается значительно ранее. Художественные задачи отходят на задний план, и ум устремляется к решению вопросов этики и религии. Объективное, спокойное изображение действительности уступает место тревожному философскому обсуждению зол жизни, выступает на сцену не факт, но философия факта» (А. Измайлов. Литературное обозрение. — «Биржевые ведомости», 1898, № 234, 28 августа).
А. Скабичевский в той же газете «Сын отечества», где он поместил разбор «Человека в футляре», писал о новых рассказах Чехова. Как обычно, его мало интересовала художественная сторона дела; содержание рассказов служило поводом для разговора о несовершенствах общественного бытия. Впрочем, Скабичевский верно уловил существо позиции Чехова, когда сердито возражал против понятия «среда заела», ибо сами люди создают эту среду: «...виновата не какая-то людоедка-среда, а именно безыдейность жизни, отсутствие в ней всяких разумных и широких целей, искание мнимого счастья в какой-нибудь узенькой, ничего не стоящей, эгоистичной задачке и пугливый отказ от мало-мальски решительного, рискованного шага к достижению более высоких целей и более захватывающего светлого счастия. Тут нет ни палачей, ни жертв, ни пауков, ни мух, а попросту люди безразличные поголовно задыхаются в смрадной мгле, при полном отсутствии мало-мальски свежего воздуха» («Сын отечества», 1898, № 245, 11 сентября).
К общей характеристике Чехова как писателя вернулся после выхода первого тома марксовского издания Н. К. Михайловский («Литература и жизнь. Кое-что о г. Чехове». — «Русское богатство», 1900, № 4). В последних рассказах Чехова критик увидел значительные перемены: «Теперь уже далеко не одна пошлость занимает г. Чехова, а и истинно трудные, драматические положения, истинное горе и страдание» (стр. 135). Если житейская пошлость продолжает и теперь интересовать Чехова, как, например, в рассказе «Человек в футляре», «она уже не смешна для него, по крайней мере не только смешна, а и страшна, и ненавистна» (стр. 139). По поводу рассказа «О любви» Михайловский писал: «Такова действительность, и ясно кажется, как дорога стала г. Чехову вертикальная линия к небесам, то третье измерение, которое поднимает людей над плоской действительностью; как далеко ушел он от „пантеистического“ миросозерцания, всё принимающего как должное и разве только как смешное...» (стр. 137).
А. И. Богданович обратил внимание на внутреннюю связь трех рассказов. О рассказе «Крыжовник» он писал: «Хотя этот рассказ и не имеет непосредственной связи с предыдущим, но в нем как бы обрисовывается среда, где властвует человек в футляре».
Рассказ «О любви», по мнению Богдановича, «проникнут той же грустной, щемящей сердце нотой, как и оба предыдущие. Этот рассказ усиливает впечатление ненормальности окружающей жизни, спутанности в ней самых простых отношений, безжалостности людей друг к другу, их неумения жить по-человечески <...> Все три рассказа, при разнообразии сюжета и малой связи, проникнуты и объединены общей печалью и тоской, лежащими в их основе».
Вслед за Измайловым, Богданович писал, что в Чехове «как бы назревает какой-то перелом»; он «не может оставаться только художником и помимо воли становится моралистом и обличителем», как Толстой или Гаршин. «Сквозь внешний комизм просвечивает такое тяжелое, грустное настроение автора, что самый комизм персонажей только углубляет безотрадные выводы, которые сами собой вытекают из рисуемых автором картин пошлости и житейской неурядицы. Автора мучают темные стороны жизни, к которым г. Чехов стал как-то особенно чуток в своих последних произведениях <...>
Замечается и еще одна особенность, совершенно новая для г. Чехова, который отличался всегда поразительной объективностью в своих произведениях, за что нередко его упрекали в равнодушии и беспринципности. Теперь же <...> г. Чехов не может удержаться, чтобы местами не высказаться, вкладывая в реплики героев задушевные свои мысли и взгляды, как, например, заключение рассказа „Человек в футляре“, тирада Ивана Ивановича о невозможности жить так дольше или патетическое воззвание к добру в рассказе „Крыжовник“».
Однако Богданович, как и вся литературная критика тех лет, утверждал, что у Чехова нет цельного мировоззрения и потому его общий взгляд на жизнь слишком мрачен. Опять повторялась версия о разбитом зеркале, неверно отражающем жизнь (А. Б. <Богданович>. Критические заметки. — «Мир божий», 1898, № 10, отд. II, стр. 6—9).
Другой критик того же журнала, В. Альбов, в пристрастии Чехова к малой форме увидел, напротив, его достоинство: «Художественная концепция, овладевшая за последнее время его творчеством, превосходна и глубока и сродни его таланту, спокойному, вдумчивому, созерцательному. Его рассказы — это характеристики, картины, пластика. В них, как нам приходилось отмечать, нет действия, нет борьбы или слишком мало. Зато каждый штрих подогнан к целому, каждая черточка тщательно вырисована, одна подробность нанизана на другую. Вот почему, может быть, г. Чехов не дает нам большого романа, с массой действующих лиц, со сложною интригой. Может быть, он инстинктивно чувствует, что подобная картина потеряет в глубине проникновения в жизнь» (В. Альбов. Два момента в развитии творчества А. П. Чехова. — «Мир божий», 1903, № 1, стр. 112).
В конце 90-х — начале 900-х годов о Чехове стали появляться обобщающие критические работы.
В книге А. Л. Волынского «Борьба за идеализм» (СПб., 1900) рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» послужили материалом для абстрактных этических и философских сентенций. О Беликове, например, Волынский писал: «Несмотря на то, что главные черты его представляются несколько надуманными и самый образ человека в футляре сбивается на аллегорию, он производит глубокое впечатление. Можно сказать, что настроение автора — унылое, но вдумчивое — преобладает здесь над художественною живописью. За ним всё время следишь и заражаешься им, потому что в нем есть глубокая лирическая правда <...> Чехов сумел пролить на эту уродливую, жалкую фигурку провинциального учителя мягкий туманный свет. В жизни таких людей презирают и гадливо побаиваются — совершенно так же, как это представлено в рассказе. Но вот художник с тонким чутьем подошел к этому гаденькому человеку и открыл в нем, под мертвой корой формализма и раболепия перед начальством, несчастную боязливую душу» (стр. 336). «Свободолюбие художника» сведено к чему-то неуловимому и неясному: «Читатель чувствует себя подавленным сырым туманом и дождливыми облаками, которые лениво ползут над действующими лицами, ему хочется разорвать их, чтобы увидеть ясное небо и солнце. И вместе с тем читатель ощущает в рассказе тоскливое веяние, идущее от самого автора, который тоже томится серыми буднями российской жизни, тоже хочет солнечного тепла и света. Так искусство, правдивое и глубокомысленное, неуловимыми словами создает в душе то, чего не достигло бы никакое рассудочное воздействие на ум и волю» (там же).
В рассказе «Крыжовник» Волынский особо отметил «умный протест» автора, но свел его опять-таки к области внутренних «потребностей и запросов человеческой души» и «внутреннего страдания людей». Концовка рассказа была истолкована в отвлеченно-идеалистическом духе: «Говорят, что человеку нужно только три аршина земли. Когда эти слова говорит Толстой, он открывает человеку, своим суровым отрицанием всех земных благ, его высшее духовное призвание: человеку не нужна земля, потому что ему нужно только небо. Чехов говорит, что человеку нужен весь земной шар, вся природа, весь простор видимого света, и эти слова тоже — другим путем — ведут человека от всяких тленных сокровищ к полному раскрытию духа. Как бы возражая Толстому, Чехов невольно вступает в область тех же высших, надземных настроений» (стр. 337—338).
Оценка рассказа «О любви» и общее заключение Волынского о «маленькой трилогии» — образец импрессионистской критики: «Грусть стелется сумеречным туманом над плоскими равнинами русской жизни. Сколько нужно искреннего таланта, живого воображения, чтобы писать серыми красками по серому фону так, как пишет Чехов. Ни одной крикливой ноты, ни одного банального штриха. Несмотря на некоторую старомодность повествовательной структуры и отсутствие привлекающих внимание новейших красок, все эти очерки в гораздо большей степени принадлежат современной волне идейных настроений, чем разные тенденциозные писания с намерением приобщиться к этой волне. Этот серьезный талант тихо и скромно откапывает какие-то нетронутые уголки и двигается, подвигая вперед и русскую литературу. Читая Чехова, чувствуешь себя на лоне настоящего искусства» (стр. 339—340).
О «трилогии» писал критик Волжский (А. С. Глинка) в книге «Очерки о Чехове» (СПб., 1903).
Одним из первых в русской критике Волжский заговорил о художественном обобщении, общей идее, творческом синтезе, объединяющих «пеструю галерею чеховских картинок», начиная с ранних его рассказов и кончая последними повестями и пьесами. Эту «общую идею» критик обозначил как «власть действительности» или «власть обыденщины». С этой точки зрения вся трилогия, «как и вообще всё написанное Чеховым, только индивидуализация отдельных случаев власти обыденной жизни, власти действительности, индивидуализация общей идеи Чехова» (стр. 74).
По мнению Волжского, «Человек в футляре» — «это высшая точка чеховского творчества, произведение, в котором творческий синтез художника выразился с особенной силой». Особо отмечал критик тот факт, что «человек в футляре» — «быстро привился к нашему литературному языку, стал нарицательным именем, излюбленным трофеем газетного обличения» (стр. 67).
По мысли критика, «Человек в футляре» явился обобщеннем всего Чехова: «Повсюду в чеховских произведениях вы на каждом шагу встречаете различные виды власти футляра Беликова: чувства в футляре, мысли в футляре, футляры для общественных и личных отношений, в футляре вся жизнь» (стр. 68).
Так устанавливалась внутренняя связь всех трех рассказов. «Всеопределяющее значение крыжовника в жизни Николая Ивановича Чимша-Гималайского только один из бесконечно разнообразных видов власти обыденщины, один случай футлярной жизни, так широко захваченной в произведениях Чехова», — писал Волжский. В рассказе «О любви» «жестокая бессмыслица жизни исковеркала хорошую, искреннюю любовь Алехина, — везде Чехов „объясняет каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать“, но независимо от намерения художника или даже вопреки ему общая картина жизни, как она изображена в его произведениях, содержит в себе огромную „общую идею“, величайший творческий синтез» (стр. 72—73).
О. Р. Васильева уже 15 июля 1898 г. спрашивала Чехова, где она может найти новый его рассказ «Человек в футляре» для перевода на английский язык. В следующем письме (9 августа) она просила прислать ей оттиск. Судя по ее письму от 8 сентября 1898 г., Чехов послал ей оттиск из «Русской мысли». Затем она перевела «Крыжовник», «О любви», но и спустя два года извещала, что еще не послала ни в какую редакцию свой перевод, прося Чехова посоветовать, куда ей обратиться.
Осенью 1898 г. к Чехову обращался Борживой Прусик с той же просьбой — прислать для перевода на чешский язык все три рассказа. Чехов находился в то время в Ялте (письмо от 2 октября 1898 г.) и хотя обещал прислать рассказы «после», когда вернется домой, он этого, вероятно, не сделал. Б. Прусик увлекся переводами пьес Чехова для театральных постановок, а потом переводил рассказы по начавшему выходить в 1899 г. марксовскому изданию.
Немецкий переводчик О. П. Бук сообщал в декабре 1898 г. из Гейдельберга, что приступил к переводу серии повестей и рассказов, начал с «Человека в футляре» и просил разрешения на публикацию в берлинской издательской фирме Фишера.
В начале 1900 г. Чехову писал из Николаева Херсонской губернии А. В. Гурвич — просил разрешения перевести на еврейский язык рассказы «Человек в футляре» и «О любви» и поместить их в сборнике, издаваемом в память еврейского «народного пролетарского поэта» Михаила Гордона (письмо 4 февраля 1900 г. — ГБЛ). Ответ Чехова неизвестен, но он был благоприятным: спустя три года Гурвич вспоминал об «отзывчивости», с какой Чехов отнесся к его прежней просьбе (письмо от 24 августа 1903 г. — ГБЛ).
При жизни Чехова рассказ «О любви» был переведен на болгарский язык.
Сноски из примечаний
1 Сообщили племянница Авиловой — Н. Ф. Страхова и внучка — Н. С. Авилова.
2 Письма Чехова к Авиловой, за исключением этого письма (имевшего, по мнению Авиловой, интимный характер), были опубликованы М. П. Чеховой в шеститомном издании Писем А. П. Чехова по автографам. Автографы писем были похищены у Авиловой в 1919 г. вместе с письмами к ней И. А. Бунина, М. Горького и др. О своих письмах к Чехову, возвращенных ей М. П. Чеховой, Авилова писала: «Не перечитывая, я бросила их в печку. Я очень жалею, что я это сделала».
3 Текст письма включен в главу воспоминаний «Чехов в моей жизни», остающуюся неопубликованной. См. ЛН, т. 68, стр. 260.