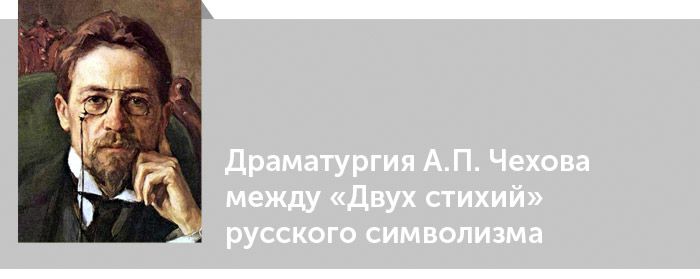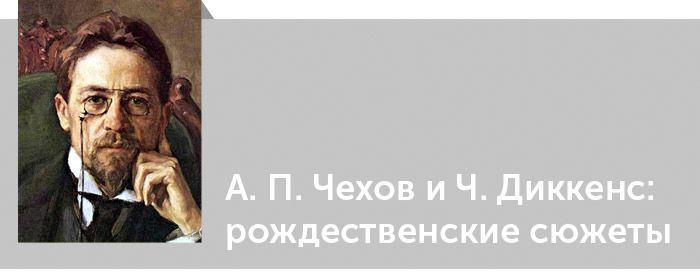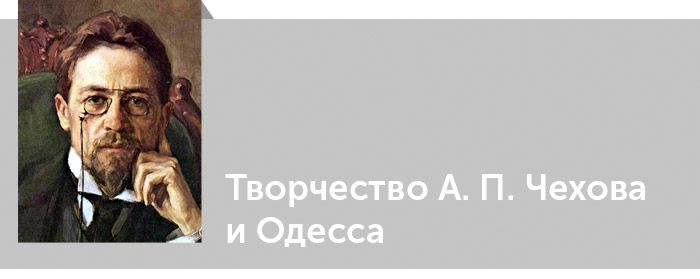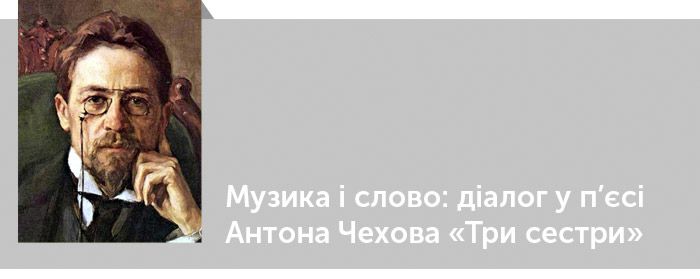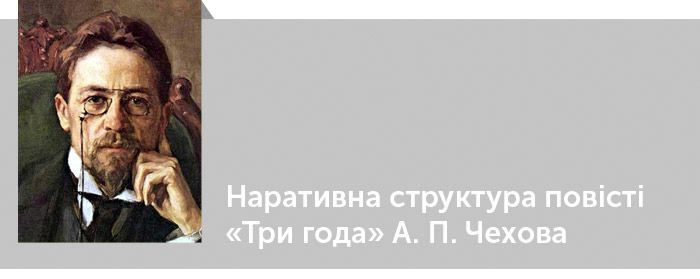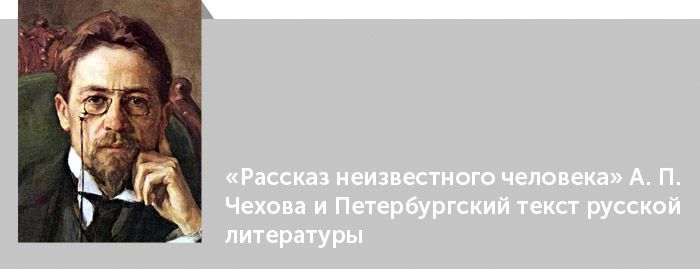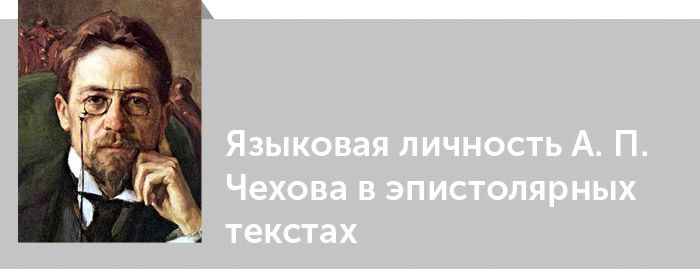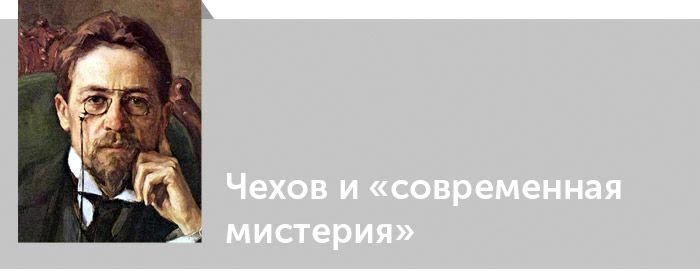Ключевые бинарные оппозиции романтического мировосприятия в ментальном пространстве А. П. Чехова

УДК 81-139:378
Иванова Н.П.
Аннотация: в статье рассматривается реализация таких ключевых для романтического мировосприятия бинарных оппозиций, как «верх – низ», «ожидаемое/желаемое – действительное», «реальный мир – иномирие», в художественном пространстве произведений А.П. Чехова. В ходе анализа делаются выводы об особенностях ментального пространства этого автора, а также других писателей XIX века.
Ключевые слова: ментальное пространство, художественное пространство, картина окружающего мира, романтическое мировосприятие, бинарные оппозиции «верх – низ», «ожидаемое/желаемое – действительное», «реальный мир – иномирие».
Іванова Н.П. Ключові бінарні опозиції романтичного світосприйняття у ментальному просторі А.П. Чехова
Анотація: у статті розглядається реалізація таких ключових для романтичного світосприйняття бінарних опозицій, як «верх – низ», «очікуване/бажане – дійсне», «реальний світ - іншосвіття», в художньому просторі творів А.П Чехова. В ході аналізу робляться висновки про особливості ментального простору цього автора, а також інших письменників XIX сторіччя.
Ключові слова: ментальний простір, художній простір, картина навколишнього світу, романтичне світосприйняття, бінарні опозиції «верх – низ», «очікуване/бажане – дійсне», «реальний світ - іншосвіття».
Ivanova N.P. The key binary oppositions for romantic world outlook in A.P. Chehov’s mental space
Summary: in the article is considered realization such key binary opposition for romantic world outlook, as "top - bottom", "expected/desired - real", "real world - another world ", in A.P. Chehov’s artistic space. Findings are done in the course of analysis about particularity of mental space of this author, as well as the other writers XIX age.
Key words: mental space, artistic space, picture surrounding world, romantic world outlook, binary oppositions "top - bottom", "expected/desired - real", "real world - another world ".
Для современного литературоведения представляется актуальным рассмотрение литературного пейзажа как ментального пространства автора в рамках историко-функционального направления исследований, заданного еще в первой трети ХХ века известным харьковским ученым В.И. Белецким в работе «В мастерской художника слова». В конце прошлого века интерес к такого рода исследованиям был возрожден на качественно новом уровне, обозначенном В.Н. Топоровым, указавшим в работе «Пространство и текст» на необходимость анализа литературного произведения сквозь призму .пространственности. Именнотакого рода исследования проведены в монографиях современных ученыхВ.Н. Гвоздея «Меж двух миров. Некоторые аспекты чеховского реализма» (1999), М.О. Горячевой «Проблема пространства в художественном мире А. Чехова» (1992), А.Д. Степанова «Проблемы коммуникации у Чехова» (2005). Однако методика рассмотрения ментального пространства автора посредством анализа экспликации ключевых бинарных оппозиций в картинах окружающего мира не являлась для них ключевой. При этом такая методика представляется весьма продуктивной и является основой проводимого исследования.
Целью статьи является анализ реализации таких ключевых для романтического мировосприятия бинарных оппозиций, как «верх – низ», «ожидаемое/желаемое – действительное», «реальный мир – иномирие», в художественном пространстве произведений А.П. Чехова.
Задачи статьи: 1) интерпретировать картины окружающего мира в произведениях А.П. Чехова как фрагменты ментального пространства автора, отражающие его мировосприятие и систему ценностей; 2) на основе анализа фрагментов авторского ментального пространства сделать вывод об особенностях художественной системы писателя.
Творчество А.П. Чехова завершает художественную и ментальную эволюцию русской прозы XIX века. Несмотря на то, что роман в 80-е – 90-е годы этого столетия не играл первостепенной роли в литературном процессе, традиция широкого романного мышления все же оказала значительное воздействие на формирование новых жанровых разновидностей – рассказа и повести. Изменения, происшедшие в художественном сознании эпохи, новые концепции взаимодействия личности и среды определили развитие и соотношение жанров эпической прозы конца прошлого века. По мнению М.Е. Елизаровой, действительность, отраженная в произведениях малых жанров, вызывает ощущение части обширного целого, стоящей за одним повествовательным планом многоплановости.
Подобной многоплановостью характеризуется и ментальное пространство Чехова, в котором эксплицированы практически все ключевые бинарные оппозиции русской литературы XIX века, что позволяет сделать выводы об итогах их эволюции: «…пространственный мир в произведениях Чехова, изначально понимаемый и рисуемый как безграничный, оказывается рассечен, усложнен введением малых пространств. Эти очерченные микромиры, характеризующиеся определенным соотношением с макромиром, становятся выражением важнейших смысловых начал: связываются с судьбами героев, их образом жизни, включают в себя аксиологические константы чеховского миропонимания» [4, с. 70].
Традиционные для романтического мировосприятия оппозиции «верх – низ» и «ожидаемое – действительное» эксплицированы в картинах окружающего мира чеховской повести «Дуэль». Однако, в отличие от мировосприятия Пушкина и Лермонтова, в ментальном пространстве Чехова первая из указанных оппозиций нивелируется, вторая же, как в ментальных пространствах Пушкина и Достоевского, оказывается непреодолимой, так как о связанных с Кавказом ожиданиях Надежды Федоровны автор пишет следующее: «Когда она ехала на Кавказ, ей казалось, что она в первый же день найдет здесь укромный уголок на берегу, уютный садик с тенью, птицами и ручьями, где можно будет садить цветы и овощи, разводить уток и кур, принимать соседей, лечить бедных мужиков и раздавать им книжки; оказалось же, что Кавказ - это лысые горы, леса и громадные долины, где надо долго выбирать, хлопотать, строиться, и что никаких тут соседей нет, и очень жарко, и могут ограбить» [10, Т. 7, с. 370]. При этом существует контраст между описанием гор с указанием на их традиционно романтическую таинственную красоту и совершенно далеким от романтизма восприятием этой картины природы: «Мрачная и красивая гора местами прорезывалась узкими трещинами и ущельями, из которых веяло на ехавших влагой и таинственностью; сквозь ущелья видны были другие горы, бурые, розовые, лиловые, дымчатые или залитые ярким светом. Слышалось изредка, когда проезжали мимо ущелий, как где-то с высоты падала вода и шлепала по камням.
- Ах, проклятые горы, - вздыхал Лаевский, - как они мне надоели!» [10, Т.7, с. 376].
Таким образом, в мировосприятии чеховских героев, в отличие от героев Лермонтова и Толстого, горы не становятся ценностным ориентиром, не служат ступенями на пути преодоления оппозиции «верх – низ», а их созерцание не является отправной точкой духовных преобразований. То же происходит и с другими составляющими «верха» - небом и звездами, - описанными сквозь призму ключевой ментальной оппозиции «временное – вечное». К примеру, в повести «Степь» читаем: «... звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека...» [10, Т. 7, с. 65]. Однако традиционное восприятие неба как обители высших существ или душ умерших при этом сохраняется: 1) «Кузьма поглядел на образ, на небо, на деревья, как бы ища бога...» («Встреча») [10, Т. 6, с. 128]; 2) «…кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, сторожит» («В овраге») [10, Т. 10, с. 165]; 3) Липа «глядела на небо и думала о том, где теперь душа ее мальчика» («В овраге») [10, Т. 7, с. 173].
Нивелирование оппозиции «небо – земля» в чеховском ментальном пространстве отмечает и М.О. Горячева: «…традиционные смысловые начала здесь ярко не проявляются, а топосы «небо» и «земля» в чеховском мире даются не в противопоставлении, а в соединении как части единого целого – естественного мира, окружающего человека» [3, с. 146]. В отличие от романтиков, Чехов изображает в качестве связующего звена между землей и небом не горы, а человека, положение которого на ментальной оси «верх – низ» эксплицировано в рассказе «Счастье»: «Бодрствующий человек в центре мироздания: между спящими овцами и дремлющими звездами; он — связующее звено между животным “низом” и небесным “верхом”» [3, с. 148].
Существование в ментальном пространстве Чехова другой оппозиции - «ожидаемое/желаемое – действительное» - порождает свойственное Пушкину и Достоевскому стремление преодолеть ее посредством смены пространства: 1) «…солнечный свет и звуки говорили, что где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная, поэтическая. Но где она?» («Володя») [10, Т.6, с. 205]; 2) «Бежать подальше от этих извергов, в Кубань, например… А как хороша Кубань! Если верить письмам дяди Петра, то какое чудное приволье на Кубанских степях! И жизнь там шире, и лето длинней, и народ удалее...» («Барыня») [10, Т.1, с. 271]; 3) «Славные места!.. Приволье! Сказывают, птицы этой самой, дичи, зверья всякого и – боже ты мой! Трава круглый год растет, народ – душа в душу, земли – девать некуда!» («На большой дороге») [10, Т. 11, с. 189]; 4) «Сибирь – такая же Россия, такой же бог и царь, что и тут.... Только там приволья больше и люди богаче живут. Все там лучше. Тамошние реки, к примеру взять, куда лучше тутошних!» («Мечты») [10, Т. 5, с. 400].
О непреодолимости же оппозиции «ожидаемое/желаемое – действительное» в чеховском ментальном пространстве наиболее убедительно свидетельствует рассказ «Мечты», в котором путники мечтают дойти до «привольных мест», однако действительность их не отпускает почти в прямом смысле этого слова: «Путники давно уже идут, но никак не могут сойти с небольшого клочка земли. Впереди них сажен пять грязной, черно-бурой дороги, позади столько же, а дальше, куда ни взглянешь, непроглядная стена белого тумана. Они идут, идут, но земля все та же, стена не ближе, и клочок остается клочком… Ноги путников вязнут в тяжелой, липкой грязи. Каждый шаг стоит напряжения» [10, Т. 5, с. 146].
И при этом герои очень скоро понимают, «что мечты о счастье не вяжутся с серым туманом и черно-бурой грязью», - в этом обнаруживается точка соприкосновения ментальных пространств Чехова и Достоевского. Человек оказывается бессильным не только преодолеть пространство между желаемым и действительным, но даже до конца представить себе его: «Сотские напрягают ум, чтобы обнять воображением то, что может вообразить себе разве один только бог, а именно то страшное пространство, которое отделает их от вольного края» («Мечты») [10, Т. 5, с. 148]. Окончательным приговором попыткам преодолеть оппозицию «ожидаемое/желаемое – действительное» звучат слова Никандра и Птахи:
«- И впрямь тебе не дойтить!- соглашается Птаха. - Какой ты ходок! Погляди на себя: кожа да кости! Умрешь, брат!
- Известно, помрет! Где ему!- говорит Никандр.- Его и сейчас в гошпиталь положут... Верно!
Не помнящий родства с ужасом глядит на строгие, бесстрастные лица своих зловещих спутников и, не снимая фуражки, выпучив глаза, быстро крестится... Он весь дрожит, трясет головой, и всего его начинает корчить, как гусеницу, на которую наступили...» («Мечты») [10, Т. 5, с. 149]. В этом видится предвестие горьковской притчи о праведной земле, достижение которой являлось смыслом жизни одного из героев пьесы «На дне», поэтому особенно ясно, что приведенный выше диалог – это приговор самому бродяге, а заодно и мотиву дороги, существующему в ментальном пространстве романтиков. Таким образом, путь в никуда – это еще одна точка соприкосновения ментальных пространств Чехова и Достоевского.
Невозможность преодолеть оппозицию «ожидаемое/желаемое – действительное» путем смены обстановки приводит к тому, что в чеховской картине мира очень часто возникают многочисленные варианты замкнутого пространства, из которого нет выхода. Упоминая о них, автор эксплицирует состояние героя. По наблюдениям М.О. Горячевой, это яма («Огни»), ловушка и заколдованный круг («Палата № 6»), клетка и ловушка («У знакомых»), сумасшедший дом или арестантские роты и отдельные клетки («Дама с собачкой»), твердая скорлупа («Расстройство компенсации»), футляр («Человек в футляре»), колодец и скорлупа («Дуэль»).
Однако, в отличие от героев Достоевского, герои Чехова понимают невозможность преодолеть оппозицию «ожидаемое/желаемое – действительное» путем смены пространства: «…кто ищет спасения в перемене места, как перелетная птица, тот ничего не найдет, так как для него земля везде одинакова… Искать спасения в людях? В ком искать и как? Доброта и великодушие Самойленка так же мало спасительны, как смешливость дьякона или ненависть фон Корена. Спасения надо искать только в себе самом, а если не найдешь, то к чему терять время, надо убить себя, вот и все...» («Дуэль», курсив Н.И.) [10, Т. 7, с. 381]. Интересно, что этот весьма реалистический вывод соседствует с парафразами следующих лермонтовских текстов и их романтическим индивидуализмом: 1) «…любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой» («Герой нашего времени») [6, Т. 4, с. 35].; 2) Но, потеряв отчизну и свободу, / Я вдруг нашел себя, в себе одном» («Отрывок») [6, Т. 1, с. 105]. Тем не менее, вывод о том, что причина невозможности преодоления оппозиции «ожидаемое/желаемое – действительное» кроется в самом ее носителе, справедлив для чеховского ментального пространства. Весьма убедительное доказательство этого тезиса встречаем в рассказе «В Париж», герой которого, получив возможность достигнуть желаемого путем смены пространства, восклицает: «В Париж! Ах, дурни, прости господи! Добро бы еще в Москву или в Киев, а то – на тебе! ... в Париж!.. Чтоб я пропал, ежели поеду!.. Что мы там с немцами делать будем?» [10, Т. 5, с. 49].
А главное, оппозиция «ожидаемое/желаемое – действительное», как практически все антиномии чеховского ментального пространства, сопрягается с его ключевой бинарной оппозицией «временное – вечное»: «В голове Саньки копошилось… одно недоумение: почему клады ищут только старики и к чему сдалось земное счастье людям, которые каждый день могут умереть от старости?» («Счастье», курсив Н.И) [10, Т. 5, с. 49].
Еще одна традиционно романтическая ментальная оппозиция «реальный мир – иномирие» также существует в чеховском ментальном пространстве. Интересно, что эта оппозиция характерна в большей мере для раннего творчества Гоголя и Достоевского, но для позднего творчества Чехова. При этом гоголевские традиции явно присутствуют в чеховских картинах окружающего мира.
Так, в Ефиме Жмене из рассказа «Счастье» совершенно отчетливо угадывается Басаврюк, при этом автором даже используются столь любимые Гоголем украинизмы: «Тогда еще я приметил, что Жменя душу свою сгубил и нечистая сила в нем… Ефимка, бывало, смолоду все молчит и молчит, да на тебя косо глядит, все он словно дуется и пыжится, как пивень перед куркою. Чтоб он в церковь пошел, или на улицу с ребятами гулять, или в кабак - не было у него такой моды, а все больше один сидит или со старухами шепчется. Молодым был, а уж в пасечники да в бакчевники нанимался. Бывало, придут к нему добрые люди на бакчи, а у него арбузы и дыни свистят. Раз тоже поймал при людях щуку, а она - го-го-го-го! захохотала...» [10, Т. 5, с. 45]. Как и в «Вечере накануне Ивана Купала», описания представителя «иномирия» даны по принципу градации, так как следующее воспоминание о встрече со Жменей уже сопровождается картиной усиливающейся бури: «Гроза собиралась, и такая была буря, что сохрани царица небесная, матушка... Поспешаю я что есть мочи, гляжу, а по дорожке, промеж терновых кустов - терен тогда в цвету был - белый вол идет. Я и думаю: чей это вол? Зачем его сюда занесла нелегкая? Идет он, хвостом машет и му-у-у! Только, это самое, братцы, догоняю его, подхожу близко, глядь!- а уж это не вол, а Жменя. Свят, свят, свят! Сотворил я крестное знамение, а он глядит на меня и бормочет, бельмы выпучивши. Испужался я, страсть! Пошли рядом, боюсь я ему слово сказать,- гром гремит, молонья небо полосует, вербы к самой воде гнутся,- вдруг, братцы, накажи меня бог, чтоб мне без покаяния помереть, бежит поперек дорожки заяц... Бежит, остановился и говорит по-человечьи: "Здорово, мужики!"» [10, Т. 5, с. 46].
Интересно, что и в чеховском, и в гоголевском ментальном пространстве невозможно провести четкую границу между реальным миром и иномирием. Дьякон в «Дуэли» говорит: «А вот у меня есть дядька-поп, так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит о Христе, так от него сияние идет и все бабы и мужики навзрыд плачут, он бы и тучу эту остановил и всякую бы вашу силу обратил в бегство. Да... Вера горами двигает» [10, Т. 7, с. 368].
Однако в реальном мире возможно присутствие и составляющих отрицательного иномирия, как в «Случае из практики»: «Главный же, для кого здесь все делается,- это дьявол. И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь» [10, Т. 10, с. 38]. При этом составляющие отрицательного иномирия далеко не всегда названы, как в «Старом доме», однако их присутствие отчетливо ощущается: «А в этой квартирке из трех комнат все насквозь пропитано бактериями и бациллами. Тут нехорошо. Тут погибло много жильцов, и я положительно утверждаю, что эта квартира кем-то когда-то была проклята и что в ней вместе с жильцами всегда жил еще ктото, невидимый» (курсив Н.И.) [10, Т. 6, с. 365].
Таким образом, в чеховских «произведениях обнаруживаются последствия взаимопроникновения первичного художественного мира, претендующего на достоверное отражение действительности, и мира гипотетического, параллельного, в котором возможно все.
Домовой, напевающий в печи свою песенку («Невеста»).., туманные привидения («Огни», «Страх»)… - это все явления, отмеченные краткосрочным пребыванием в параллельном, гипотетическом мире, вернувшиеся в исходный художественный мир и - вполне органично усвоенные им» [2, с. 47].
Наиболее яркое воплощение такого рода двоемирия – «Черный монах». Существование положительного иномирия здесь скорее угадывается, нежели обозначается явно: отсылкой к нему является тщательно выписанный образ сада. Представитель отрицательного иномирия – это, на первый взгляд, черный монах – своего рода демон-искуситель, носитель гордыни с его, по мнению И.Н. Сухих, продолжающим идеи Достоевского феноменом «вертикального мышления». Однако однозначности в разграничении иномирия на положительное и отрицательное нет, и в этом тоже видится отголосок гоголевских традиций (вспомним, к примеру, панночку из «Майской ночи» или черта из «Ночи перед Рождеством»).
Сад в «Черном монахе» при всей своей масштабности не совсем соответствует семантике Эдема, точнее говоря, это не совсем сад. В.И. Камянов пишет: «Сад был коммерческим и давал немалый доход. Подальше от усадьбы он переходил в диковатый, сумрачный парк, поближе к ней выглядел безвкусно-декоративным, выдавая суетность владельца. Егор Семенович Песоцкий – на распутье: привычная забота о выгоде сталкивается в его душе с претензиями садовода-эстета… «В нем уже сидело как будто бы два человека», - замечает Чехов» [5, с. 85]. Однако и эффект от встреч с черным монахом не однозначно отрицателен. Как ни парадоксально, именно после них Коврин особенно полно воспринимает «райскую сторону» сада. М.О. Горячева называет результат контакта с теперь уже неясно какого знака иномирием «вдохновением», а В.Н. Гвоздей, анализируя художественное пространство «Черного монаха» в монографии «Меж двух миров», делает следующий вывод о Чехове: «По-видимому, он чего-то ждал от ненормальности и оттого уделял так много внимания выбитым из колеи людям. К прочным, определенным заключениям он, правда, не пришел — несмотря на все напряжение творчества. Он убедился, что выхода из запутанного лабиринта нет, что лабиринт, неопределенные блуждания, вечные колебания и шатания, беспричинное горе, беспричинные радости, словом, все, чего так боятся и избегают нормальные люди, стало сущностью его жизни. Об этом и только об этом нужно рассказывать. Не мы выдумали нормальную жизнь, не мы выдумали ненормальную жизнь. Почему же только первую считают настоящей действительностью?..» [2, с. 37].
Истоки этой особенности чеховского ментального пространства, возможно, в таком феномене русской культуры, как «масонская эстетика». Без его осмысления, по мнению Е.К. Рыковой, «не может быть подлинно научного понимания развития русской литературы. Дело в том, что именно масонство, с его тягой к мистике и оккультизму, в большей мере способствовало формированию особого дискурса в искусстве – эзотерической традиции, которая проявила себя не только в эстетике романтизма, но и символизма. Именно масоны, получившие уроки античного и средневекового мистицизма, пытались разомкнуть оболочку действительности и заглянуть в темную тайну вечности» [7, с. 6]. В связи с этим исследователи характеризуют художественную систему Чехова как «магический реализм», в полной мере реализовавшийся в искусстве ХХ века.
Продолжая сравнение ментальных пространств Чехова и Достоевского, невозможно не учесть мнение В.И. Камянова, который говорит, что «если у Достоевского никогда не теряет остроты проблема ложной организации личности, то у Чехова – проблема ее дезорганизованности…» [5: 87]. Не эта ли проблема межмирности человеческой природы являлась ключевой и для лермонтовского ментального пространства? Возможно, корни такого мировосприятия в идеях протестантизма, которые начали распространяться в России еще в конце XVII века. И в связи с этим Е.К. Рыкова сообщает весьма интересные сведения: «Хорошо известен факт приезда в Москву проповедника, мистика и поэта Кульмана Квирина (1689), который был в результате его действий объявлен еретиком и сожжен на костре… Кульман Квирин был убежден, что разум человека выше церковного авторитета, что церковные таинства отвлекают его от внутренней работы над совершенствованием своего характера. По его мнению, в мире происходит перманентное противостояние Добра и Зла и что этот процесс происходит не только вне человека, но и в нем самом» [7: 43]. Являлся ли Квирин, чье имя столь созвучно фамилии героя «Черного монаха», его прототипом, узнать не удалось, однако такое сходство представляется весьма знаковым еще и потому, что взгляды Квирина на природу добра и зла нашли отголосок как в лермонтовском, так и в чеховском творчестве. Таким образом, мы можем сделать вывод о существовании точек соприкосновения ментальных пространств этих авторов в процессе экспликации оппозиции «добро-зло», обусловленном пониманием невозможности полного разграничения указанных категорий.
Свойственное Чехову ощущение дезорганизованности человеческой личности не могло не отразиться в описанных им картинах окружающего мира. Так, в повести «Огни» читаем: «Я думал, а выжженная солнцем равнина, громадное небо, темневший вдали дубовый лес и туманная даль как будто говорили мне: "Да, ничего не поймешь на этом свете!"» [10, Т. 7, с. 140]. В связи с этим справедливым представляется мнение А.Д. Степанова о том, что чеховский рассказ – это «чистая дескрипция: то, что можно пережить, испытать, но не понять и оценить» [8, с. 24].
Действительно, прямые выводы, характеризующие авторское ментальное пространство, в чеховских произведениях редки, однако картины окружающего мира позволяют сделать выводы о мировосприятии писателя, экспликации и переосмыслении им таких традиционных романтических бинарных оппозиций, как «верх – низ», «ожидаемое/желаемое – действительное», «реальный мир – иномирие». Таким образом, для художественного мира А.П. Чехова характерна контаминация традиций реализма и романтизма, о чем позволяет судить анализ реализации ключевых для его ментального пространства бинарных оппозиций.
Литература
1. Белецкий А.И. Вопросы теории и психологии творчества / Александр Иванович Белецкий . - Харьков., 1923. – 282 с.
2. Гвоздей В.Н. Меж двух миров. Некоторые аспекты чеховского реализма / В.Н. Гвоздей. – Астрахань: Изд-во Астраханского государственного университета, 1999. – 128 с.
3. Горячева М.О. Проблема пространства в художественном мире А.П. Чехова.: Дис. ... канд. филолог. наук / М.О. Горячева. - М., 1992. – 232 с.
4. Елизарова М.Е. Творчество Чехова и вопросы реализма конца XIX в / М.Е. Елизарова. – М.: Гослитиздат, 1958. – 200 с.
5. Камянов В.И. Время против безвременья: Чехов и современность / В.И. Камянов. – М.: Советский писатель, 1989. – 384 с.
6. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. В 4-х томах. / М.Ю. Лермонтов. – М.: Художественная литература, 1975.
7. Рыкова Е.К. Пути развития русской литературы в Екатерининскую эпоху: «свое» и «чужое» в литературе и на книжном рынке / Е.К. Рыкова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 172 с.
8. Степанов А.Д. Проблемы коммуникации у Чехова / А.Д. Степанов. - М.: Языки славянской культуры, 2005. - 400 с.
9. Топоров В.Н. Пространство и текст / В.Н. Топоров // Текст: семантика и структура. — М., 1983. - С. 218-252.
10. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах / А.П. Чехов.- М.: Наука, 1974-1986.