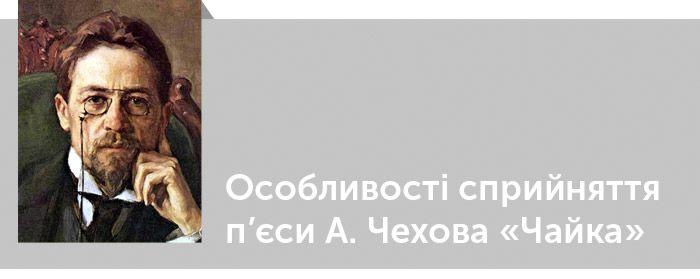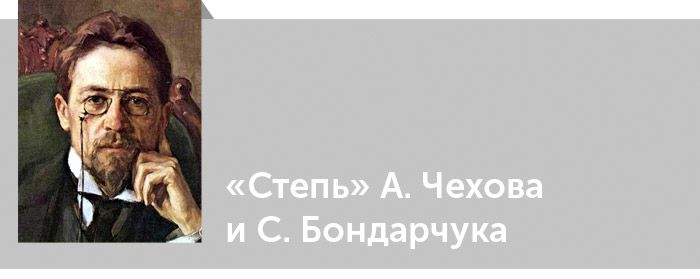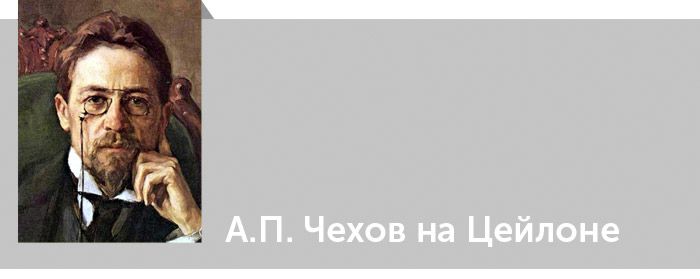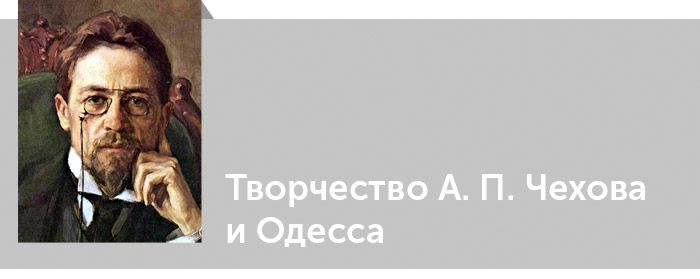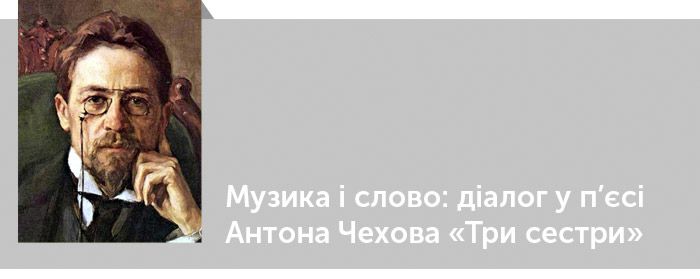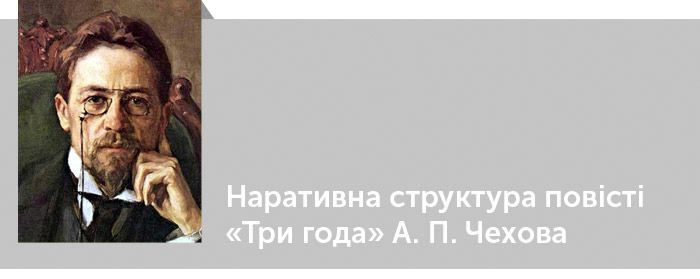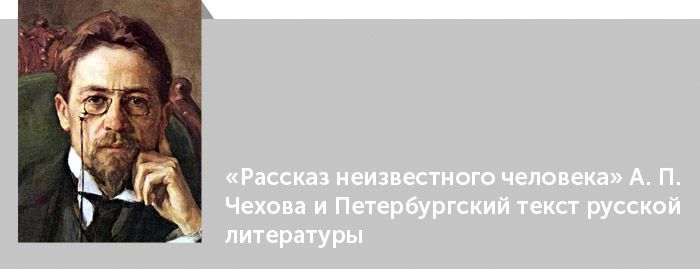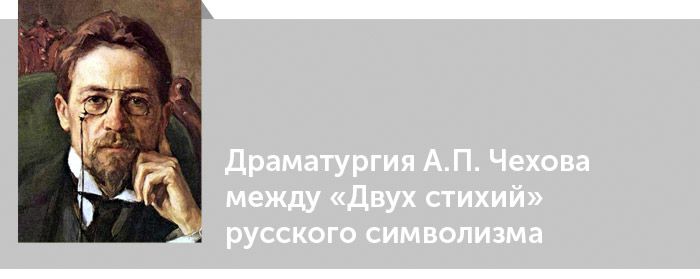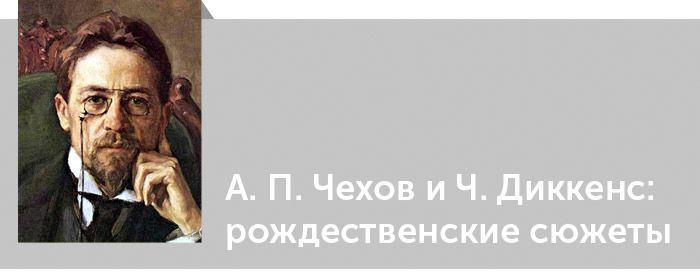Чехов и «современная мистерия»
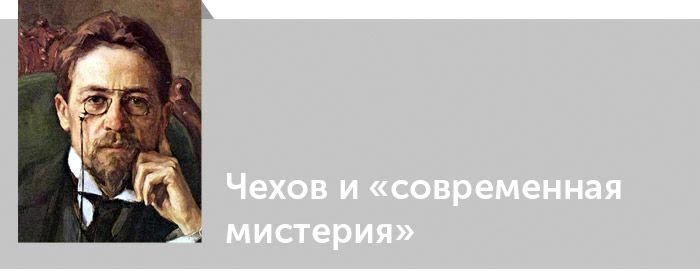
Борисова Л.М.
Тема "Чехов и символизм" сегодня активно разрабатывается исследователями1, но если раньше существовала тенденция отрицать всякое сходство Чехова с модернистами, то в последние годы его склонны преувеличивать, и наряду с глубокими аналогиями здесь нередко проводятся не вполне оправданные сближения. Между тем для чеховской и символистской драмы более всего характерны неполное, частичное, отдаленное сходство и множество тонких различий, которые пока еще недостаточно принимаются во внимание при анализе проблемы. Они-то и должны стать предметом изучения.
Преувеличением представляются прежде всего попытки исследователей уподобить чеховскую драму ритуальному действу, жизнетворчеству, мифу2. В драматургии Чехова есть целый ряд устойчивых мотивов, но надо признать, что исследователи, связывающие их в миф, мыслят программнее, чем автор. У Чехова пракультурные пласты залегают глубоко и весьма опосредованно влияют на специфику действия. Это, по-видимому, и есть тот случай, когда можно говорить об "имплицитной мифологии" в литературе.
"Оба рода действительности, артистическую и жизненную, символисты, а в определенной мере и Чехов, трактуют как произведение творчества. Законам творческим и эстетическим стремятся они подчинить все человеческое существование"3, - пишет М.Цимборска-Лебода. Однако нельзя забывать о конкретных формах жизнетворчества у теургов: символисты сознательно возрождали ритуал, предлагали игру как средство решения глобальных мировых проблем. Но даже самый искренний "театр для себя" – вряд ли тот образ жизни, который удовлетворил бы Чехова.
Однажды, правда, он "подарил" А.С.Суворину утопическую идею театра будущего, и тот развил ее в одноименной статье, изобразив нечто среднее между парижским ипподромом и римским Колизеем. В отличие от ивановского амфитеатра - места проведения мистерий, чеховско-суворинский предназначен для цирковых представлений, феерий, массовых этнографических действ. "Такой театр создаст свою драму, свою комедию, свою оперу или, вернее, он соединит на сцене все эти элементы драматического искусства..." (ЧП, IV, 478). Но, хотя Чехов и заразил Суворина мечтой о синкретизме, сам он относился к ней с большой долей сомнения: "...ипподром и в самом деле прелесть, и Колизей отличная штука. Но мы с Вами не доживем до них, ибо уже пережили" (ЧП, IV, 237).
Даже те категории, общность которых у символистов и Чехова, казалось бы, не вызывает сомнений, на поверку часто исполнены разного смысла. Принято, например, думать, что Чехова сближает с соловьевцами ощущение времени, значение, которое оба они придают будущему4. Но не случайно в ответ на признание Блока в письме от 2 октября 1905 года: "Я... захлопнул заслонку своей души. Надеюсь, что она в закрытом наглухо помещении хорошо приготовится к будущему" (ББ, 142), Белый счел нужным уточнить: "...о каком будущем идет речь: есть ли радующее Тебя будущее - общественное обновление России, расцвет российской словесности, реформа церкви или форм земского самоуправления, или что? Будущее бывает разное: каждое направление имеет будущее... Ты - "захлопнул заслонку своей души" - для чего? Для того, чтобы готовить избирательные списки, или для чего-нибудь иного?" (ББ, 155).
Символисты не избегали общественных проблем, стремились по-своему решать их, но относились к ним, как к отголоскам происходящего в "иных мирах". Отсюда и специфическая форма участия в земных делах, которую предлагал Иванов - через хоровые орхестры, им предстояло стать "референдумом истинной воли народной"5.
Того, что составляет самую сердцевину чеховских представлений о будущем, - счастливая жизнь, нет в символистской картине мира. Соловьевцы не зря называли себя "апокалиптиками". Не приходится доказывать чуждость Чехову апокалиптических предчувствий. Автор "Чайки" даже по менее значительным поводам предпочитал не загадывать: "Одному Господу ведомо, что будет и чего не будет... У человека слишком недостаточно ума и совести, чтобы понять сегодняшний день и угадать, что будет завтра..." (ЧП, II, 309).
Кроме того, чеховскому счастливому будущему "через двести-триста лет" противостоит у теургов самое близкое, наступающее будущее - грядущее. "Грядущий час" - один из постоянных мотивов лирики Блока, Рыцарь-Грядущее - прозвище Гаэтана в первых редакциях драмы "Роза и Крест". А символистское грядущее - это уже не что иное, как вечность. Под именем Грядущего выступает герой юношеской мистерии Белого "Антихрист". Символисты сами сознавали отличие своего "будущего" от чеховского, в 1904 году Брюсов писал Белому: "Да, я знаю, наступит иная жизнь для людей: не та, о которой наивно мечтал Ваш Чехов ("через 200-300 лет"), а жизнь, когда все будет "восторгом и исступлением", когда все люди будут как безумные, когда блаженство будет повергать на земь и отчаяние будет, как смерть"6.
Беловский реестр всего, что входит в понятие общественной пользы, конечно, не идеал Чехова, но ничего из перечисленного там этот идеал не исключает. "Не прячу я и своего уважения к земству, которое люблю, и к суду присяжных" (ЧП, III, 18), - признавался Чехов. В другой раз он сожалел, что ничего не сделал для тех, кого любит: "...моя деятельность бесследно прошла, например, для земства, нового суда, свободы печати, вообще свободы и проч." (ЧП, IV, 56). Для достижения чеховского "прекрасного будущего", которое можно назвать и "общественным обновлением России", хороши все средства, включая реформу церкви и земского самоуправления, не говоря уже о расцвете литературы, если только они не утверждаются излишне деспотично. Для теургов же характерен именно деспотизм идеи, в этом их неоднократно упрекал Брюсов.
Творчество символистов насквозь программно, но Чехов убежден, что "живые, правдивые образы создают мысль, а мысль не создаст образа"7. Его мировоззрение принципиально адогматично и вследствие этого как бы неопределенно. Будущее по Чехову - красота, свобода, счастье, жизнь если не преображенная, то во всяком случае культурная. Как и символисты, Чехов ставит художественное творчество исключительно высоко: "искусство в самом деле есть царь всего" (ЧП, IV, 210). Но при этом он имеет в виду искусство как искусство, а именно с ним боролись, о его исчезновении (растворении в жизни) мечтали теурги. В своей критике существующих форм искусства Брюсов и Белый порой обнаруживали логику, сходную с толстовской. Чехову она не близка: "Говорить об искусстве, что оно одряхлело, вошло в тупой переулок, что оно не то, чем должно быть, и проч. и проч., это все равно, что говорить, что желание есть и пить устарело, отжило и не то, что нужно" (ЧП, VII, 143-144).
Иногда Чехова сближают с символистами на основе психологизма8. При всем своеобразии чеховской "объективной манеры"9, она все-таки свидетельствует не об отрицании психологизма, а об усложнении его форм, но трудно согласиться с мыслью о гипертрофированном психологизме Иванова. В символистской среде психология - понятие негативное, так называли все индивидуальное, узко-личное, осложнявшее творческие отношения. Психология разделяет, "реальнейшее" связывает. В "современной мистерии" должно было раствориться личное начало. Иванов называл "психологистов" "еретиками перед лицом истинного искусства, погружающими его всецело в психологическую данность индивидуума", не верующими в его "соответствие духовным реальностям мира"10. Когда в творчестве ему приходилось (нечасто) "оступаться" в психологизм, Иванов сознавал это как нарушение своих художественных принципов. К недостаткам "Тантала" относил, например, сцену с Бротеасом: она "выдержана психологически", тогда как "все остальные выдержаны классически (в масках)"11.
Исследователи символизма уже поясняли, что символизация “реальнейшего” исключает у теургов психологизацию "реального"12. За психологизм у соловьевцев обычно принимают мистику, но "символический образ переживаний", доказывал Белый, не имеет ничего общего с психологией. Только отрешившись от своего “я”, художник способен утвердиться в новом отношении к миру: "Ты - еси". Для автора "Петербурга" характерен не психологизм, а психоанализ на антропософской основе13, он описывает "медиумические состояния души" (выражение С.Н.Булгакова). Критик-единомышленник считал, что стиль Белого свидетельствует об "экстатическом ясновидении", что его творчество - это уже "особая форма визионерства"14.
Не менее серьезны различия в содержании и средствах выражения "невыразимого", "несказанного" у символистов и Чехова. Как и свое "будущее", у разных литературных направлений в начале ХХ века было свое "несказанное". У символизма, соответственно двум его течениям, даже два. Иванов отличал "иллюзионизм", субъективизм, утонченность переживаний "эстетических символистов" от диктата "реальнейшего" у "теургов".
С этой точки зрения, показательна разница в отношении Чехова и символистов к Метерлинку при обоюдном увлечении его эстетикой. Сравнивая чеховские оценки Ибсена и Метерлинка, А.С.Собенников отмечает их парадоксальность: Чехов отталкивается от Ибсена, чья драматургическая система гораздо ближе его собственной, чем система Метерлинка, а последний вызывает у него неизменный интерес. Исследователь находит этому убедительное объяснение: Чехову близка суггестивность Метерлинка, предпочитавшего слово действию, а слову - молчание, и чужд идеологизм ибсеновских драм15.
Символисты же (сначала Белый, потом Брюсов) обнаружили в метерлинковских пьесах "с настроением" тенденциозность, однозначность символики, тот аллегоризм, которого, согласно их теории, не должно быть в истинном символизме. Белый и Блок противопоставляли Метерлинку Чехова: "...Чехов пошел куда-то много дальше и много глубже Метерлинка..." (Б, V, 169); "Его (Чехова - Л.Б.) символы тоньше, прозрачнее, менее преднамеренны (чем у Метерлинка - Л.Б.)"(БЛЗ, 128).
"Следует навсегда запомнить, что аллегория не символ" (БС, 138), - писал Белый. Символ - указание, начало "ознаменования"; аллегория - иносказание, "преобразование" реальности, искажение символа в искусстве, - учил Иванов. Тенденция оправдывалась только в одном случае - если подразумевался переход искусства в культ. Тогда среди других средств символизации теурги находили место и аллегории. В их классификации она занимает промежуточное положение между понятием и образом. Аллегория наиболее пригодна к выражению идеи (БС, 91). Белый считал подобную образность естественной у "идеологов" - Ибсена, Ницше. Такими в абсолютном большинстве были и сами теурги. Они стремились сделать жизнь художественным творчеством, но упирались в границы искусств. "...На деле, - разоблачал их иллюзии Брюсов, - всегда выходит, что символизм оказывается просто художественной аллегорией"16.
В "Кубке метелей" Белый охарактеризовал основную проблему, с которой, по его мнению, сталкивается выразитель "невыразимого": "Следует ли при выборе образа переживанию, по существу не воплотимому в образ, руководствоваться красотой самого образа или точностью его? ... Передо мною обозначилось два пути: путь искусства и путь анализа самих переживаний...". Избирая второй и затрудняясь ответить на вопрос, "есть ли предлагаемая "Симфония" художественное произведение или документ состояния сознания современной души"17, Белый фактически ступал на тот самый срединный путь (между понятием и образом), который он называл аллегорическим.
Образность у теургов всегда в той или иной мере взаимодействует с умозрением. Уже потому, что основу "современной мистерии" составляет теория, символ в ней задан значительно более определенно, чем у Чехова. Что в Храме Славы Белого чтут теорию, видно хотя бы потому, как собираются “чающие” на богослужение: "На вершине скал стоят они - огненные пятна - на фоне синего вечера. Наставники спускаются вниз по тропинке; ученики, за исключением избранных, наоборот, поднимаются вверх"18. Обряд соблюдается четко и символизирует процесс познания истины: путь ученичества - восхождение, проповедь - движение к массе, вниз.
Символисты выработали свой шифр к "безглагольному". "...Говорили всегда не о том, что - в словах, а о том, что - под словом; прочитывая шифры друг друга, мы достигали невероятного пониманья..." (БВБ, 182). Для обозначения "невыразимого" они часто прибегали к раз навсегда данным символам. Известно, как много значит у них цвет. Золотой, лазурный, "зоревой", пурпурный, розовый - цвета Софии. Не удивительно, что о постигшей их катастрофе соловьевцы с исчерпывающей глубиной могли рассказать языком красок: "Миры, которые были проникнуты его (лучезарного меча - Л.Б.) золотым светом, теряют пурпурный оттенок; как сквозь прорванную плотину, врывается сине-лиловый мировой сумрак..."(Б, V, 428). Вопреки широко распространенному мнению о субъективизме этих рассуждений Блока, тем, кому был адресован его доклад, они такими не казались - "Подобно некоторым восточным и западным ясновидцам, Блок точно передает постоянно сменяющуюся окраску волн астрального мира..."19. У Чехова такая определенность невозможна.
Аллегория, персонификация, олицетворение - не редкость в символистской драме. В пьесах Чехова исследователи порой тоже заостряют второй план действия до аллегорической схемы. "В "Трех сестрах" победа Наташи показывается в манере, близкой автору "Непрошенной". Ее первое появление, такой жалкой, растерянной, тихой, потом - бесшумные шаги, отвоевывающие комнату за комнатой, порабощение Андрея и, наконец, полное завоевание дома. Продвижение Наташи по дому так же, как продвижение Смерти, отмечается скупо, штрихами. Аналогичность их поступи, т.е. внешнее проявление сущности, подводит к мысли об их функциональной близости. Наташа тоже смерть, духовное небытие..."20. Однако чеховские символы непохожи на символистские иносказания.
Чехова сближает с символистами образ-намек, но при этом они оперируют разными "апперципирующими массами", по терминологии Л.П.Якубинского. Символистский намек апеллирует к эзотерическому опыту "посвященных", чеховский - к опыту повседневной рефлексии каждого. В письме от 12 февраля 1887 года Чехов писал Д.В.Григоровичу в связи с его рассказом "Сон Карелина": "Конечно, сон - явление субъективное, и внутреннюю сторону его можно наблюдать только на самом себе, но так как процесс сновидения у всех людей одинаков, то, мне кажется, каждый читатель может мерить Карелина на свой собственный аршин..." (ЧП, II, 29-30). В чеховских диалогах просвечивает подсознательное, они будят у воспринимающего память о внутреннем состоянии, сопутствующем автоматическим речевым действиям, об ассоциативных ходах собственной мысли. Чеховский подтекст - это специфическая форма интериоризации образа. Писатель прямо заявлял: "Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, помня, что недостающие в рассказе субъективные элементы он добавит сам" (ЧП, IV, 54). Эту особенность чеховской манеры подчеркивал Белый: "...мы постигаем их (героев - Л.Б.) изнутри", проникая "в удаленные зоны чеховского интимизма", "по двум штрихам восстановляем мы подразумеваемые штрихи" (БА, 403, 399).
Второй план действия порой как бы приоткрывается у Чехова в паузах. Принято думать, что их содержание – пустота, ничто21, на самом деле многие паузы хорошо “прослушиваются”. В третьем действии "Чайки", начав было отговаривать брата от переезда в город, Аркадина "после паузы" соглашается: "Ну, живи тут, не скучай, не простуживайся. Наблюдай за сыном. Береги его. Наставляй". После чего идет еще одна пауза, столь же прозрачная: "Вот уеду, так и не буду знать, отчего стрелялся Константин". Ремаркой "в раздумье" сопровождается третья реплика героини: "Поступить бы ему на службу, что ли..."
Слова у Чехова если и не до конца раскрывают мысли, то по крайней мере подсказывают их направление:
“Пауза.
Анна Петровна. ...Доктор, у вас есть отец и мать?" (Ч, XII, 20).
Как правило, после паузы герои решаются на самые откровенные признания:
“Пауза.
Соня. Скажи мне по совести, как друг... Ты счастлива? Елена Андреевна. Нет" (Ч, XIII, 88); "Пауза.
Ольга. ...Я бы любила мужа" (Ч, XIII: 122); "Пауза.
Вершинин. ...Я никогда не говорю об этом, и странно, жалуюсь только вам одной... Кроме вас одной, у меня никого, никого..." (Ч, XIII, 143); "Пауза.
Маша. ...Я люблю, люблю... Люблю этого человека..." (Ч, XIII, 168).
В чеховском диалоге, где обычно развивается сразу несколько тем, пауза не всегда означает "перерыв в говорении". Когда одна из нитей разговора обрывается, другие могут связаться с ней самым причудливым образом:
“Ольга. …Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну, и радость заволновалась в моей душе, захотелось на родину страстно.
Чебутыкин. Черта с два!
Тузенбах. Конечно, вздор" (Ч, XIII, 119-120); "Ольга. ...Я бы любила мужа.
Тузенбах (Соленому). Такой вы вздор говорите, надоело вас слушать" (Ч, XIII, 122).
Исследователи считают, что таким, на первый взгляд, непреднамеренным скрещением фраз "Чехов дает выход своему голосу, авторской иронии"22, что так создается "иронический рефрен к мечтаниям сестер"23 и этот принцип господствует если не во всей чеховской драматургии, то по крайней мере в "Трех сестрах"24. Однако наиболее убедительным представляется мнение об этих посторонних в диалоге сестер фразах как паузах25.
Иногда пауза перерастает свои структурно-смысловые границы. В конце первого действия "Дяди Вани", к примеру, она вбирает в себя значительную часть последующей реплики героини:
"Пауза.
Елена Андреевна. У этого доктора утомленное, нервное лицо. Интересное лицо. Соне, очевидно, он нравится, она влюблена в него, и я ее понимаю. При мне он был здесь уже три раза, но я застенчива и ни разу не поговорила с ним как следует, не обласкала его. Он подумал, что я зла. Вероятно, Иван Петрович, оттого мы с вами такие друзья, что оба мы нудные, скучные люди! Нудные! Не смотрите на меня так, я этого не люблю" (Ч, XIII, 74).
Считается, что драме не очень доступен "поток сознания". "Сложные и разноплановые, не обладающие определенностью переживания доступны в полной мере только эпической форме - внутреннему монологу с сопровождающими его авторскими характеристиками"26. Но все, что говорится Еленой до обращения к Войницкому, - это типичный внутренний монолог, где пауза - как бы ритмический сигнал перед началом внутренней речи. На краткость дистанции между паузой и внутренним монологом у Чехова указывает и то обстоятельство, что в третьем действии драмы те же самые мысли Елены ("Я понимаю эту бедную девочку... Поддаться обаянию такого человека, забыться... Но я труслива, застенчива...") отмечены ремаркой "одна". Так чаще всего маркируются у Чехова внутренние монологи. В одиночестве предается воспоминаниям Войницкий: "Десять лет назад я встречал ее у покойной сестры..." В одиночестве дает волю чувствам Соня: "О, как это ужасно, что я некрасива!.." Только самому себе признается Треплев: "Я так много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине". "В Москву! В Москву! В Москву!" - оставшись одна, тоскует Ирина. Прием, на первый взгляд, отдает архаикой: действие как будто начинает дробиться на классицистические явления. Но у Чехова значение ремарки "один", "одна" близко к "в раздумье", "задумчиво", "после паузы", "пауза".
Чеховским паузам теурги предпочитают ремарку "молчание": "Молчание ему отвечает", "Немое молчание"27; "(Призраки в ужасе) (молчание)"28; "Царство великого Молчания"29. При этом так же закономерно, как у Чехова, пауза знаменует собой углубление "человеческого", у теургов вслед за указанием "пауза" или "молчание" появляются неоспоримые признаки того, что в "реальное" вторгается "реальнейшее". "Пауза. Отзвук далекого пения. Золотое небо слегка подергивается искристыми розами Вечности"; "Пауза. Михаил повторяет тихо, про себя умиротворенный: "Возвещено о полчищах херувимских, которые с горного трона"..."; "Пауза, во время которой раздается протяжный звук - не то детский плач, не то крик ночной птицы"30; "Глубокое молчание. Потухший пророк сидит, опершись на костлявую руку. Мальчик в испуге прикасается к нему, но раздается сухой треск и его пальчик жалит колкая молния"; "Молчание. Внезапно пророк выпрямляет свой сгорбленный образ... Ясные блески разлетаются от него, снопами ложатся от засветившейся головы"31; "Молчат. Медленно светает"; "Молчат. День разгорается" (Б, IV, 28, 29). Заря, как известно, для соловьевцев равнозначна явлению Софии. В драме Сологуба "Любовь над безднами" с "молчанием гор" сливается мелодия свирели - знак того, что Дионис где-то рядом. Безгласность остается "Ее" свойством и в ироническом "Балаганчике": "Подойдет - и мгновенно замрут голоса" - "Да. Молчание наступит" (Б, IV, 11).
Значительная часть сцены Поэта с Дочерью Зодчего в "Короле на площади" отграничена у Блока ремарками "молчание": "Молчание. В то время как Дочь Зодчего медленно сходит вниз, сцена заволакивается туманом, который оставляет видимым только островок скамьи, где находятся Дочь Зодчего и Поэт" - "Молчание снова прерывается ворчливым голосом Шута" (Б, IV, 40, 42). Как "молчание" может быть истолкован и весь диалог героев:
“Поэт
Я смутное только могу говорить.
Сказанья души – несказанны” (Б, IV, 41).
Кроме того, "молчание" отождествляется тут с "музыкой моря" (голос Шута не только прерывает "молчание", но и заглушает шум моря - "Некоторое время слышна отдаленная музыка моря, которую прерывает ворчание Шута"; "... Но древнее море не может/ Напевом своим заглушить/ Пронзительный голос Шута") и далее - с Вечной Женственностью ("Слышишь ты меня?" - "Слышу музыку").
Сфера "молчания" расширяется многочисленными в символистской драматургии сценами молений. В мистерии Белого ничто так не подчеркивает драматизм конфликта, как то, что маска снимается и обнажает испуганное лицо в "тишине". Именно это обстоятельство предрешает трагический исход духовной битвы.
Созерцательное молчание, "молчаливая зоркость" - лучшая форма постижения "цветущей тишины", сакрального: "...мы молчим: мы внимаем безмолвию; тут поднимается голос: "Се... скоро" (БВБ, 48). Умению молчать символисты учились у Соловьева: "...Соловьев молча всматривался и прислушивался, редко заикаясь о "слышанном" и "виденном", если и говорил, то прикрывал слова свои шуткой"32. В письмах Блока и Белого самые сокровенные признания перемежаются "зонами молчания". Теурги не просто замолкают, они извещают друг друга об уходе в "молчание" как в особое пространство, "перекликаются" оттуда друг с другом. "Молчание" противопоставлялось "базару слов", Белый писал Блоку: "...для меня пришла пора молчания. Слишком все странно "там", я совсем потерял язык..."; "...да молчат всякие слова! Здесь тайна!.."; "Я ушел туда, откуда мой голос, и прежде глухой, совершенно не слышен"; "Да, я не пишу стихов, потому что я в стихах - стихиях"; "Тихо летаю в беспредметной ясности... всегда хочу безвольно, бесцельно, просто носиться в пространствах, носиться в несказанном..."; "...потянуло к Тебе, в безмолвие, в неизреченность"; "... об опыте реализации скромнее молчать, ибо тут начинается область эзотеризма, область действительной мистерии, а не криков о ней"; "...нужно много лет еще молчания внутри..."; "смущать Твоей тишины не хочу..."; "...одна мысль о словесном общении угнетает: хочется молчать, сидеть, смотреть на зарю..." (ББ, 31, 57, 75, 125, 135, 136, 171, 194, 197, 284, 327); "...Пришел Александр Добролюбов. Сидел в кресле. И поникал. И молчал. И грусть не пропала, но тихо, тихо в радость претворилась: мы молчали..."33.
В своих воспоминаниях Белый много пишет о "сидениях, имевших вид молчаливых радений": "...речи между мной и А.А. - вовсе не было..."; "...спасали мы в катакомбы, в молчание, - скомпрометированный теургический момент символизма...". Не удивительно, что у Белого-мемуариста плохая память на слова: "...за фотографию душевных нюансов ручаюсь: они напечатаны в сердце, а за слова - не ручаюсь: забыты"; "...где тексты слов между мной и А.А.? Нет их вовсе, пропали..."; "Разговор велся линией жеста, поступков; словами - молчали..." (БВБ, 86, 281, 56, 85, 229).
Но иногда появлялась необходимость прервать молчание - символисты боялись заблудиться в "тумане несказанности": "...определите, что вы мыслите о Ней..." "...Вы - молчите... - настаивал Белый в письмах к Блоку. - Вы - ни звука... играете молчанием"; "Вы промолчали довольно оскорбительно...", "гнетущее меня молчание". Белый требует от своего корреспондента хотя бы "минимальной сигнализации", ибо без нее "воцаряется безликое темное ничто". "Когда я приеду, мы будем говорить"; "Между нами была немота"; "Пиши, когда хочешь и как хочешь. Не смущайся словами..."; "...не может быть невысказанных слов" (ББ, 32, 197, 201, 184, 185, 186).
В "Короле на площади" конфликт достигает своей высшей точки, когда героиня, сама олицетворение "цветущей тишины", пытается побороть безмолвие Короля: Она "прерывает молчание низким и грудным голосом, который медленно несется сверху, как вздох благовеста"; "Молчание. Голос становится ярче и тревожнее, как в последний раз вспыхнувший костер". "Молчание-музыка", окрашенное звуками и красками зари, сталкивается здесь с затухающим, умирающим другим "молчанием": "Король! Во мне довольно силы, чтобы сейчас сразить тебя... Король! Я не хочу убивать тебя. Если ты угаснешь, угаснет и вот та узкая полоса зари". В финале "молчание не нарушается ни одним звуком. Бледнеет красная полоска зари" (Б, V, 57), но эра Короля сменяется не Ее эрой, а многоголосым шумом толпы и уже не музыкой, а ропотом моря.
В драмах теургов невыразимое далеко не всегда проявляется в сценическом молчании. "Реальнейшее" прежде всего приглушает звуки "человеческого", "реального", с этим и связаны особенности символистских образов "тишины". В одной из развернутых ремарок “Пришедшего” Белый рисует картину бури, когда в раскатах грома, шуме моря и дождевых потоков совершенно тонут человеческие голоса. То же самое наблюдается и у Блока: “Бури! Бури! Или – тишины!” – тоскует в “Песне Судьбы” Фаина.
Соловьевцы высоко ценили “подвиг поэтического молчания”, запечатленный Тютчевым в "Silentium"34, но нередко уклонялись с этого пути. С одной стороны, по Иванову, "слов для тайны и тишины нет, есть лишь приобщение к ним"35, а с другой стороны, для него Тютчев - первый, кто "усомнился в сообщительности поэзии", и более того, в истине самого Слова, передал в своем стихотворении не "вечную правду", а "основную ложь" эпохи, бессильной породить "соборное сознание". Для Иванова безмолвие "молчальничество, налагаемое не сомнением в слове, а трезвением слова", "хранением уст", "невольною немотой высшего экстаза" начало восхождения поэта на высоты мистики, где "духовное молчание" должно превратиться в "сообщение" (И, III, 553).
Для Белого тоже "живое, изреченное слово не есть ложь. Оно - выражение сокровенной сущности моей природы; и поскольку моя природа есть природа вообще, слово есть выражение сокровеннейших тайн природы" (БС, 429). При этом для него одинаково характерны и стремление эмансипировать в слове звуковое (музыкальное) от понятийного (БЛЗ, 521), и опыт едва ли не оккультной фонетики, доискивание скрытого смысла звуков ("Глоссолалия"). Белый ценил чеховский "случайный" диалог как способ не изменять "молчанию" (БА, 399), хотя "случайность" тесно связана у Чехова с пошлостью жизни, без которой, по мнению автора "Чайки", нельзя обойтись в драме. Иванов в этом отношении - антипод и Чехова, и Белого. Единственно возможной формой выражения невыразимого он считал "мифологическую речь", "священный язык жрецов и волхвов", не имеющий ничего общего с языком повседневности, замкнутый в себе, полный "скрытых целесообразностей". Иерархию "реальных ценностей" такой язык отражает в системе соответственно соподчиненных символов36.
Согласно символистской теории, главным выразителем "молчания" должен стать хор. "Новейшая драма стремится стать внутренней. Она "отрешается от явления, отвращается от обнаружения". Математическим пределом этого тяготения ко внутреннему полюсу трагического является - молчание... И чем уединеннее молчание героя, тем нужнее хор" (И, II, 102). На практике, однако, у символистов не раз случалось замолкать хору: "Хор плачет, безмолвствуя" (И, II, 52); "Толпа в ужасе безмолвствует" (И, II, 154); "Шум затихает. Все, кроме короля, останавливаются неподвижно, молчат и смотрят на Альгисту"37; "Толпа совершенно безмолвна" (Б, IV, 57); "Толпа безмолвна" (Б, IV, 127); "Когда Фаина кончает Песню, несколько мгновений - тихо" (Б, IV, 129); "В зале стало тихо" (Б, IV, 130). Но герой, даже понимая всю значимость "тишины", не умолкал никогда: "Мы победим любовью... Слышите... Слушайте... Они уже не ропщут... Водворяется тишина... Тишина. Бог в тишине"38; "Но - есть где-то глубже души и глубже воления надежд, - Молчание. И мое Молчание тоже при мне. В моем Молчании нет ни да, ни нет. Дух идет со всем творением и что знает и что будет, - того не скажет душе. Покорность Веры - мое Молчание"39.
Теурги то и дело взрывали "тишину" бурными дебатами о "Ней", "Лучезарной". "Сыпал свои арабески из слов" Эллис, С.Соловьев разоблачал "романтическую невнятицу" стихов Блока" (БВБ, 71, 178). "Молчание" Белого, по его собственным словам, в печати часто выражалось "истерическим бунтованьем" (ББ, 37). О себе он говорил: "обычай мой сыпаться словом, проматывать словом душевное содержание". Белый боролся и с собой, и с собратьями-теургами. "...После Антония наши слова о мистерии, о соборности, о братстве казались крикливыми... стиснув зубы, пытался привить тихий ритм аргонавтам". "Аргонавты галдели". Исключением был Блок, он действительно молчал о сакральном: "А.А. зеленеет в словесных потоках..."; "Блок бежал "болтовни"..."; "А.А. очень редко... показывался в говорильнях"; "он... не выносил "разговоров", которые я выносил..."; "созидающее молчание ... лилось на меня". Безмолвность, тихость ("молчанье" большой головы, "медленные слова", чуть "придушенный голос") - основные черты беловского портрета Блока (БВБ, 60, 49, 71, 164, 165, 56, 298).
Поведение в литературном быту, безусловно, роднит Блока с Чеховым, который тоже больше любил слушать, чем говорить, и "всегда уклонялся от отвлеченных разговоров"40. Особенно на мистические темы. Когда одна из корреспонденток сообщила ему, что стала ясновидящей, Чехов только заметил: "...отвечать... на такие письма я не умею серьезно..." (ЧП, VII, 122). Но чаще все-таки Чехов и Блок молчали о разном, первый - не находя достойной обсуждения, социально значимой темы41, второй - потому что" целомудренно, тихо таил безглагольные подступы к знанию" (БВБ, 90).
Молчала и Прекрасная Дама: "Нет, я говорить не умею: я - слушаю". Для Мережковских атмосфера Блоков - "метерлинковское косноязычие", "чревовещание", "невнятица". Но Блок, по словам Белого, выставлял "невнятицу" как щит от соблазнов гностицизма. (БВБ, 62, 206). На многоговорящих была направлена ирония поэта в "Балаганчике". Символистская критика обрушилась на него за это с обвинениями в кощунстве, но никакого кощунства, с точки зрения соловьевской теории, в "лирических драмах" Блока, конечно, нет. "Лучезарная" и явилась здесь "закрытой", бессловесной (Коломбина), и исчезла Незнакомкой.
Брюсов, вспоминал Белый, сразу заметил отличие его манеры от творческой манеры Блока: "...я-де во всем пересказываюсь; и это-де идет мне; а Блок - недосказывается" (БВБ, 35). Брюсов считал недосказанность господствующим приемом в "Стихах о Прекрасной Даме": "А.Блоку нравилось вынимать из цепи несколько звеньев и давать изумленным читателям отдельные, разрозненные части целого"42. Но "невнятица" и уходит из стихов Блока, подчиняясь "молчанию". Нежеланием "затемнять Истинность" объяснял он свою потребность оставаться в границах "положительного письма" (ББ, 119-120). Заметим, Блок стал считаться с “границами” раньше, чем в символистской теории появился принцип "верности вещам". Уже в "Нечаянной радости" он, по мнению Брюсова, - поэт "полных звуков", а не "молчания"43.
Сопоставление чеховского “невыразимого” с символистским будет неполным, если не добавить, что наряду с паузами промежутки молчания есть и в пьесах Чехова. Драматургически это выражается по-разному. Герои или бормочут что-то бессвязное ("Дуплет в угол... Круазе в середину" - Гаев произносит "в глубоком раздумье"), или напевают, насвистывают, играют меланхолический вальс, наконец, просто замолкают. В первом действии "Трех сестер" молчит не только Маша, но и Ирина. "О чем вы думаете?" трижды на протяжении короткой сцены спрашивает ее Тузенбах. В "Чайке" после представления пьесы Треплева из общего разговора надолго выключается Дорн. В первом действии "Дяди Вани" за чаем молчит Елена Андреевна. "Зачем так много говорить?" - укоряет брата Раневская. "...Боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим"!" - предлагает Трофимов. Глубокой общей паузой - "Тихий ангел пролетел" - завершаются театральные воспоминания Шамраева. Чеховские герои любят помолчать не меньше, чем пофилософствовать. Сам характер их бесед при желании позволяет легко уклониться в молчание. У символистов "слушание - было активным" (БВБ, 62), у Чехова оно бывает таким далеко не всегда. Правда, в "Дяде Ване" Соня помнит каждое слово вдохновенной астровской лекции о лесах. Астров не Шамраев, но и его не все слушают так внимательно: "Я по лицу вижу, что это вам неинтересно" - "Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты".
Чем заняты мысли, до конца невозможно определить даже тогда, когда причина молчания, на первый взгляд, очевидна. В последнем действии "Чайки" в ответ на просьбу Полины Андреевны приласкать Машу Треплев, как указано в ремарке, "встает из-за стола и молча уходит". Ненамного яснее в своей последней глубине и молчание Полины Андреевны, когда она "подходит к письменному столу и, облокотившись, смотрит в рукопись". Далее у Чехова идет пауза. Но "перерыва в говорении" тут нет, поскольку никакого разговора перед тем не было. Паузой здесь обозначено молчание, а свое молчание герои, как правило, затрудняются объяснить: "Ну, зачем я это говорю? Привязалась ко мне эта фраза с самого утра...", "Почему это слово у меня в голове?" У Ирины это и "Николай Львович, не говорите мне о любви", и "работать нужно, работать", и еще что-то сверх того, что выражается только слезами, то есть уже на чисто эмоциональном уровне.
Какими бы словами не прикрывалось молчание чеховских героев, оно всегда остается непроницаемым, с ним прежде всего связана у Чехова тайна “внутреннего человека”. Он только раз опрозрачнивает молчание - в сцене "покаяния" Маши: "Это моя тайна, но вы все должны знать... Не могу молчать... Призналась вам, теперь буду молчать... Буду теперь, как гоголевский сумасшедший... молчание... молчание..." В финале Маша опять уходит в себя, повторяя, как и в первом акте: "У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...".
Невыразимое у Чехова - это особое измерение "реального", выход во внутренний мир героев. Невыразимое у теургов - "предел постижимого", которому "не соответствует никакое представление", "абсолютная свобода, из которой берут начало все формы", "чистая интенциональность"44. Герои Чехова не прорываются в вечность, но в результате безмолвных раздумий склоняются перед ней: "Умей нести свой крест и веруй"; "...будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба"; "надо жить". Чеховская "пауза", будучи, на первый взгляд, результатом сакрализации "человеческого", ближе к "пределу представимого", чем символистское "молчание", которое то и дело оборачивается профанацией сакрального.
Как видим, категории, общие символистской и чеховской драме, в то же время настолько различны, что их можно свести лишь в очень нечеткое, относительное и весьма противоречивое единство. Не пытаясь унифицировать эти явления, к ним следует отнестись как к двум из многих модификаций "новой драмы".
Список сокращений
Б – Блок А. Собр. соч.: В 8 тт. – М.; Л., 1960-1963.
БА – Белый А. Арабески – М., 1911.
ББ – Александр Блок и Андрей Белый: Переписка. – М., 1940.
БВБ – Белый А. Собр. соч: Воспоминания о Блоке. – М., 1995.
БЛЗ - Белый А. Луг зеленый. – М., 1910.
БС – Белый А. Символизм. – М., 1910.
И – Иванов В. Собр.соч. – Брюссель, 1971-1987.
Ч – Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 тт. – Сочинения: В 18 тт. – М., 1974-1983. ЧП – Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 тт.- Письма: В 12 тт.
1 О современном состоянии проблемы дает представление сборник “Чеховиана. Чехов и “серебряный век” (М., 1996).
2 См.: Собенников А.С. Художественный символ в драматургии А.П.Чехова: Типологическое сопоставление с западно-европейской “новой драмой”. – Иркутск, 1989. – С.171-172; Cymborska-Leboda M. Czechow a estetyka symbolizmu. // Antoni Czechow. – Т.16. - Warszawa, 1989. – S.120-122.
3 Cymborska-Leboda M. Op. cit. – S.121.
4 См.: Родина Т. А.Блок и русский театр начала ХХ века. – М., 1972. – С.212-217; Паперный З.С. Блок и Чехов // Литературное наследство. Александр Блок: Новые материалы и исследования. – Кн.4. – М., 1987. – С.127; Головачева А.Г. “Мира восторг беспределельный…”: (О романтическом сознании героев Чехова и Блока) / / Чеховские чтения в Ялте: Чехов: взгляд из 1980-х. – М., 1990. – С.109.
5 См. Иванов Вячеслав. Апокалиптики и общественность // Весы. – 1905. - №6.- С.37-39.
6 Брюсов В. Литературное наследство. – Т.85. – М., 1976. – С.379.
7 Авилова Л. А.П.Чехов в моей жизни // А.П.Чехов в воспоминаниях современников. – М., 1986. – С.124.
8 Straszkowa O. Чехов, символисты и “новая драма” // Antoni Czechow. – T.16. – S.133-134.
9 Создается впечатление, “что в душе изображаемого человека есть нечто скрытое, неназванное…, и оно-то и играет решающую роль в психологических катаклизмах личности… Чехов останавливается у некоей черты. За ней, быть может, и лежит то главное, которое объяснит все. Но туда он не считает возможным вступить. В чеховской художественной концепции человека этот последний, глубинный пласт сознания (или подсознания?) – “черный ящик”. Доподлинно известны только импульсы входа и выхода”, - пишет А.П.Чудаков (Поэтика Чехова. – М., 1971. – С.237, 238).
10 Мыльникова И.А. Статьи Вяч.Иванова о Скрябине // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1983. – Л., 1985. – С.97.
11 Альтман М.С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. – С-Пб., 1995. – С.27-28.
12 См.: Мочульский К. Андрей Белый. – Томск, 1997. – С.155; Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман “Петербург”. – Л., 1988. – С.193-196.
13 Постникова Т. К вопросу о трансформации некоторых черт поэтики Ф.Достоевского в романе А.Белого “Петербург” // Из истории русского реализма конца ХIХ – начала ХХ в. - М., 1986. – С.142.
14 Эллис. Русские символисты. – Томск, 1996. – С.208.
15 Собенников А.С. Указ. соч. – С.53-90.
16 Брюсов В. Собр. соч.: В 7 тт.- Т.6. – М., 1975. – С.122.
17 Белый А. Симфонии. – Л., 1991. – С.252.
18 Белый А. Пришедший. // Северные цветы ассирийские – М., 1903. – С.12.
19 Терапиано Ю. Встречи. – Нью-Йорк, 1953. – С.168.
20 Фадеева Н.И. Новаторство драматургии Чехова. – Тверь, 1991. – С.11.
21 Gräfin v.Brühl Ch. Die nonverbalen Ausdrucksmittel in Anton Čechovs Bühnenwerk. – Frankfurt a/Main, 1996.- S.44.
22 Овсиенко Ю.Г. Авторский голос в пьесах А.П.Чехова // Литературный музей А.П.Чехова в Таганроге.: Сб. статей и материалов. – Вып.3.- Ростов, 1963. – С.148.
23 Бердников Г. Избранные работы: В 2 тт.- Т.2.- М., 1986. – С.290.
24 Катаев В.Б. Литературные связи Чехова. – М., 1989. – С.209.
25 Stender-Petersen Ad. Zur Technik der Pause bei Čechov // Anton Čechov. 1860-1960: Some essays.- Leiden, 1960.- S.192.
26 Хализев В.Е. Драма как род литературы . – М., 1986. – С.112. См. также: Волькенштейн В.М. Драматургия. –Изд.5-е, доп. – М., 1969. – С.116; Сахновский-Панкеев В.А. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. – Л., 1968. – С.41.
27 Белый А. Указ. соч. – С.24, 25.
28 Белый А. Антихрист: Конспект и детский набросок к ненаписанной мистерии // Департамент Истории Европейской цивилизации. – Ун-т Торонто, 1990. – С.82.
29 Бальмонт К. Три расцвета // Северные цветы ассирийские. – С.28.
30 Белый А. Пришедший. – С.3, 5, 23.
31 Белый А. Пасть ночи // Золотое руно. – 1906. - №1. – С.67, 68.
32 Ларов А.В. Юношеские дневниковые заметки Андрея Белого // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1979.- Л., 1979. – С.133.
33 Из неизданных писем Андрея Белого к Александру Блоку / Пред., публ. и ком. А.Лаврова // Литературное обозрение. – 1980. - №10. – С.104.
34 Об ивановской интерпретации стихотворения Тютчева см.: Malmstad J.E. Mandelstam’s “Silentium”: A Poet’s Response to Ivanov // Vyacheslav Ivanov: Poet, Critic and Philosopher.- New Haven, 1986. – P.243.
35 Мыльникова И.А. Указ. соч. – С.113.
36 См.: Аверинцев С.С. Системность символов в поэзии Вячеслава Иванова // Контекст 1989. – М., 1989. – С.42-57.
37 Сологуб Ф. Собр. соч. – Т.8. – М., 1910. – С.50.
38 Белый А. Пришедший. – С.10.
39 Зиновьева-Аннибал Л. Кольца. – М., 1904. – С.155.
40 Авилова Л. Указ. соч. – С.202.
41 “О чем говорить? У нас нет ни политики, у нас нет ни общественной, ни кружковой, ни даже уличной жизни, наше городское существование бедно, однообразно, тягуче, неинтересно… в нашем молчании, в несерьезности и в неинтересности наших бесед не обвиняй ни себя, ни меня, а обвиняй, как говорит критика, “эпоху…” – писал Чехов В.И. Немировичу-Данченко (ЧП, IV, 241-242).
42 Брюсов В. Указ. соч. – С.329 .
43 Там же.
44 Сиклари А.Д. Миф и символ – Андрей Белый и Вячеслав Иванов //Vjačeslav Ivanov: Russischer Dichter – europäischer Kulturphilosoph. - Heidelberg, 1993.- S.321.