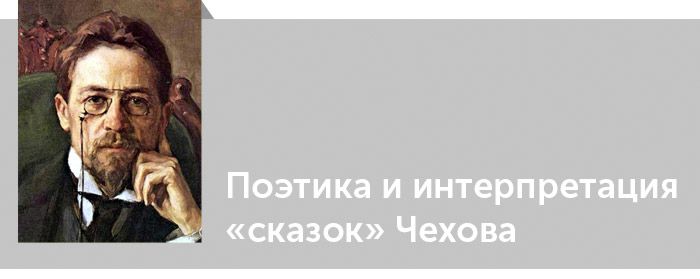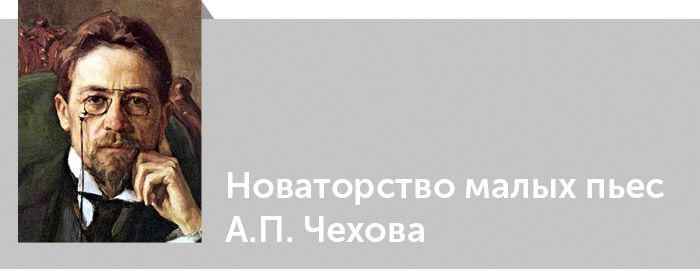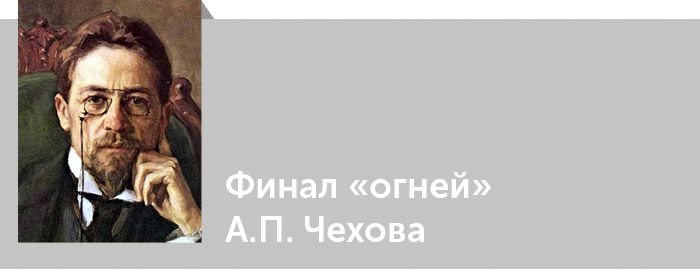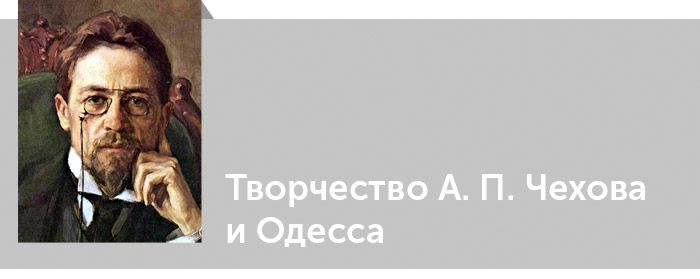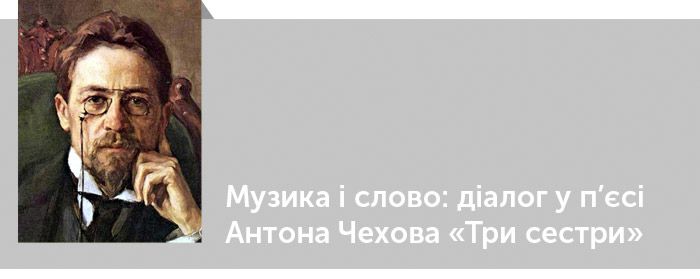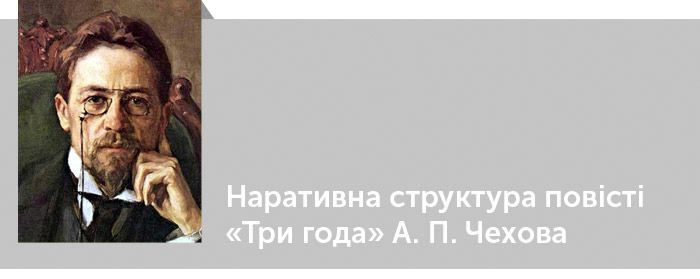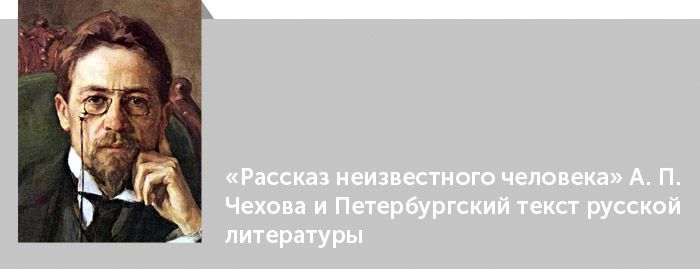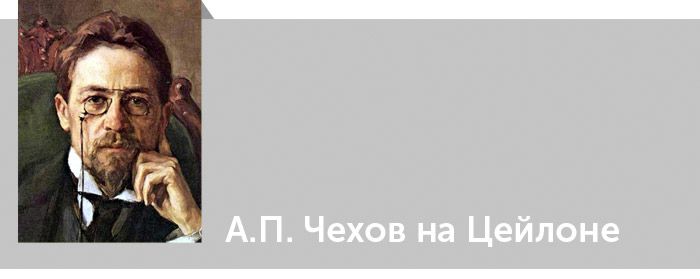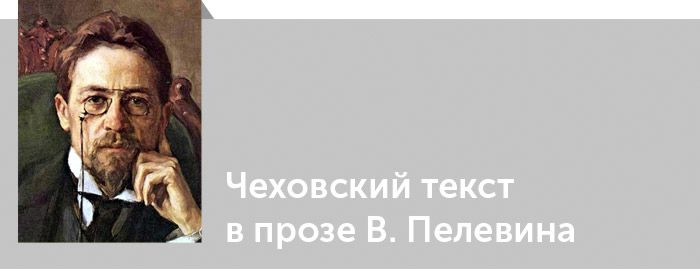«Степь» А. Чехова и С. Бондарчука: экранизация как предмет нарратологии

УДК 82.0: 7.094
Е. И. Просцевичене
Статья представляет сравнительный анализ нарративной позиции в литературном произведении и его экранно версии. Внимание направлено на соответствия между типами нарратора и факторы, влияющие на выбор нарративных средств. Рассмотрены повесть А. Чехова «Степь» и фильм С. Бондарчука на ее основе.
Ключевые слова: диегетический нарратор, нарратор-повествователь, нарратор-демонстратор, экранизация, точка зрения.
«СТЕП» А. ЧЕХОВА ТА С. БОНДАРЧУКА: ЕКРАНІЗАЦІЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАРАТОЛОГІЇ
Стаття містить порівняльний аналіз наративної позиції в літературному творі та його екранній версії. У центрі уваги – відповідності між типами наратора та факторами, що впливають на вибір наративних засобів. Розглянуто повість А. Чехова «Степ» та зняту за нею стрічку С. Бондарчука.
Ключовіслова: діегетичнийнаратор, наратор-оповідач, наратордемонстратор, екранізація, точказору.
O. J. Prostsevichene «THE STEPPE» BY A. CHECKOV AND S. BONDARCHUK: SCREEN ADAPTATION AS NARRATOLOGY SUBJECT
The article presents a comparative analysis of narrative position in a fiction and its screen version. The attention focuses on the correspondence between different types of the narrator and factors influencing the choice of narrative meanings. A. Checkov's novel «The Steppe» and S. Bondarchuk's movie based on it are considered.
Keywords: diegetic narrator, the narrator, the narrator-demonstrator, a screen, a point of view.
Актуальность темы, которой посвящена данная статья, определяется ее узловым положением на стыке разных искусств и – одновременно – нескольких научных дисциплин. Межвидовое взаимодействие искусств стало предметом нарратологического интереса примерно в середине прошлого века, когда развитие семиотики позволило посмотреть на все художественные языки как на равноправные коды для передачи информации: вместо того, чтобы усматривать в музыке, живописи или кино эстетический инвариант литературы (как это было долгое время), исследователи занялись поиском их общих структурных элементов, закономерностей построения и функционирования.
Особенно интенсивно ведется изучение взаимодействия литературы с кинематографом, несмотря на непродолжительность самого существования последнего. Тем не менее, экранизация остается эклектичной сферой, которая крайне нуждается в собственной теории. Такая теория формируется на стыке семиотики, нарратологии, теории кино в рамках интермедиальности как принципиально пограничной научной дисциплины, призванной объединить присущие им подходы и наработанные инструменты. Предложенный нами подход к анализу литературного и кинематографического произведений сопрягает изучение специфических художественных особенностей каждого из них в рамках межвидового взаимодействия под более широким, нарратологическим, углом зрения, что позволяет выявить общность их онтологической основы при разнице художественных языков.
Одно из плодотворных направлений развития интермедиальности (в ведении которой находится указанная проблематика) видится нам в распространении методов и приемов нарратологии, уже опробованных на литературных текстах, на их экранные эквиваленты. В данной статье мы рассмотрим, как реализуются в литературном произведении и его экранизации некоторые ключевые нарратологические понятия: в частности, типы повествователя и способы формирования повествовательной позиции. В качестве материала для исследования выбрана повесть А. Чехова «Степь» и одноименная экранизация, выполненная С. Бондарчуком в 1977 г.
Основная цель настоящей работы – в установлении закономерностей преобразования литературного нарратива в фильмический. Для ее достижения мы предполагаем решить несколько задач:
1. уточнить понятия нарратора, а также диегетического и недиегетического нарратора применительно к кино, ввести понятия нарратора-повествователя и нарратора-демонстратора, определить доступные им выразительные средства на базе их принципиальной общности;
2. установить соответствия между средствами организации нарратива в литературе и кино, выявить причины выбора тех или иных средств при транспозиции;
3. проверить работоспособность нарратологического инструментария на почве другого вида искусства.
Такие цели и задачи определяют основной метод, выбранный нами: сравнительный анализ порождающего и порожденного нарративов.
По-видимому, необходимо оговорить систему понятий, использованных в статье:
некоторые из них либо не вполне еще прижились в отечественной науке, либо претерпевают изменение своего значения.
Под нарративными произведениями мы понимаем тексты, основанные на истории, под нарративностью – комплекс признаков «определенной структуры излагаемого материала» [1, с. 13]. Такое понимание сложилось во второй половине прошлого века в западной нарратологии под воздействием структурализма, и его естественным продолжением стало представление о том, что нарративность присуща не только вербальным видам искусства, но и визуальным и аудиовизуальным, которые также имеют дело с текстом – «как любой семантически организованной последовательностью знаков» [2, с. 7]. (Поэтому нам кажется правомерным использование такого понятия, как «кинотекст», – наряду с «фильмом» и «экранизацией»).
Нарратологическая мысль отреагировала на расширение своего предмета повышенным вниманием к нарративным возможностям живописи, кино и других искусств, традиционно считавшихся визуально-пространственными, якобы не располагающими нарративными возможностями. Для обозначения типологически близких принципов отражения действительности в различных искусствах стало использоваться понятие текстотипа. Важная роль в утверждении этого понятия принадлежит С. Чэтмену, который предложил классификацию искусств, построенную на разнице между текстотипами. Соглашаясь с американским нарратологом, что «как рассказывание, так и показывание могут нести историю, причем в различном сочетании, мы нуждаемся в термине, который может быть отнесен к каждому из них»
(«both telling and showing can transmit stories, and in any combination, we need a term that can refer to either or both indifferently» [3, с. 113], перевод с английского наш), мы обращаемся к введенному им понятию «презентатора» («presenter»), который распадается на «tell-er» и «show-er» в зависимости от используемых средств, но предлагаем их русифицированные варианты.
Предложенную С. Чэтменом классификацию искусств, незначительно модифицировав, принимает и В. Шмид. Говоря о разных типах нарратора, мы также следуем за немецким славистом, с точки зрения которого самым важным типологическим признаком является участие/неучастие в повествуемой истории. По этому признаку различаются диегетический и недиегетический нарраторы.
Узнаваемость экранизируемой истории (к ней стремится автор фильма, указывающий на его жанр как на экранизацию) обеспечивается возможно более точным сохранением структурных элементов, отличающихся высокой функциональностью: чем выше функциональность, тем большую устойчивость к интермедиальным изменениям проявляет данный элемент. Поэтому обращение к повести А. Чехова «Степь» как материалу для экранизации представляется чрезвычайно интересным, ведь это – образец очень низкой функциональности в мировой литературе. Два данных произведению названия фиксируют неопределенность текстотипа между описанием и повествованием и двойственность его возможного восприятия. Основное название «Степь» ориентирует читателя на то, что перед ним – описание, а не нарратив. Однако подзаголовок «История одной поездки» содержит два уверенных указания на повествование: история и поездка, то есть перемещение, действие. Все же и при первом восприятии, и при более тщательном анализе можно говорить об определенной бесфабульности, благодаря которой произведение кажется совершенно несценическим, непригодным для перенесения на экран.
Повесть начинается с того, как Иван Иваныч, отец Христофор и Егор выезжают из дому, чтобы приехать, каждый со своей целью, в город, и заканчивается приездом: таким образом, герои достигают своих целей. Иван Иваныч и отец Христофор продают шерсть и устраивают Егорушку в доме у Настасьи Петровны, чтобы в августе он мог поступать в гимназию. Легко представить себе повествование, где событие переезда на другое место (или поездки) оказалось бы частным эпизодом, возможно, послужило бы завязкой действия и заняло бы несколько строк, здесь же оно определяет начало и конец истории, задает ее границы. Такая невыразительность интриги заставляет предположить, что настоящее действие, интересное А. Чехову и читателю, не в этой внешней событийности.
В начале представляется, что среди нескольких целей поездки более важными являются «взрослые» цели Кузьмичева и о. Христофора, которые хотят продать шерсть и «заодно» отвезти в город Егорушку. Однако по мере развития действия первостепенную важность обретает фигура Егорушки: его взгляд и понимание ситуации почти всегда представлены «изнутри» (в отличие от других героев, рассматриваемых только извне), его внутренний мир открыт для недиегетического повествователя, а последняя сцена повести заставляет переоценить и важность всех частных, якобы случайно совпавших целей. Если для Кузьмичева и о. Христофора поездка в город – рядовая, одна из множества рутинных поездок, то для Егорушки она знаменует собой начало новой жизни. Он единственный персонаж, в жизни которого произошло серьезное изменение и который поэтому может быть рассмотрен как герой наррации. Такая переоценка подготавливается постепенно, накапливаясь в ряде мелких и более значимых индексов, и наконец разворачивается в прямом монологе нарратора в самом конце повести.
Таким образом, смысловые акценты смещаются с ненапряженной линии внешней событийности на медленно накапливающиеся внутренние изменения, в центре которых Егорушка.
Главную сложность, с которой сталкивается экранизатор, можно сформулировать следующим образом. Событийная линия «Степи» держится всего на двух ядерных функциях, и ни при какой трансформации изменение хотя бы одной из них невозможно: не станет поездки. Однако сохранение этой последовательности функций обеспечивает только «техническую» узнаваемость истории, воспроизведя ее внешнюю событийность, в то время как настоящее содержание сосредоточено во внутреннем мире Егорушки.
Перенесение на экран этого «внутреннего» смыслового пласта не может быть реализовано через какие-либо операции с функциональными элементами: кардинальными функциями или катализаторами – оно возможно только через сохранение ключевых дискурсивных особенностей чеховского повествования.
Общая нарративная позиция в повести может быть охарактеризована как исключительно имплицитная (текст не содержит никаких следов самоописания нарратора), личностная (нередко взволнованность тона выдает заинтересованность нарратора в каких-то идеях), всезнающая «олимпийская» (нарратору доступны мысли и чувства персонажей, он способен занимать точку зрения одного из них и изображать событие в «геройной» перспективе), недиегетическая (он не принимает участия в изображенных событиях и даже не присутствует в них в силу своей олимпийской неантропоморфности). Ключевая смыслообразующая особенность этого нарратора – способность принимать точку зрения персонажа. Именно на систематическом совмещении его перспективы повествования с Егорушкиной основывается нарастание внутреннего смысла повести, значимость внутренних изменений на фоне нерелевантности внешних событий. Конечно, ограничение собственного всезнания рамками доступной герою перспективы может решать частные задачи, важные для отдельного эпизода. Но систематическое проникновение в сознание одного из героев позволяют удерживать его в поле зрения читателя – как центрального, как призму, через которую и он, читатель, воспринимает происходящее. В «бесфабульной» чеховской истории с ее бессобытийностью это способ переключения внимания на те глубокие изменения, которые подготавливаются во внутреннем мире Егорушки.
При том что такому нарратору доступны любые события внешнего движения истории и внутренней жизни персонажей, в процессе транспозиции они должны обрабатываться по-разному. Границы диапазона можно обозначить следующим образом: на одном полюсе – прямое объективное изображение внешних обстоятельств или поступков (бричка въезжает на постоялый двор, из нее выходит Кузьмичев...): это то, что в фильме представляется в виде мизансцены, объектов и их движения, актеров с определенной внешностью, костюмов, актерских движений, мимики, жестов и слов; на другом – недоступные для актерской игры ощущения или абстрактная информация: все это должно быть либо передано вербально, либо опущено («ненавистная бричка бежала мимо», «ранним июльским утром»), сюда же следует отнести лирические отступления отсутствующего в пространстве кадра нарратора.
Как же экранизация «работает» с такими аспектами порождающего нарратива, как тип нарратора, приемы презентации отдельных эпизодов и точка зрения? Что касается средств ведения наррации, мы исключим из поля зрения вербальное повествование, равное по объему повествованию из порождающего произведения: закадровый голос в таком виде не нашел распространения, поскольку превращает зрительный ряд в иллюстрацию к слову и противоречит природе кино. Однако как часть наррации он используется, например, для передачи информации, которая плохо поддается изобразительной объективации. Такой тип повествовательного агента мы предлагаем называть нарратор-повествователь: он пользуется вербальными средствами ведения наррации.
Аудиовизуальный ряд, отражающий происходящие события (в том числе разговоры действующих лиц) является другим способом представления истории, изобразительным, а использующий его повествовательный агент может быть назван нарратором-демонстратором.
Вторая часть каждого из этих определений отражает средство ведения наррации: в одном случае это прямое слово, не имеющее адресатов в кадре, а во втором – видеоряд, включающий в себя персонажей, их поступки и сообщения. Эти сообщения адресованы другим персонажам и изображаются нарратором точно так же, как любые действия героев в кадре, что принципиально отличает их от слова нарратораповествователя. Общность первой части определений указывает на то, что оба агента – проявление единой повествовательно-смысловой инстанции. Ее единство сказывается в цельной организации наррации, в том, что нарратор-повествователь и нарратордемонстратор «знают» друг о друге, каждый из них «действует» на вверенном ему участке таким образом, чтобы формировать общую нарративную позицию.
Каждый из этих агентов может быть представлен диегетическим (принимающим участие в повествуемых событиях) и недиегетическим типом. Недиегетический нарратор-повествователь чаще всего реализуется как закадровый голос, не локализованный в кадре субъектно, а недиегетический нарратор-демонстратор – как камера, если изображение не содержит индексов, позволяющих предположить за ней одного из персонажей.
Однако, как мы уже сказали, в повести А. Чехова очень важны моменты слияния точек зрения нарратора и героя. Самое тщательное воспроизведение внешней событийной линии без сохранения найденной А. Чеховым перспективы изображения от Егорушки неизбежно привело бы к радикальным смысловым потерям, превратило бы экранизацию в механическую иллюстрацию к литературному прототипу. Реализация того взгляда на мир, который культивируется в чеховской повести, требует диегетического нарратора. Это может быть диегетический нарратор-повествователь: всякое повествовательное высказывание персонажа может быть расценено как диегетический нарратив второго уровня (здесь мы не останавливаемся на критериях повествовательности, ориентируясь на тот набор, который дает В. Шмид в указанной выше книге); или диегетический нарратор-демонстратор: именно эта модель активно используется С. Бонадарчуком.
Рассмотрим каждую из них подробнее.
Статус диегетического нарратора-повествователя доступен каждому фильмическому персонажу, в уста которого вложено некоторое повествовательное сообщение. Кажется, что ему может быть просто передано высказывание его литературного прототипа. Сложность, однако, заключается в том, что высказывание литературного персонажа дается чаще всего в обработке нарратора, следовательно, имеет место языковая интерференция разной степени, в результате которой формируется его многослойность. Если представить себе, что герои рассказа – реальные люди и все происходящее имело место в действительности, а потом было описано в литературном произведении, то режиссер как бы проделывает операцию по восстановлению первоначального звучания, реконструирует слова героев, очищая их от всех тех напластований, которые привнесены опосредующими инстанциями: Егорушкой и повествователем. Высказывания фильмических персонажей лишаются многослойности: голосу каждого возвращается его идеологическая, оценочная, фразеологическая определенность, которая в рассказе размывалась другими сознаниями.
Посмотрим, как это происходит, на примере эпизода у костра. В повести он дан в перспективе от Егорушки: повествователь принимает его точку зрения в плане психологии и оценки, на что указывают и однозначные ремарки, и отдельные индексы, позволяющие понять, что рассказы возчиков слушает и оценивает девятилетний мальчик, с соответствующим возрасту и воспитанию жизненным опытом и видением ситуации. Только Егорушка может воспринимать жалобы мужиков на то, что кончилась их замечательная прошлая жизнь, вполне серьезно: в перспективе от повествователя их рассказы оценивались бы совершенно иначе.
Каждый переданный повествователем рассказ содержит в себе несколько смысловых и речевых слоев. Они создаются «первоисточником» (Пантелей, Емельян, Кирюха, Дымов), обрабатывающим содержание первоисточника сознанием Егорушки и, наконец, собственно повествователем, его речью и точкой зрения.
«Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и, прежде чем каша была съедена, он уже глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былоевремя, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некудабылодеватьденег. Акакиевтовремябыликупцы, какаярыба, каквсебылодешево! Теперьжедорогисталикороче, купцыскупее, народбеднее, хлебдороже, всеизмельчалоисузилосьдокрайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отличночиталноты, теперь же он обратилсявмужикаи кормитсямилостямибрата, который посылает его со своими лошадями и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике, Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником» [4, с. 65].
Все рассказы переданы через восприятие Егорушки, чье сознание и само становится предметом изображения. В самом начале нарратор прямо ссылается на его понимание: «Егорушка понял...», «Егорушка еще не знал этого … он уже глубоко верил...». При этом осуществляется двойная оценка содержания рассказов: одна проистекает из того, во что верил Егорушка, с его недостаточным жизненным опытом, вторая – из той интерпретации рассказов обозников, какая возможна со стороны опытного человека, знающего жизнь.
Повествование насыщено более и менее сильными индексами, указывающими на героев, к которым оно относится, мысли и чувства которых в себя втягивает. Более того, в тексте можно прямо выделить элементы слова персонажа. Сначала происходит соскальзывание к позиции Пантелея, границы слова которого определяются очень четко (в приведенном выше фрагменте они выделены курсивом). Несмотря на то, что на этом участке текста нет совмещения различных грамматических характеристик, которое явилось бы однозначным формальным критерием для определения несобственно-прямой речи, языковая интерференция явно имеет место: сначала правильная литературная, постепенно речь нарратора начинает спорадически вбирать в себя разговорные обороты и слова, характерные для Пантелея, а потом полностью строится так, как это сказал бы Пантелей. Последние два предложения передают речь персонажа буквально, ничего не изменяя ни в порядке слов, ни в построении, хотя их формальным источником остается нарратор.
Если принадлежащие Пантелею части текста можно подвергнуть полному вычленению (например, взять в кавычки, перестроив весь фрагмент как сочетание прямой речи Пантелея со словами автора), то слова других персонажей проникли в
речь нарратора не так явно и слились с ней более естественным образом. Здесь имеет место то явление языковой интерференции, которое Б. Успенский называл «внутриязыковым двуязычием»: «В одной и той же фразе (представляющей собой к тому же простое предложение) совмещено несколько точек зрения – или, иначе говоря, совмещены элементы двух сфер речи» [2, с. 53]. Во фрагменте о жизни Емельяна части, несущие явные особенности его словоупотребления и оценки, вкраплены в текст повествователя настолько фрагментарно, что их выделение вызвало бы значительные трудности, связанные еще и с тем, что в них преобладает оценка, а это тот план, который меньше всего поддается формализации.
Степень проникновения нарратора в сознание персонажа уменьшается с каждым следующим героем. Чем глубже повествователь порождающего произведения проникает в сознание героя и позволяет его точке зрения повлиять на собственную, тем проще осуществить перенесение высказывания в экранизацию, тем меньшие изменения при этом требуются, да и носят они частный характер. Однако когда герой «не пропускает» нарратора в свой внутренний мир и изображается извне, возникает необходимость в более значительных изменениях.
Так, реплика Пантелея практически полностью повторяет текст из повести: «Вот в былое время, когда еще и железных дорог-то не было, ходил я с обозами в Москву, в Нижний, зарабатывал так много, что некуда девать было денег … да-а … А какие в то время были купцы, какая рыба! Как все было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ бедней, хлеб дороже. Измельчало все и сузилось до крайности».
Имеющие место незначительные изменения вызваны, во-первых, сменой лица (повествователь передавал рассказ Пантелея, говоря о нем в третьем лице, сам Пантелей рассказывает о себе в первом), во-вторых, тем, что высказывание вернулось в ситуацию естественной беседы: стремясь привлечь к себе внимание собеседников, Пантелей начинает с «Вот», а в середине его речи появляется междометие «да-а-а» как характеристика устной непринужденной речи. Слова литературного повествователя практически без изменений делегируются герою фильма. В отношении Васи и Кирюхи это оказалось невозможно: соответствующие фрагменты повести содержат слишком мало материала их внутреннего мира, повествователь ограничивается внешним впечатлением и общеизвестной информацией.
Совершенно иначе перерабатывается рассказ Емельяна. Фраза «Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательныйголос и отличночиталноты, теперь же он обратилсявмужикаикормитсямилостямибрата, который посылает его со своими лошадями и берет себе за это половину заработка» в фильме преобразуется таким образом: «В былое время я служил в певчих, замечательный голос имел, ноты читал. А теперь что?». По сравнению с соответствующим фрагментом повести обращает на себя внимание замена нейтрального «прежде» на «в былое время», выражение не только более разговорное, но и проходящее лейтмотивом через все рассказы возчиков. Имеет место сокращение: указание на Луганский завод перенесено в другой эпизод, а вот описание грустных обстоятельств нынешней жизни Емельяна вообще исключено, как и определение «отлично». В целом прямой рассказ Емельяна звучит скромнее, чем рассказ нарратора в повести, и это следствие изменившейся речевой ситуации. Хотя хвалебные оценки изначально принадлежат Емельяну, есть разница между представлением опосредованным (в повести) и прямым (в фильме). Фраза «служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательныйголос и отличночиталноты», сказанная о себе прямо в кадре, имеет более «хвастливое» звучание, чем сказанная о другом человеке, который ее не слышит, как не слышит персонаж повести слово нарратора о себе.
Исключено также упоминание о брате, «милостями» которого теперь кормится Емельян: в нем звучала явственная ирония нарратора, чуждая Емельяну. Этот герой далек от сопоставления фактов «кормится милостями брата» и «берет себе за это половину заработка». Потерянная при этом характеристика человека безвольного, слабохарактерного, вызывающего жалость или презрение окружающих, нарабатывается другими, аудиовизуальными, средствами: выражением смирения на лице, манерой говорить страдальчески тихо, реакцией окружающих, которые либо жалеют Емельяна (больше всего Егорушка), либо презирают и унижают (Дымов).
Таким образом, трансформации реплики Емельяна обусловлены техническими и содержательными причинами и не приводят к искажению этого образа. Напротив, фильмический персонаж соответствует своему литературному прототипу и всем производимым впечатлением, и отдельными его элементами. Этого невозможно было бы добиться при механической передаче ему фрагмента текста, вроде бы принадлежащего ему в повести.
При транспозиции разные элементы совмещенной точки зрения нарратора и персонажа проявляют себя по-разному. Очень велико значение планов оценки и психологии, а также элементов слова персонажа («плана фразеологии» по Б. Успенскому). Важность пространственной локализации совершенно незначительна: читатель не только не может сказать, где находится нарратор, он не видит смысла в постановке такого вопроса, потому что в данном случае ничего не зависит от его пространственно-временной определенности. Такое положение сохраняется и в соответствующем эпизоде фильма.
Многослойное построение высказывания, какое мы наблюдаем в повести «Степь», в техническом отношении делает его удобным для перенесения на экран. В нем легко выделяются речевые элементы каждой инстанции, в том числе, слои, принадлежащие персонажам. Это делает возможным восстановление «авторства» персонажа, чьи слова в повести передавались опосредованно, в фильме же должны зазвучать прямо от его лица. Такая передача сопровождается «очищением» высказывания от следов других сознаний: воспринимающего сознания Егорушки и повествователя. Процедура требует четкого однозначного разделения источников словесных формулировок, оценок, точек зрения, а также учета особенностей речевой ситуации, которая неодинакова в литературном эпизоде и его фильмическом эквиваленте.
Рассмотрим диегетический изобразительный нарратив – то есть изображение событий в геройной перспективе (такой герой получает статус нарраторадемонстратора). Обращение к нему возможно, прежде всего, там, где существует необходимость фильтрации повествуемого материала, однако вербальное повествование нецелесообразно (в кинематографе оно нецелесообразно практически всегда, поэтому такая модель используется широко).
Для анализа возьмем эпизод, в котором Дымов убивает ужа (читатель здесь получает первое впечатление от героев; наиболее важные для формирования этого впечатления моменты во фрагменте из повести мы выделили курсивом):
«Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильныйиздоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенькийикоренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху навыпуск. Этот разразился басистымкашляющимсмехом и закричал:
– Братцы, Дымов змея убил! Ей-богу!
– Каторжный, – закричал он глухим, плачущим голосом. – За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь, ужика убил! А ежели бы тебя так?
– Ужа нельзя убивать, это верно … – покойно забормотал Пантелей. Нельзя … Это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная … Человека любит … Уж-то.
Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам: в его голосе и смехе чувствовалась непроходимаяглупость. Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку. – Это не змея, а уж, – крикнул кто-то.
Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками.
Дымову и чернобородому, вероятно, сталосовестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим возам» [4, с. 52].
Содержанием повествования становятся только внешние черты: «рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати, русый, кудрявый», «один из подводчиков», «повидимому», очень сильный человек. Даже о том, на кого набросился Дымов, повествователь судит по внешним характеристикам: «по движениям плеч и кнута …. по жадности». Отстраненность основана на пространственной удаленности отраженной тут точки зрения от происходящего и на том, что наблюдатель впервые видит этих людей, ничего не знает о них пока и даже имя героя узнает из выкрика чернобородого Кирюхи (который остается безымянным, потому что его самого пока никто не назвал по имени) и уже после этого использует как известное себе и читателю.
Совершенно очевидно, что нарратор ограничивает свою пространственную и идеологическую позицию точкой зрения Егорушки. Можно выделить несколько прямых указаний на то, что представленное видение принадлежит именно ему: «совсем неинтересных для Егорушки», «как теперь разглядел Егорушка». Правда, все такие упоминания – до начала и сразу после окончания эпизода с ужом, внутри него локализация точки зрения поддерживается косвенными средствами. И нарратор не передает повествование Егорушке совсем, оставляет его за собой, на что указывает, например, замечание об уме, смехе и голосе, явно принадлежащее взрослому опытному человеку.
Такой прием задает определенный ракурс понимания Дымова и Кирюхи, отличный от того, который был бы получен в результате «объективного» изображения всезнающего недиегетического нарратора.
Случайно увидев в траве безобидного ужа, Дымов набрасывается на него с кнутом и запарывает до смерти. Объективно его поведение – проявление совершенно неоправданной агрессии, которому подражает чернобородый Кирюха, возможно, в силу своей «непроходимой глупости». Вина Дымова гораздо значительнее: Кирюха наблюдал и поддерживал случайную «забаву», но сам не убивал ужа. Будь повествование построено с безлично-объективной точки зрения, акценты расставились бы именно так.
Однако повествовательный эффект таков, что «чернобородый» представляется гораздо менее привлекательным персонажем, чем Дымов. Он достигнут за счет тех самых визуальных деталей, доступных свежему взгляду Егорушки, с позицией которого нарратор совместил свою точку видения. Вот Дымов: «рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый». Эти прямые характеристики, данные сторонним человеком, работают на создание впечатления существа здорового и живого, с мощными инстинктами (инстинктом выглядит «жадное» стремление убить то, что кажется ниже и хуже его). Вот Кирюха: «низенький и коренастый, с черной окладистой бородой … басистым кашляющим смехом», в облике которого «чувствовалась непроходимая глупость». Жестокость Дымова – следствие его сильной, безудержной натуры, жестокость Кирюхи – результат глупости. Такая презентация располагает читателя скорее к Дымову, чем к Кирюхе, хотя «объективно» это не отвечает поведению каждого.
Адаптация этого эпизода в его «объективном» событийном срезе и в том аспекте восприятия, который представлен в повести, имеет две разнонаправленных сложности, обусловленные изменением повествовательных средств с вербальных на изобразительные.
Первая сложность связана с информационной недостаточностью видеоряда. Изображение способно дать самое полное впечатление о герое, однако в данном случае высока релевантность того слоя повествования, который включает в себя точку зрения Егорушки с его оценочно-словесной составляющей, а ее невозможно передать изображением: интерпретация картинки допускает большую свободу, чем интерпретация словесного высказывания.
Вторая – с избыточной полнотой и силой воздействия, которой обладает видеоряд. Изображение убийства живого существа должно производить более жестокое впечатление, чем его описание: недаром увиденное воочию считается более сильным инструментом влияния, чем сто раз услышанное. Такой эффект был бы даже желательным для достижения отдельных целей, но он создаст иное, не соответствующее чеховскому, представление о Дымове. Точнее, он соответствует тому «объективному» слою, который мы выделили в повести, но «субъективное» Егорушкино видение неизбежно теряется.
Поэтому буквальное перенесение в кадр всех визуальных характеристик, которые предлагает повесть, недопустимо. Эпизод значительно сокращается и отдаляется от зрителя. Он начинается сразу с крика Кирюхи: «Братцы, Дымов змея убил», и только после этого в кадр попадает фигура Дымова, который кнутом хлещет перед собой чтото на земле. Сразу же следует реплика «Это не змея, а уж», дальше – громкий упрек Васи и пространное рассуждение Пантелея.
Как и в повести, вся сцена дана глазами Егорушки. Наиболее релевантным планом точки зрения становится ее пространственная локализация. Сцена представлена так, как ее можно увидеть с высоты воза, в отдалении, продиктованном взаимным расположением возов: того, на котором находится Егорушка, и того, рядом с которым идет Дымов. Такой выбор точки зрения играет ключевую роль: позволяет сократить эпизод и дистанцироваться от показанной в нем жестокости на безопасное расстояние. Все, что видит зритель, это мужская фигура, размашисто хлещущая кнутом по земле. Более крупный кадр содержал бы подробности, работающие на укрепление впечатления жестокости, которое нельзя было бы ослабить вербальными средствами, как это сделано в повести. Даже при использовании закадрового голоса визуальное впечатление оказалось бы гораздо более мощным, чем впечатление от словесного рассказа; кроме того, задачи закадрового повествователя в фильме совершенно иные.
Таким образом, изображение всей сцены с точки зрения Егорушки приводит к сокращению эпизода и дает возможность показать его на расстоянии, со значительной удаленностью от наблюдателя. Это позволяет сохранить смысловые доминанты изображения персонажей, пускай и в ущерб «букве» чеховской повести. При этом происходит переустройство точки зрения по релевантности ее компонентов: ведущая роль отводится ее локализации, а не фразеологическому и оценочному элементам.
В качестве выводов можно говорить о том, что смысловое соответствие между порождающим и порожденным произведением не обеспечивается механическим перенесением основных событийных моментов истории, а требует адекватных дискурсивных средств. Ярче всего это проявляется при выборе типа нарратора и перспективы, в которой организуется изображение.
Каждому типу нарратора в литературном произведении соответствует два типа кинематографического нарратора: вербальный и изобразительный. Мы предлагаем называть их нарратор-повествователь и нарратор-демонстратор, указывая тем самым на характер используемых средств и на их смысловую и структурную общность. Они могут нести все основные характеристики литературного нарратора, важные для понимания его позиции: личностность, антропоморфность, имплицитность, участие в повествуемых событиях и др. Таким образом, реализация в кино типов нарратора, аналогичных литературным, вполне возможна и служит средством адаптации вербального содержания к требованиям визуального ряда.
Ключевым понятием перспективы изображения является точка зрения. Несмотря на то, что она сохраняет те же основные компоненты-планы, которые выделяет Б. Успенский в точке зрения литературного повествователя, их удельный вес в общей структуре изменяется. Большую важность приобретает пространственно-временная локализация, причем в ней актуализируется пространственный аспект. Это означает, что необходимость транспонировать диегетическую позицию литературного нарратора в фильмического нарратора-демонстратора вынуждает экранизаторов искать способы преобразования планов фразеологии и оценки в план пространственной локализации, устанавливать соответствия между ними, достаточно естественные и универсальные, чтобы считываться зрителем.
Сравнительный анализ текста литературного произведения и основанного на нем кинофильма позволил сформулировать основные факторы, влияющие на выбор нарративных средств в экранизации. Это техническая возможность выделить различные слои высказывания (она зависит от степени языковой интерференции), изменение речевой ситуации, особенности рецепции вербального сообщения и изображения.
На основе проведенного исследования открываются следующие перспективы дальнейшего изучения транспозиции и связанных с нею процессов: создание полной типологической классификации нарратора в кинотексте; изучение особенностей трансформации литературного повествования в фильмическое, определяющихся видородовой природой кино; выявление диапазона средств, которыми располагает экранизация. Очевидно, что в рамках указанной проблематики открывается выход на важнейший вопрос о природе имплицитного (концепированного, внутреннего) автора кинотекста и его взаимоотношениях с нарратором.
Список использованной литературы
1. Шмид В. Нарратология / В. Шмид. – М.: Яз. слав. культуры, 2003. – 312 с.
2. Успенский Б. Поэтика композиции / Б. Успенский. – Спб.: Азбука, 2000. – 352 с.
3. Chatman S. Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. / S. Chatman. – Ithaca and London: Cornell University Press, 1990. – 241 p.
4. Чехов А. Степь // Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. / А. Чехов. – Москва: Издательство «Наука», 1985. – Т. 7. – С. 13-104.
Стаття надійшла до редакції 28 березня 2013 р. О. Й. Просцевічене