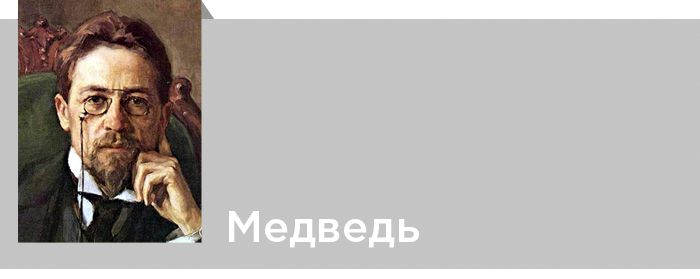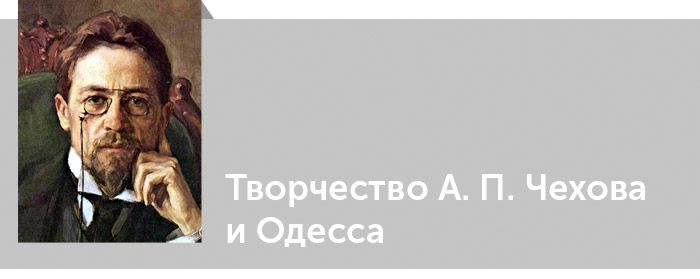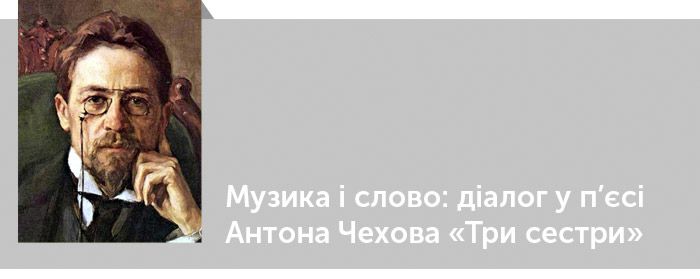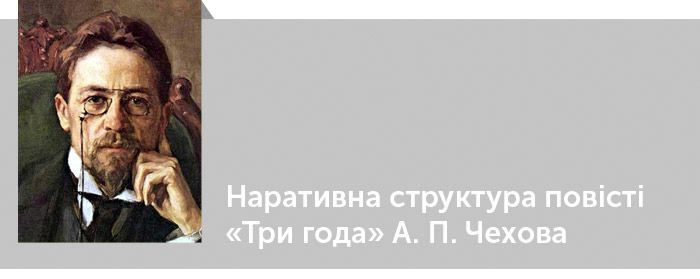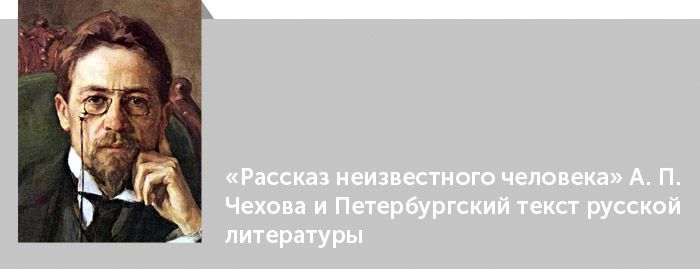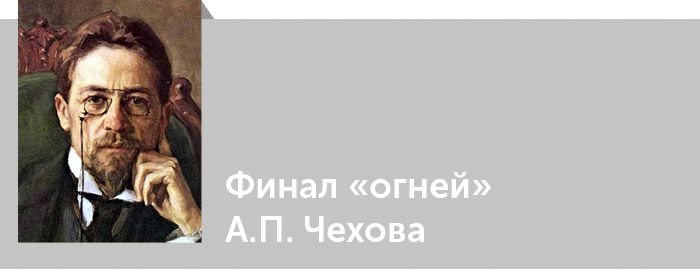Новаторство малых пьес А.П. Чехова (этюд «На большой дороге»)
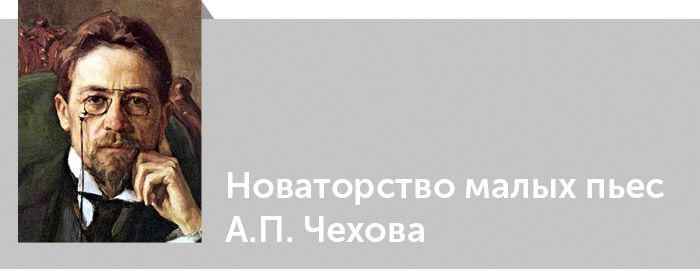
УДК 821.161.1’09 [Чехов]
Т.В. Полежаева, кандидат филологических наук,
доцент кафедры славянской филологии
Института филологии и журналистики
Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки
(г. Луцк)
В статье фиксируются поверхностные суждения в литературоведении об одноактной пьесе Чехова «На большой дороге», показано наличие в ней собственно «чеховской новаторской поэтики» и авторскую критику романтического героя.
Ключевые слова: Чехов, малая пьеса, тип конфликта, сюжет, подтекст, критика романтического героя, образ-фон, образы-обстоятельства.
У статті фіксуються поверхові судження в літературознавстві про одноактну п’єсу Чехова «На великій дорозі», показано, що в ній має місце власне «чехівська новаторська поетика» та авторська критика романтичного героя.
Ключові слова: Чехов, мала п’єса, тип конфлікту, сюжет, підтекст, критика романтичного героя, образ-фон, образи-обставини.
The article fixes superficial judgements in literary criticism about the one-acter of Chechov «On the large road», shows that in it takes place own «Chekhov’s innovative poetics» and author criticism of romantic hero.
Key words: Chechov, small play, type of konflikt, subject, implication, criticism of romantic hero, image-background, images-circumstances.
Как известно,Чехов является автором четырехактных, больших пьес и пьес малых, одноактных. Одни исследователи считают, что Чехов как новатор в драматургии начался с большой пьесы «Чайка» (1896), другие – с «Иванова» (1889), третьи – с первой же большой пьесы «Безотцовщина» (1878–1881). Все малые пьесы Чехова считают традиционными («Медведь», «Предложение», «Свадьба» и др.). В них – привычная для пьес поэтика: геройные конфликты (столкновение героев), геройные сюжеты (с геройной историей), где образы-обстоятельства играют вспомогательную роль.
Традиционно-поэтическим считают и этюд Чехова «На большой дороге» (1884). С. Балухатый в 1935 г. писал, что «чеховские одноактные пьесы не оригинальны», не начинают в театре новаторскую линию [1, с. 4]. Г. Бердников в книге «Чехов-драматург» (3-е изд. – 1981) об этой пьесе вспоминает в связи с созданием ее на основе рассказа «Осенью», делая упор на внесение новых героев и мелодраматизм, отмечая, что это не привычная комедия положений, а комедия характеров [2, с. 52–53]. Г. Бялый в 1987 г. тоже отмечает мелодраматизм этюда, а его главного героя – «бродягу и вора Мерика, презирающего людей и мучающегося лютой тоской» – называет одним из «светлых людей», в котором суровая жизнь не убила гуманизм. Т. е. Мерик трактован как «благородный герой в рубище бродяги», а сама пьеса как основанная «на вере в возможность человеческого благополучия» [3, с. 448–449]. В начале ХХI в. этюд не анализируют, лишь изредка упоминают название [4, с. 60]. Нет о нем речи ни в книге «Антон Чехов» (2004) Анри Труайя, члена Французской академии [5], ни у В. Кулешова в вузовском учебнике «История русской литературы XIX в.» (2005) [6]. Между тем, в 1993 г. в книге В. Удалова «Поэтика драматургии А.П. Чехова» этот этюд трактован на базе более широких взглядов на типологию конфликта и сюжета – не как геройная или геройно-обстоятельственная, а как обстоятельственно-геройная пьеса, поэтика которой была непривычна для современников [7]. Но, правда, показано это было весьма сжато, кратко.
В виду наличия в литературоведении разных мнений об этом этюде обратимся к более детальному анализу его текстуальной структуры в ее развитии, учитывая разное качество уровней предшествующих подходов.
Этюд «На большой дороге» – вторая из ранних чеховских пьес. Он написан после «Безотцовщины», в которой некоторые исследователи увидели собственно чеховское новаторство, прежде всего в области конфликта и сюжетных «подтекстов». И действительно, если сюжет этого этюда трактовать только в рамках геройной истории, главным в пьесе становится Мерик как романтический герой. Если же учесть постоянное наличие в сюжете столкновения взглядов, поведения героев со многими обстоятельственными образамифактами, – видно, что смысл и роль «романтического героя» Мерика, как и остальных персонажей, преподносится автором иронически, даже трагикомично. На это указывают очень многие факты из текста.
Мерик, действительно, с одной стороны, появляется на сцене (это кабак на большой дороге) не сразу и в экстремальной обстановке (во время грозы) – согласно традиции создания пьес с романтическим героем. Но есть еще одно важное обстоятельство. Он появляется после того, как зритель детально узнал, что в кабаке от природной грозы спрятался «бедный люд», который «мается» в жизни, которому присущ «темный разум» и который мечтает о личностях «светлых», которые бы «всякое горе понимали», «утешили» бы и горе «сняли». Все эти факты заставляют и «кабак», и «грозу» воспринимать иносказательно, как и образ «на большой дороге» (не просто бытовой, но и жизненной). В таком ракурсе и в такой атмосфере появившийся Мерик воспринимается уже иначе – мировоззренчески. Другие факты такой ракурс подтверждают и одновременно заставляют отнестись к Мерику весьма критически.
Хотя он, появившись, заявляет, что ему «не холодно», как всем остальным, а «всегда жарко», хотя у него «за поясом топор» (по ремарке автора) и он всего «два месяца как Мерик» (прежде был Андреем Поликарповым), хотя после ремарки «Гром» он и заявляет: «Греми, не испужался!.. Я, ежели что, кабак с корнем вырву!», – то другие его слова и поступки резко противоречат восприятию его как «светлой личности».
В ответ на первое же обращение к нему богомолки Ефимовны (из числа «бедного люда»): «Родненький, дождик не меньше?» – он презрительно бросает: «С бабами не рассуждаю». За этим следует ремарка «Пауза», которая уже заставляет зрителя задуматься: действительно ли он «светлая личность», за которую его приняли? Дальнейшие факты подтверждают, что Мерик столь же враждебно относится и к мужчинам из числа «бедного люда». В ответ на слова Феди («прохожий фабричный»), назвавшего Мерика «жуликом» и «шутом» герой огрызается: «Который человек говорит эти слова?.. Так и запишем». А с содержателем кабака Тихоном Мерик начинает разговор словами: «Здорово, мордастый! Аль не спознал?» Так очень быстро становится ясно, что перед нами не романтический герой (пусть даже и «разбойник», как его называют в чеховедении), а попросту «бродяга» (как именует его автор в списке действующих лиц) и мелкий вор: позже выясняется, что топор у него «краденый» [8, XI, с. 204]. Грозен он только с виду, не убивал никого, о чем сам говорит, а романтически значителен только с первого взгляда. Даже тогда, когда в финале этюда он вроде бы и встает с топором на защиту.
Итак, Чехов не романтизирует Мерика, а наоборот, срывает с него ложную маску романтического героя, показывает узость его мировоззрения, духовную бедность, мелочность души и поступков и тем опускает его до уровня остального «бедного люда». В этом убеждает и речь Мерика, и его дальнейшие поступки. Вот первые фразы героя: «Взопрел. Покеда из грязи ногу вытащишь, так с тебя ведро пота стечет», «Дождь в рожу бьет, что твоя пурга…», «А борзых тут нету?» (обращаясь к присутствующим в кабаке). Одному он грозит: «Плакаться будешь, глупый человек!», другого сгоняет с лавки, чтобы лечь самому: «Встань-кась. Совсем вставай, я тут лягу!». Старушку перебивает: «Молчи ты, старая карга!» Да и «женский пол» он ненавидит по сугубо личной причине, которая сродни истории пьяницы, бывшего барина Борцова, в котором нет ничего «борцовского», который всё пропил и бродяжничает после того, как его бросила жена-изменница (сбежала после венчания). «Барин вон дурака валяет, а я нечто от большого ума в бродяги пошел, отца-мать бросил?» – объясняет он свой образ жизни [8, XI, с. 200]. И подобных саморазоблачений у Мерика много. Услышав от рабочего Феди (из «хамоньевских заводских»), что «в Кубани… сказывают… приволье… Счастье, побей меня бог!», – Мерик разочарованно признается: «Счастье… Счастье за спиной ходит… Его не видать… Коли локоть укусишь, и счастье увидишь… Одна глупость… (Оглядывает скамьи и народ.) Словно привал арестантский…». В другом случае он говорит о «доле горькой», присущей «бедному люду», и своих намерениях: «Хотел доброе слово вымолвить, нужду приголубить, а вы рожи воротите!», наконец не менее значительное о себе самом: «Нет, не дал бог разума!».
Среди отмеченных нами поэтических приемов авторского разоблачения «романтического героя» и обрисовки мелкого мировоззрения «бедного люда» огромное место в этом этюде занимает, как показано выше, тот прием, который впрямую связан в литературоведении с «еретически-новаторской» поэтикой в больших пьесах Чехова. Суть этого приема, необычного для его современников, – в постоянном специальном столкновении в сюжете (сопоставлении, противопоставлении) малых, средних и крупных образных фактов. Такие столкновения несут в себе смысловые «подтексты» и позволяют читателю самостоятельно делать выводы. Так, после слов «Эх, силищу бы свою показать!» Мерик заявляет бессмысленное: «Кабак с корнем вырву!», дальше (опять этот прием) он, по ремарке автора, «встает и ложится», добавив: «Тоска!» А в финальной сцене Мерик неудачно пытается… зарубить топором… неожиданно появившуюся в кабаке «бабу-изменницу», бывшую жену Борцова (она, как и остальные, оказалась в кабаке, чтобы переждать усиливающуюся грозу).
Неверно было бы считать, что все эти образные факты, их столкновения, имеющие отношение к разным «героям», не имеют в то же время общего смысла (подтекстового, «подводного»). Но он есть и, по замыслу автора, имеет несколько аспектов, по меньшей мере три основных. Первый из них – показать картину мировоззренчески-невзрачной жизни «бедного люда». Второй – разоблачить романтические иллюзии своего времени относительно понимания пути к счастью. Третий – обратить внимание на реальный путь к лучшей, счастливой жизни.
Наличие третьего аспекта возникает из тех соображений, что первые два не исчерпывают металогический смысл столкновения обстоятельственных образных фактов. Они касаются лишь геройной стороны сюжета и частично захватывают его главный конфликт, лежащий в основе сюжетного развития. Геройная история (Мерика и остальных персонажей) – это лишь одна из двух конфликтующих сил пьесы. И в этом ее резкое новаторство. Но еще более непривычное новаторство в том, что вся геройная история (как конфликтующая сила) противопоставлена на протяжении всего действия в этюде не геройному, а «собирательному образу природной Грозы» в единстве с образом «На большой дороге», вынесенным в заголовок [8, с. 45–46]. Если второй образ (название этюда), как бы невидимо противостоит неказистой истории «героев», указывая на ее второстепенность, то собирательный образ Грозы (как концепт) возникает зримо и постепенно усиливается. Об этом говорят многие сведения в текстовой стратегии – в диалогах героев, их репликах, в авторских ремарках. Сначала это краткие упоминания о «ночи», «дождике», «молнии» (видна в открывшуюся дверь), «громе». Затем это развернутые суждения (героев): «Ветер воет, а дождик так и хлещет, так и хлещет». Дальше – усиление этого образа: «разверзлись хляби небесные», «дверь хлопает от ветра», «гремит гром». Еще дальше – «В этакое ненастье пошту ограбить – раз плюнуть!», «Ветер-то как воет! Жутко!», «И что за ночь окаянная!»
В общем, образ природной Грозы в ее множественном проявлении стал главной конфликтующей силой в сюжете пьесы. При многократном столкновении своём с неказистой историей персонажей (с их иллюзорными надеждами на романтических героев, которые завоюют для них новую жизнь) собирательный образ Грозы вызывает у внимательного читателя мысль о многозначительных намеках автора. Намеках на то, что лучшая жизнь настанет лишь в результате общих и многосторонних длительных усилий, при условии единства, совместных действий на избранном пути. Такая форма конфликта, для драматургии новаторская, поэтически обоснована тем, что издавна с восприятием Грозы в сознании человечества связана ее обновляющая, очистительная функция в природе. В свою очередь, социальная основа избранной формы конфликта и обращения к приемам иносказания (металогии), многозначительным намекам исходит из условий жизни 80-х гг. XIX в. Напомним, что это был известный период «мрачной реакции» после неудачной революционной ситуации 70-х гг. с ее народническими иллюзиями, террористическими покушениями и убийством царя (1881 г.). Так сама жизнь вызвала у молодого Чехова, прозаика и драматурга, необходимость использования и новой, непривычной для восприятия формы конфликта, и новых, необычных конфликтующих сил, и смелых по своему содержанию социальномировоззренческих намеков.
Таким образом, этюду Чехова «На большой дороге» в той же мере, как и всем его большим пьесам, свойственны «еретически-новаторские» (Горький) поэтические принципы и идеи, крайне важные для нас и сегодня. Наряду со сходством есть и отличие, также новаторское: многоликий образ-фон (масса взаимосвязанных малых образов-обстоятельств) выдвинут на первый план в общем конфликте пьесы и становится главным носителем основной идеи сюжета. Если же сквозь события наших дней присмотреться к содержанию и идеям этого этюда, иносказательный смысл его обретет для нас дополнительное, еще большее значение.
Список использованной литературы
1. Балухатый С.Д. Драмы Чехова / С.Д. Балухатый // Чехов А.П. Пьесы. – Л.: Художественная литература, 1935. – 386 с.
2. Бердников Г.П. Чехов-драматург: Традиции и новаторство в драматургии / Г.П. Бердников. – М.: Искусство, 1981. – 356 с.
3. Бялый Г.А. Драматургия А.П. Чехова / Г.А. Бялый // История русской драматургии: Вторая половина XIX – начало ХХ в. – Л.: Наука, 1987. – 660 с.
4. Измайлов Ал. Чехов: Биография / Ал. Измайлов. – М.: Захаров, 2003. – 480 с. – 470 с.
5. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века / В.И. Кулешов. – 3-е изд., доп. и исправл. – М.: Фонд «Мир», 2005. – 800 с.
6. Труайя Анри. Антон Чехов / Анри Труайя. – М.: ЭКСМО, 2004. – 607 с.
7. Удалов В.Л. Поэтика драматургии А.П. Чехова / В.Л. Удалов. – Луцк: Изд-во ЛГПИ им. Леси Украинки, 1993. – 262 с.
8. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. / А.П. Чехов. – М.: Наука, 1974–1985.
Одержано 15.02.2013.