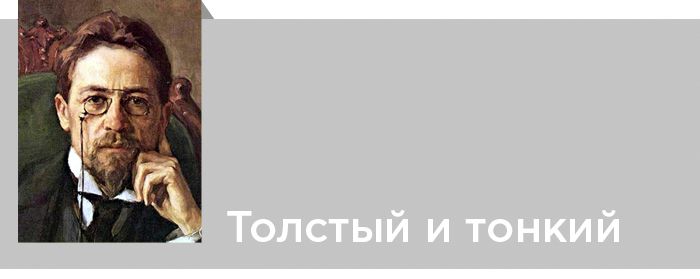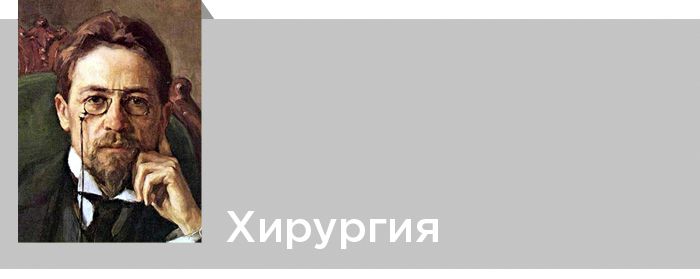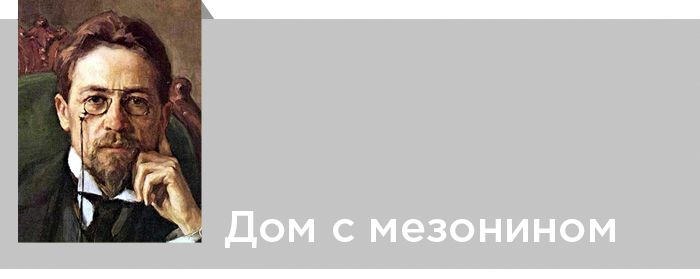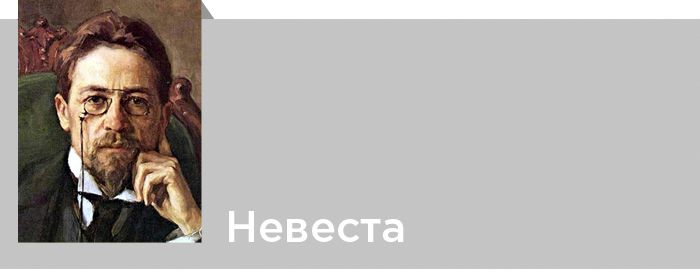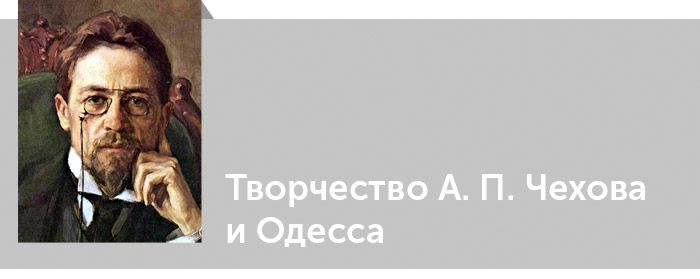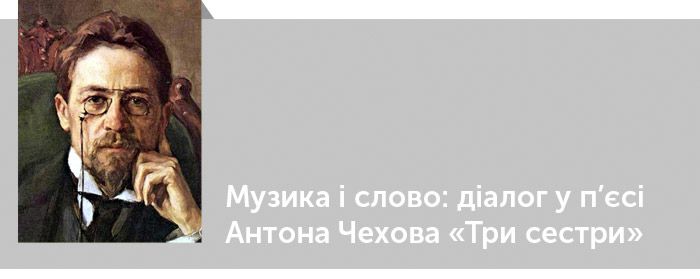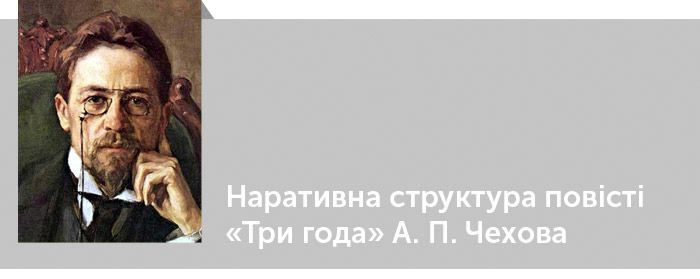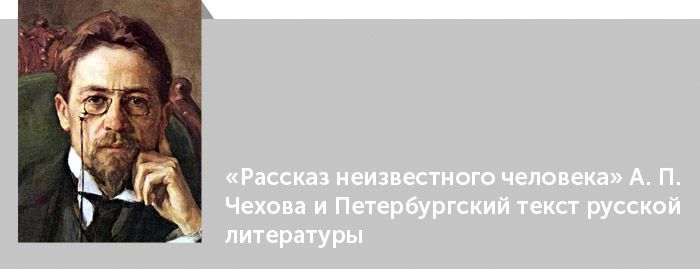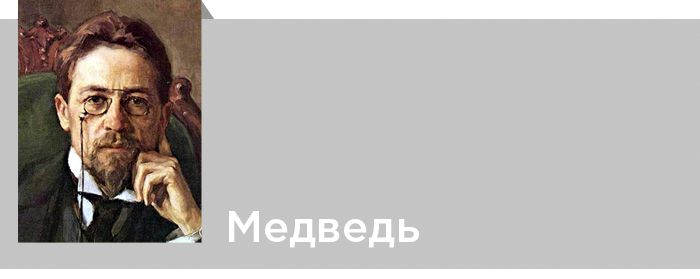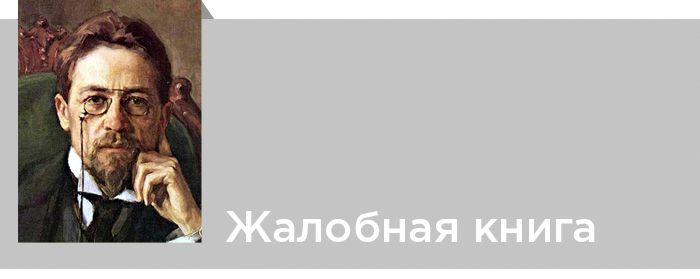Антон Чехов: драма имени

Сендерович М.
Акт I. Что может быть естественнее для комического писателя, газетного обозревателя и фельетониста, чем подписываться псевдонимом? Такова была традиция. Так делали все собратья Чехова, юмористы-газетчики. Это была своего рода профессиональная условность, соблюдение некоего жанрового этикета. Работа в малой прессе требовала даже не одного, а целого набора псевдонимов, которыми пользовались поочередно в зависимости от рода или жанра публикации, а также характера печатного органа – пользовались как платьем, подобающим ситуации, в соответствии со светскими условностями, или же как комической маской («Храните маску Улисса...» – письмо к издателю «Осколков» Н.А. Лейкину от 10 дек. 1884 года). Псевдонимы строго различались и ревниво оберегались и авторами и редакторами. Чехов клянется Лейкину в письме от 23 ноября 1885 года: «...обещаю в декабре, январе и в конце ноября ничего не давать в юмористические журналы с подписью А. Чехонте и вообще подписью, известною читателям „Осколков”».
Но как непросто это простое обстоятельство в жизни Чехова! Драматичен не самый факт пользования псевдонимом, а то, как он переживается автором. Уже с 1883 года этому обстоятельству уделяется в его письмах пристальное, можно сказать, преувеличенное внимание. Ситуация эта в ее повышенной са- моосознанности становится предметом артистической игры. Чехов ее драматизирует. Вопрос – как спрятаться от читателя? – становится повторяющимся мотивом в переписке с Лейкиным. Возникает он как раз в ту пору, когда Чехов превращается в довольно известного юмориста, сознающего остроту своего пера. Скрылся или не скрылся? – оказывается больным вопросом. В одном случае Чехов оскорблен, что его «мелочишку» редактор подписал полной фамилией, а не псевдонимом, и жалуется на это Лейкину (конец дек. 1883). Он никак не может примириться, что все знают, «кто этот Рувер... Я уже два раза съел за заметки „подлеца” от самых искренних моих» (Лейкину, 10 сент. 1883). «Нельзя ли мой фельетон пускать без подписи? Теперь уже все знают, что я Рувер... Все знакомы – хоть перо бросай!» (Лейкину, 12 или 13 февр. 1884). Интересно, что он все же входит во вкус скрывания под псевдонимом и использует возможности этой ситуации с удовольствием. Собираясь сочинять пародию на «Чад жизни» Б.М. Маркевича, он пишет Лейкину: «Можно будет посплетничать, скрывшись под псевдонимом» (30 янв. 1884). Псевдоним раскрепощал Чехова, давал ему свободу, раскованность. В 1884 году московские обозрения Чехова в «Осколках» шли под псевдонимом Улисс. В конце года он подозревает раскрытие тайны и, как уже отмечено выше, призывает Лейкина: «Храните маску Улисса». Ранее, в письме к брату Александру он формулирует принцип, преподнесенный в качестве намерения: «Коли буду писать, то непременно издалека, из щелочки» (13 мая 1883). В эту пору мотив подсматривания становится важной и повторяющейся ситуацией в его рассказах: «В море», «Злой мальчик», «Ночь перед судом», «Шуточка», «Агафья», «Ведьма» и др. В «Агафье» эта ситуация – прямой повествовательный прием, ее метапоэтический характер в других текстах более завуалирован.
При всем разнообразии его псевдонимов чаще всего Чехов подписывался именем Антоша (или А., или Ан.) Чехонте. И тут мы сталкиваемся с другой стороной ситуации. Немыслимо думать всерьез, что под таким прозрачным псевдонимом можно спрятаться. Скорее это финальный сценический жест шутливого раскланивания, соответствующий жанровым характеристикам юмористических текстов, под которыми он стоит. Таким образом, отношение Чехова к псевдониму двойственное: это, с одной стороны, способ скрыться, когда ему неугодно быть обнаруженным в своем авторстве, с другой же стороны, это игра в прятки с самим собой, подобно тому как играют дети, когда, зажмурив глаза, говорят: «Ищи меня». Он не избегает возможности быть обнаруженным, но делает вид, что скрывается, при этом он одновременно избегает и не избегает называния своего имени. Если вдуматься в эту игру, то можно обнаружить, что это и игра с самим собой: ее смысл заключается в создании дистанции – внутренней дистанции – между самим собой и написанным. Чехов прячется и от себя самого, подобно тому как он скрывается под псевдонимом от читателя. Здесь можно усмотреть аналогию, которая выдает нечто характерно чеховское в том смысле, что недостаточно социальных и культурных мотивов в объяснении ситуации с псевдонимом – за этим стоит стыд за содеянное, боязнь осмеяния, которые магически исчезают под волшебной шапкой псевдонима.
Необходимость во внутренней дистанции выдает одну важнейшую особенность творческой личности Чехова, особенность, которая с этого момента начинает играть все более важную и драматическую роль. С этой точки зрения можно усмотреть более глубокий – чеховский – смысл в том обыденном факте, что писатель начинает свою писательскую деятельность, подписываясь псевдонимом. Чехов как бы защищается от чего-то перед самим собой и самую эту необходимость прятаться принимает как литературный прием, более того как самую суть писательского амплуа, как модус писательства.
Акт II. Чехов, который не принимает себя всерьез и делает комические жесты по этому поводу, едет в декабре 1885 года в Петербург и к удивлению своему обнаруживает, что в столичной литературной среде его принимают как серьезного писателя. «Я был поражен приемом, который оказали мне питерцы. Суворин, Григорович, Буренин... все это приглашало, воспевало... и мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя рукава» (Александру Чехову, 4 янв. 1886).
В чем же дело? Почему жутко? Мы узнаем, что тот писатель, которого встретили в Петербурге с распростертыми объятиями, не удовлетворяет самого Чехова. «Знай, мол, я, что меня так читают, – продолжает он в том же письме, – я писал бы не так на заказ...» В письмах этого периода, с начала 1886 года, эта ситуация вызывает у их автора амбивалентную реакцию. С одной стороны, Чехов весело пародирует ее – вплоть до фарса, он предается веселому, шутливому самовозвеличиванию, причем это становится его излюбленной, повторяющейся темой вплоть до 1889 года. С другой же стороны, он шутя, но не в шутку жалуется на свое положение известного писателя, жалобы постепенно начинают звучать все откровеннее и, наконец, завершаются отчаянным воплем.
Вернувшись из Петербурга, он пишет накануне дня своего рождения М.М. Дюковскому: «Завтра известный писатель волею судеб производится в чин именинника» (16 янв. 1886). А через два дня, тоже в шутку, жалуется В.В. Билибину: «Прежде, когда я не знал, что меня читают и судят, я писал безмятежно, словно блины ел; теперь же пишу и боюсь...» Чего же он боится? Когда намечается издание сборника рассказов («Пестрые рассказы»), то перед Чеховым возникает гамлетовский вопрос: подписывать свое настоящее имя или не подписывать? «На книге я буду не А. Чехов, а А. Чехонте», – сообщает он Н.А. Лейкину 3 февраля 1886 года. Но вопрос остается открытым: псевдоним или фамилия? Через 11 дней он пишет В.В. Билибину: «Вы советовали нарещи ее... не псевдонимом, а фамилией... Зачем Вы уклонились от мотивировки Вашего совета? Вероятно, Вы правы, но я, подумав, предпочел псевдоним, и не без основания» (14 февр. 1886). И через две недели ему же: «Я опять о псевдониме и фамилии... Вы напрасно публику припутываете... Откуда публике знать, что Чехонте псевдоним? И не все ли ей равно?» – пытается разобраться Чехов.
Подписать книгу своим настоящим именем казалось Чехову слишком серьезным. Просто и всерьез называть и подписывать свои книги к лицу только знаменитым писателям. Себя он к таковым не причисляет. А комический псевдоним соответствует его желанию выглядеть ироничным не только по отношению к миру, но и по отношению к своему авторству. Нужно не ошибиться в понимании серьезности этой позы. Как все серьезное у Чехова, она амбивалентна. В ней есть самозащита от претенциозности, но и оправдание своей позиции юмориста: если я могу относиться с иронией к самому себе, то я имею право иронизировать по вашему поводу. Ведь именно в этот период Чехов на самом деле ничего против своей известности не имел; он, скорее, наслаждался ею, но неотъемлемой в этом состоянии была потребность подсмеиваться над собой в положнении известного писателя. Необходимость рефлексии и необходимость двойственности. В том же феврале он пишет брату Александру: «За наречение сына твоего Антонием посылаю тебе презрительную улыбку. Какая смелость! Ты бы еще назвал его Шекспиром! Ведь на этом свете есть только два Антона: Я и Рубинштейн. Других я не признаю» (3 февр. 1886). Через две недели летит веселая шутка к М.М. Дюковскому: «Пишу Вам, чтобы у Вас было одним автографом великого писателя больше... Через 10-20 лет это письмо Вы можете продать за 500-1000 рублей. Завидую Вам» (17 февр. 1886).
Внимание А.С. Суворина, восхищение Д.В. Григоровича и других литераторов потрясло Чехова, отсюда и восторг игры. Но гораздо более это побуждало его взглянуть на себя, писателя, серьезно. И что он обнаружил? – Свое несоответствие своему представлению о серьезном писателе, свое неуважение к собственному дару. И еще одно важное обстоятельство: нежелание раскрыться вполне. «Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал», – признается он в известном письме Д.В. Григоровичу от 28 марта 1886 года.
Кстати, в этом же письме Чехов возвращается к вопросу, ставить свое имя на книге или нет. Выходит, рассуждает он, что нельзя, «потому что уже поздно». А решил не ставить, «вероятно, из самолюбия. Книжка моя мне очень не нравится,.. Знай я, что меня читают и что за мной следите Вы, я не стал бы печатать этой книги». Григорович все же убедил Чехова. Через три дня он просит Лейкина: «Если не поздно, то на 2-м заглавном листе моей книжки радом с „А. Чехонте” поставьте в скобках „А.П. Чехов”... Получил я, представьте, от Григоровича письмо, который требует забросить псевдоним» (31 марта 1886).
Как известно, Григоровичу удалось убедить Чехова не только в этом: он начинает принимать свой дар всерьез. Чехов пишет В.В. Билибину: «Григорович доказывает, что у меня настоящий талант (у него подчеркнуто)... Я, конечно, рад, хотя и чувствую, что Григорович перехватил через край» (4 апр. 1886).
В том же 1886 году, но несколько ранее, 15 февраля, в «Новом времени» был напечатан рассказ «Панихида», подписанный подлинным именем Чехова. Заметим, что Чехову уже случалось трижды подписываться своим именем, но именно случалось. Сейчас же это стало началом последовательной позиции: отныне подлинное имя доставалось нововременским рассказам, псевдонимы же продолжали появляться в мелкой прессе. Нам время теперь получше разобраться в чеховской двойственности по отношению к самому себе, своей деятельности и своему имени как символу этой двойственности.
Писательство оказывается в жизни Чехова деятельностью, обрекающей его на двойственное отношение к себе и к миру. С одной стороны, его человеческое существование, среди родных, друзей и знакомых, которые не ценят его авторства или вовсе не читают его: «Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомаранье. У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника» (Григоровичу, 28 марта 1886). Именно поэтому Чехов убежден в «своей литературной мелкости» (там же) и говорит о своем писательстве как о «побочном занятии» (письмо к Михаилу Чехову, 11 апр. 1886). Но зато все его близкие знают, ценят и пользуются услугами его медицинской профессии. Чехов вполне сознает двойственность своего существования и в эту пору не может легко с этим примириться: «... .я врач и по уши втянулся в свою медицину, так что поговорка о двух зайцах никому другому не мешала так спать, как мне» (то же письмо к Григоровичу). «Кроме жены-медицины у меня есть еще литература-любовница», – пишет он брату Александру в день своего рождения в 1887 году. Шутку эту он позднее разрабатывает, пользуясь ею как инструментом серьезной рефлексии. В письме к Суворину он обосновывает принципиальную необходимость этой двойственности: «Вы советуете мне не гоняться за двумя зайцами и не помышлять о занятиях медициной. Я не знаю, почему нельзя гоняться за двумя зайцами даже в буквальном значении этих слов? Были бы гончие, а гнаться можно. Гончих у меня, по всей вероятности, нет (теперь в переносном смысле), но я чувствую себя бодрее и довольнее собой, когда сознаю, что у меня два дела, а не одно... Медицина – моя законная жена, а литература – любовница. Когда надоедает одна, я ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но зато не так скучно, да и к тому же от моего вероломства обе решительно ничего не теряют» (11 сент. 1888).
Шутка о медицине-«жене» и литературе-«любовнице» известна широко и кажется вполне объяснимой, если исходить из самих реалий жизни Чехова. Между тем в ней запечатлено больше, чем тот факт, что Чехов одновременно занимался медициной и литературой, причем великий писатель считал медицину своим основным занятием. Чехов говорит о внутренней потребности находиться в состоянии двойственности: «...я чувствую себя бодрее и довольнее собой, когда сознаю, что У меня два дела».
Более того, и в писательстве он раздваивался. И это опять-таки находит выражение в отношении к имени. Начав систематически подписываться своим собственным именем, он тем не менее продолжает – систематически же – печататься и под псевдонимами, как бы давая знать, что и в самой литературе он так же «вероломен». Н.А. Лейкин и А.С. Суворин чувствовали себя как его «жена» и «любовница» – точнее, каждый из них чувствовал себя «женой», а в другом подозревал «любовницу».
В 1889 году, однако, Чехов меняет и «жену» и «любовницу», но остается верным своей двойственности. Увлеченный и разочарованный театром, утомленный новой постановкой «Иванова», он пишет 15 января 1889 года А.Н. Плещееву: «Беллетристика – покойное и святое дело. Повествовательная форма – это законная жена, а драматическая – эффектная, шумная, наглая и утомительная любовница».
Двойственность мироощущения Чехова принимает характер оппозиции священного и профанного. В узком плане это разделение на серьезные рассказы, под которыми Чехов ставит свое имя, и на «мелочишку», которую он продолжает подписывать псевдонимами, что при известности Чехова становится все большей условностью. В ином чеховском определении это разделение на серьезное и «пошлое»: «...вечно у меня серьезное чередуется с пошлым. Должно быть, планида моя такая» (Я.П. Полонскому, 22 февр. 1888). Причем это принципиальная и вполне осознанная позиция. В декабре 1886 года Чехов, верный себе в своем дуализме, дает совет брату Александру: «Не позволяй в мелочах подписывать твое полное имя... К чему это? Осрамиться хочешь?» (между 27 и 30 дек. 1886). Но есть и другой, крупный план. В крупном плане священное тождественно сокровенному – еще невысказанному, ненаписанному, а профанное – всему уже написанному. Чехов пишет А.С. Суворину 27 октября 1888 года: «...те сюжеты, которые сидят в голове, досадливо ревнуют к уже написанному; обидно, что чепуха уже сделана, а хорошее валяется в складе, как книжный хлам... Что я называю хорошим? Те образы, которые кажутся мне наилучшими, которые я люблю и ревниво берегу, чтоб не потратить и не зарезать к срочным „Именинам”... все, что теперь пишется, не нравится мне и нагоняет скуку, все же, что сидит у меня в голове, интересует меня, трогает и волнует».
Разделение на высокое и низкое непременно присутствует во всех его оценочных высказываниях. Если в 1886 году «мелочишка» и юмористика противопоставляются нововременским рассказам, то впоследствии, когда его одолеет страсть к роману, Чехов будет с иронией говорить о нововременских рассказах этого периода, противопоставляя все уже написанное задуманному и никогда не осуществленному роману. Чехов осознает противоречие «высокого» и «низкого» в своей писательской натуре и шутливо рассуждает по этому поводу в письме к В.Г. Короленко: «Из всех ныне благополучно пишущих россиян я самый легкомысленный и несерьезный; я на замечании; выражаясь языком поэтов, свою чистую музу я любил, но не уважал, изменял ей и не раз водил ее туда, где ей не подобает быть» (17 окт. 1887). Та же мысль, но уже с большей серьезностью высказана в письме к Я.П. Полонскому: «Ах, если в „Северном вестнике” узнают, что я пишу водевили, то меня предадут анафеме! Но что делать, если руки чешутся и хочется учинить какое-нибудь тру-ла-ла! Как ни стараюсь быть серьезным, но ничего у меня не выходит, и вечно у меня серьезное чередуется с пошлым. Должно быть, планида моя такая» (22 февр. 1888).
Волею судьбы Чехов оказался в положении, которого он не предвидел. Он начал свою юмористическую деятельность в расчете на непритязательную публику ради заработка, но не искал легковесной славы. Когда же слава пришла к нему неожиданно, он не мог принять именно ее легковесности. Его самолюбие не позволяло ему этого. Он-то знал себя лучше. Серьезные писатели, поверив в его дар, заставили его самого отнестись к себе всерьез.
В октябре 1887 года Чехов молниеносно задумывает и пишет «Иванова». В этот период он в легком, искристом настроении. Письма его полны шутливого упоения успехом, веселых шуток и каламбуров. Чехов пишет брату Александру об «Иванове», что «сюжет небывалый» (между 6 и 8 октября 1887), что «хотел соригинальничать», но не уверен, удалось ли ему это (24 октября 1887). Начинается увлечение театром. Со смешанным чувством ожидает Чехов постановки «Иванова», к премьере готовится, «как к венцу» (А.С. Лазареву-Грузинскому, 15 ноября 1887). Первое представление проходило в атмосфере особого возбуждения, в котором было и «откровенное шиканье» и «солидный успех», что оставляет в авторе «утомление и чувство досады» (брату Александру, 20 ноября 1887, а также 24 ноября). В письмах об «Иванове» Чехов так искусно драматизирует все перипетии постановки пьесы, что уже это одно складывается в сюжет особой закулисной драмы, в которой автором, главным героем и режиссером был он сам. В обеих столицах «Иванов» наделал много шуму. «Все наперерыв приглашают меня и курят мне фимиам, – пишет он из Петербурга Михаилу Чехову 3 декабря 1887 года. – От пьесы моей все положительно в восторге, хотя и бранят меня за небрежность». Чехова принимают в Петербурге как знаменитого писателя. Вообще конец 1887 года является, по-видимому, временем наиболее шумной популярности молодого Чехова; по сравнению с ним период южного путешествия и работы над «Степью» был подлинным отдохновением.
Мне представляется, что время подготовки к «Степи» и работы над нею было периодом наименьшего разлада Чехова с самим собой. «Степи» предшествует поездка на юг, в места, где прошло детство. Обращение в «Степи» к теме детства должно быть, по-видимому, понято как передумывание жизни и возвращение к истокам. Он как бы отстраняется от сиюминутных забот. Все житейское обретает крупную перспективу. Он освобождается от бремени писательства, отодвигается вопрос о репутации, об имени. «Вы поймете положение человека путешествующего, которому решительно не до авторства», – пишет он Н.А. Лейкину. И тут же добавляет: «Правда, в „Петербургскую газету” я писал... чтоб не заставить свою фамилию жить на чужой счет, писал мерзко, неуклюже, проклиная бумагу и перо» (22 мая 1887). Трудно отделаться от впечатления, что Чехов здесь каламбурит. Он использует западное значение слова фамилия, чтобы тотчас уйти от него и сказать нечто совершенно иное, что прочитывается между строк. Хотя прямое значение слова фамилия здесь «семья», оно немедленно уступает место русскому значению: когда «не до авторства», а писать все же приходится и пишется «мерзко, неуклюже, проклиная бумагу и перо», то тут уж фамилии приходится «жить на чужой счет», т. е., иначе говоря, приходится жить за счет фамилии. Перед нами подлинно чеховская инверсия.
В работе над «Степью» Чехов обретает невиданную до того свободу и гармонию. Эту повесть он впервые адресует избранному читателю, полагая, что публике и критике она не понравится. «Пишущий.., поймет меня, читатель же соскучится и плюнет», – пишет Чехов В.Г. Короленко 9 января 1888 года. Те же мысли – в письме к Я.П. Полонскому: «Есть много таких мест, которые не поймутся ни критикой, ни публикой, той и другой они покажутся пустяшными, не заслуживающими внимания, но я заранее радуюсь, что эти самые места поймут и оценят два-три литературных гастронома, а этого с меня достаточно» (18 янв. 1888). Впрочем, он метит еще выше – поверх голов своих избранных читателей: «Сюжет поэтичный, и если я не сорвусь с того тона, каким начал, то кое-что выйдет у меня „из ряда вон выдающее”. Чувствую, что есть в моей повестушке (Аеста, которыми.я угожу Вам, мой милый поэт, но в общем я едва ли потрафлю...» (А.Н. Плещееву, 19 янв. 1888).
Л-ра: Русская литература. – 1993. – № 2. – С.30-41.