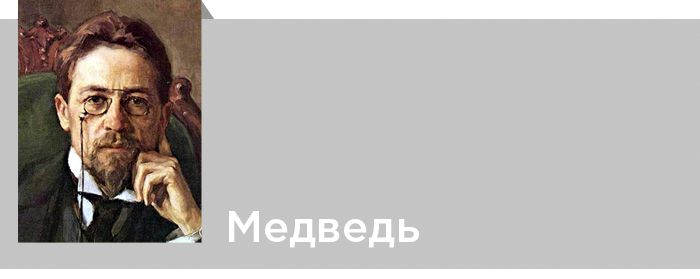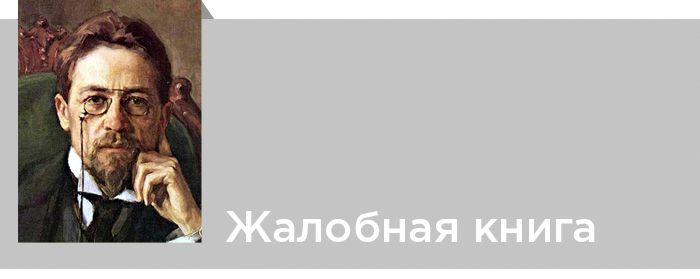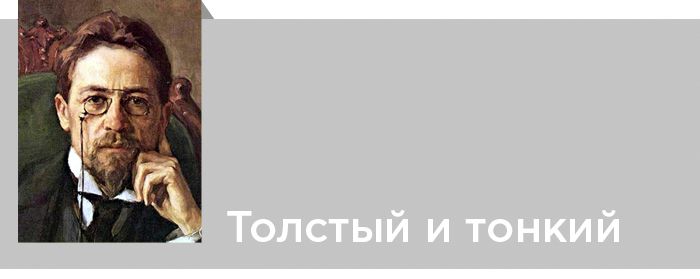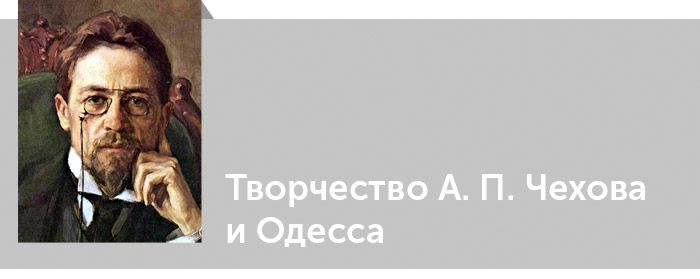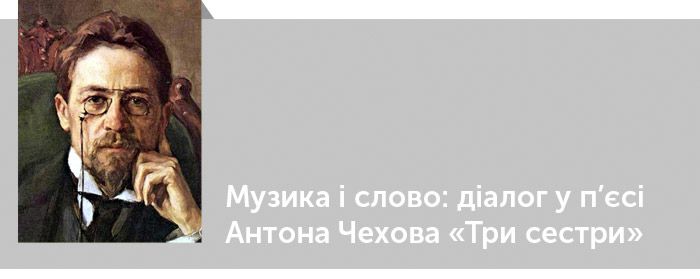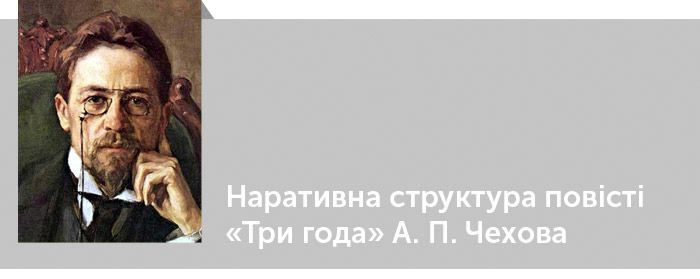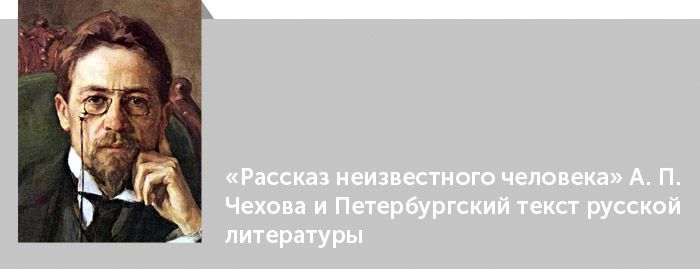«Толстовство» А. П. Чехова в контексте изучения теории переходности («Именины»)

УДК 821.161.1−3 Чехов "18"
Н. Абабина
старший. преподаватель кафедры зарубежной литературы
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова
В данной статье рассматривается проблема переосмысления наследия великих предшественников как явление, характерное для литературного процесса конца ХІХ – начала ХХ вв. Теоретическим основанием для ее изучения являются исследования синергетиков и литературоведов, которые позволяют сделать вывод, что ироническое и нацеленное на кардинальные измененияпереосмысление наследия, его корректировка оказывается обязательным компонентом переориентирования. Отрицание прошлого в творчестве А.П. Чехова выглядит как переосмысление наследия Л.Н. Толстого, которое проявилось не столько в усвоении традиции, сколько в укрупнении ее несоответствий данному конкретному периоду и симулякровом, а не просто типизирующем обобщении пройденного.
Ключевые слова: рубежное время,психологизм,переосмысление,корректировка, переориентирование.
Н. АБАБІНА. "ТОЛСТОВСТВО" А.П. ЧЕХОВА В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ПЕРЕХІДНОСТІ ("ІМЕНИНИ")
У даній статті розглядається проблема переосмислення спадку великих попередників як явище, характерне для літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст. Теоретичною основою для її вивчення стали дослідження синергетиків та літературознавців, які привели до висновку, що іронічне та націлене на кардинальні зміни переосмислення спадку, його коректування є обов’язковим компонентом переорієнтування. Заперечення минулого у творчості Чехова має вигляд переосмисленого спадку Л.М. Толстого. Це виявилось не стільки в засвоєнні традиції, скільки в укрупненні її невідповідності даному конкретному періоду і симулякровому, а не просто типізованому узагальненні пройденого.
Ключові слова: рубіжна доба, психологізм, переосмислення, коректування, переорієнтування.
N. ABABINA. A.P. CHEKHOV’S "TOLSTOYISM" IN THE CONTEXT OF EXPLORATION OF THE THEORY OF TRANSITION ("NAME-DAY CELEBRATION")
The article is concerned with the problem of reconsideration of the great predecessors’ heritage as a typical phenomenon for literary process in the late 19th – early 20th c. The theoretical basis of this study is researches in the field of synergy and literature which allow to conclude that the ironic reconsideration of the heritage, aimed at cardinal changes, and its updating appears to be an obligatory component of the reorientation. A. P. Chekov’s rejection of the past seems as reconsideration of the L. N. Tolstoy’s heritage. This rejection reveals itself not so much in adopting the tradition, as in enlarging its discrepancy with the given period and in simulacrum generalization of the past.
Key words: boundary time, psychological insight, reconsideration, updating, reorientation.
Актуальность. Интерес к изучению нестабильных периодов обострился в связи с современной переходной ситуацией, реализовавшей себя не только в историко-социологическом плане, но и в искусстве. Научную перспективность разработки проблемы подкрепляет и вывод Л.Г. Андреева о том, что "границы" и "переходы" уже названы "ключевыми проблемами изучения литературного процесса" [8]. Сказанное объясняет нашу попытку рассмотреть творчество А.П. Чехова, и, в частности, проблему наследования традиции в контексте теории переходности.
Восприятие Чехова как писателя, отразившего "рубежное сознание" конца XIX – начала XX веков, сегодня уже не называют открытием. В конце ХХ века эта тема была заявлена [11], а в начале ХХI-го идея "переходности" и "переориентации" стала столь популярной, что многие исследователи поставили перед собой задачу конкретизировать теоретический аспект проблемы с помощью материалов, до сих пор считавшихся трудно комментируемыми [4; 5; 6; 9; 10; 13].
Итак, исходным тезисом статьи можно считать следующее. Литературный процесс конца ХІХ – начала ХХ вв., как и все переходные периоды, в первую очередь, характеризуется переосмыслением наследия предшественников. В это время, по словам В.И. Аршинова и Я.И. Свирского, настойчиво заявляет о себе внешне не прогнозируемая нетерпимость к застывшим формам, запрет на употребление "готовых" понятий [1]. Так как ощущением времени становится "коловращение", появляются новые художественные формы, "начисто лишенные поступательного движения". Они, по словам Д.В. Затонского, существенно корректируют прошлое и выглядят "странными" в своем "настоящем" [3, с.207]. Таким образом, ироническое и нацеленное на кардинальные изменения переосмысление наследия, его корректировка оказывается обязательным компонентом переориентирования. В этом случае внимание к классику объясняется не столько стремлением поучиться, сколько желанием поспорить с ним.
Когда пишут об отношении Чехова к завоеваниям реалистов-психологов, неизменно цитируют его письмо, посвященное творчеству Тургенева: "Боже мой! Что за роскошь "Отцы и дети"! Просто хоть караул кричи [12: П. Т.5, с.174]". А далее, перечисляя образы героев и картины природы, которые тронули Чехова в названном романе, он констатирует: "но... чувствую, что мы уже отвыкаем от описаний такого рода и что нужно что-то другое [12: П. Т.5, с.175]". Вот это острое ощущение необходимости реформирования художественного языка было у Чехова постоянным – об этом говорил он сам в письмах, об этом же высказывались и его персонажи ("нужны новые формы"). В общем, особенностью чеховского восприятия традиции можно считать то, что отметила в переходной литературной ситуации конца ХХ века и А.Ю. Мережинская. Действительно, это было "критическое, игровое переосмысление форм старой литературы [7, с.46]". Попробуем доказать, как это выглядело на практике.
Напомним, что еще в прижизненной писателю критике неоднократно отмечалось наличие у Чехова произведений, образующих "тургеневский", "щедринский", "толстовский" циклы рассказов. В конце ХХ в., когда о специфике литературы "рубежей" и "перехода" речь еще не шла, эту особенность чеховского мышления попытались объяснить учебой молодого автора у его старших современников. Но рассмотреть эту особенность в контексте проблемы усвоения традиции авторам статей и монографий все же не удалось – слишком нестандартным казалось это "усвоение". Синергетический подход к проблеме, как представляется, может пролить свет на специфику чеховского мышления, и, в частности, на восприятие писателем произведений Толстого.
Все, кто анализировал "Именины" Чехова, обратили внимание на важность этого произведения в его творчестве и сказали о влиянии старшего современника на формирующийся талант. Но литературоведы советского периода (в их числе и Г.П. Бердников) большую часть внимания уделяли критике ложных социальных доктрин, предпринятой Чеховым в данном произведении, тогда как сам Чехов подчеркивал: в "Именинах" акцент сделан на всеобщей лжи и фальши, поражающей человека его времени. Совершенно очевидно, что Чехову в этом произведении хотелось воссоздать и "переливы" женского мышления, напоминающие "диалектику души" толстовских героинь. Самоанализ, свойственный Толстому, угадывается почти в каждом монологе чеховской героини, например: "Что сказать ему? – думала она. – Я скажу, что ложь тот же лес: чем дальше в лес, тем труднее выбраться из него. Я скажу: ты увлекся своей фальшивой ролью и зашел слишком далеко; ты оскорбил людей, которые были к тебе привязаны и не сделали тебе никакого зла. Поди же, извинись перед ними, посмейся над самим собой, и тебе станет легко. А если хочешь тишины и одиночества, то уедем отсюда вместе [12: С. Т. 7, с.73]".
На первый взгляд кажется, что Чехов учится у своего старшего современника, и что существует прямая зависимость чеховского психологического анализа от толстовского его варианта. Но это последовательное воссоздание психических состояний персонажа все-таки не было свойственно Чехову. Свежесть и простота чеховской прозы, удивлявшая Толстого, состояла еще и в умении молодого автора, уже опираясь на толстовские завоевания, создавать компактные формы психологического анализа. Он очень быстро выработал характерные только для него приемы психологизма "опосредованного", основанного на поэтике ассоциаций и многозначной детали, благодаря которой целостное представление о мыслях и чувствах героя читатель формирует самостоятельно. Наверное, понимая это, Г.П. Бердников, писавший о большом влиянии Толстого на Чехова, все-таки был вынужден подчеркнуть: попытка молодого автора "охватить противоречивые явления действительности единой системой взглядов" (как это умел делать его предшественник) потерпела неудачу [2, с.190].
В дочеховский литературный период личность персонажа определялась социальным, сословным, идеологическим факторами. Это было свойственно и Толстому – его дворяне, например, были вполне узнаваемы, они вели себя в полном соответствии со статусом и подчинялись авторской воле. Человек в художественном мире Чехова выглядит несколько иначе.
Антон Павлович, может быть, по природе своего таланта, а, может, и в силу сложившейся ситуации одарил читателя чувством разброса мнений и многовекторностью поиска (тем, что в синергетике называют бифуркацией). Такой тип поведения уже не зависит от происхождения и положения персонажа в обществе – герой, испытывая отчаяние от непонимания специфики и горизонтов времени, начинает экспериментировать собственной судьбой, демонстрирует неприятие прошлого, в поисках собственного Я начинает заигрывать с обывателем и даже пытается подстраиваться под него. Нашу мысль прекрасно могут проиллюстрировать повести "Дуэль" и "Моя жизнь" (список можно продолжить), а что касается "Именин", то обратим внимание на следующее.
Произведение, названное таким образом, в русле традиции предполагало описание праздника, воспроизведение разговоров гостей и фиксирование авторского отношения к происходящему. Кое-что из названного перечня в рассказе существует, но… оно не стало главным. Если Чехов и пишет о том, как отмечали именины Петра Дмитрича, то это сводится лишь к тому, чтобы сделать ощутимой пустую суетность действа, которое привело к гибели младенца.
Таким образом, психологический анализ, предполагающий подробное и глубокое изображение чувств и эмоций, мыслей и переживаний литературного героя, у Толстого и Чехова имеют свое оригинальное выражение. Художественное исследование человека у Толстого в чем-то сходно с чеховской манерой – например, в описании Катюши Масловой ("Воскресение") – сложность, неопределенность, спутанность переживаний, свойственная обычно героям Толстого, у Катюши отсутствует вовсе. Вместо внутренних монологов и диалогов, снов и воспоминаний, здесь, по выражению самого Толстого, показана "душевная жизнь, выражающаяся в сценах" [11, c.166]. Но все же, Толстой, оставаясь верным теории о "диалектике души", в большинстве своих произведений стремится изобразить не столько характер чувств и переживаний, сколько процесс их возникновения и изменения. Внешние явления и события писатель показывает и оценивает глазами героя, действует через его сознание. Внутренний мир человека изображается в процессе как постоянный, непрерывно сменяющийся психический поток. Толстовский психологический метод, основанный на идее движения, осуществляется с помощью развернутых описаний – портретов, пейзажных зарисовок, внутренних монологов, имеющих сложные синтаксические конструкции. Для них характерно обилие бытовых деталей, подробностей внешней обстановки, воздействующих на психику. Таковыми, например, являются описания в "Войне и мире" (радостное возбуждение Наташи в день именин; ее состояние во время первого бала, новые чувства и впечатления и т.д.).
Чехов проявляет особое мастерство: он прослеживает динамику человеческой души в разных ее проявлениях и во всей ее глубине в рамках малой жанровой формы – рассказа. До Чехова литература не знала метода, который позволял бы анализировать мимолетные черты текущего бытия, и в то же время давал бы полную, эпическую картину жизни. Почти очерковый принцип воспроизведения действительности дал возможность писателю избежать традиционных развернутых портретных характеристик, широких пейзажных описаний, монологов.
Героиня рассказа "Именины" существует в полном единении с обыденным миром. Всего несколько штрихов описания этого мира содержат лирический подтекст, который расширяет рамки обыденного времени. Солнце, которое спряталось за облаками; нахмуренные, как перед дождем, деревья и воздух; неубранное печальное сено, издававшее тяжелый приторный запах; монотонно жужжащие пчелы; громадные стаи кричащих ворон – все это дополняет грустное и тревожное настроение Ольги Михайловны. Шалаш, в котором прячется она от гостей, – это не просто бытовая деталь; он олицетворяет убежище от невыносимых разговоров больших людей, которым на самом деле нет никакого дела до обсуждаемых ими вопросов и которые погружают ее в мысли, далекие от Вечного.
Нетрудно догадаться, о чем задумался на какое-то мгновенье утомленный жизнью Петр Дмитрич, зашедший в свой кабинет: "Перед ним лежал открытый портсигар, набитый папиросами, и одна рука была опущена в ящик стола. Как брал папиросы, так и застыл [12: С.Т.7, с.173]"; "Лицо его было строго, задумчиво и виновато [12: С.Т.7, с.173]". Герой устал от притворства, и уйти за папиросами – это также способ уединиться.
Отдельные детали говорят о том, что приглашенные люди мыслят примитивно и даже не задумываются, что вся эта суматоха мучительна для хозяйки, и кинутая одной из дам прощальная фраза "Уходите в комнаты, а то простудитесь! [12: С.Т.7, с.188]" вовсе не означает заботу о ней. О мещанской пошлости и бескультурье гостей свидетельствует краткое описание чаепития на пикнике: один просит без сахару, другой – покрепче, третий – пожиже, четвертый благодарит; один из шутников громко кусал сахар и думал, что это смешно и оригинально и что он отлично подражает купцам.
Чехов стремится обратить внимание на отдельные дни и часы из жизни человека, осмыслить их и помочь ему жить дальше осознанно.
Пережив страшные часы операции, Ольга Михайловна замечает: сумеречный и мутный, как туман, свет сменяется ясным летним днем; ящики в комоде, которые открывали для облегчения родов, уже заперты. Все это как будто знаменует продолжение жизни. Но беспомощная детская улыбка, дрожащие губы и слезы из глаз Петра Дмитрича говорят о том, что этот мир, глухой и убогий, с этих пор включается в иное пространство.
Персонажи Чехова.
От толстовских их отличает то, что Ольга Михайловна и Петр Дмитрич чувствуют свое несоответствие времени, не удовлетворены жизнью, но это ощущение размыто и не дает почвы для окончательного разрешения собственной судьбы. Фальшь, которую фиксирует во всем и вся Ольга Михайловна, связана не только с ее физическим положением, но и с ощущением диссонанса, существующего в ее с мужем отношениях.
Пытаясь выглядеть "как все", Петр Дмитрич, замечает его жена, "постоянно рисуется, кокетничает, говорит не то, что думает, и старается казаться не тем, что он есть, а кем ему быть должно". Наблюдая это, Ольга Михайловна думает о том, "откуда у тридцатичетырехлетнего человека эта солидная, генеральская походка … тяжелая, красивая поступь … начальническая вибрация в голосе [12: С.Т.7, с.174]".
От интеллигентности, присущей юристу, мало что осталось. Свидетелям-крестьянам Петр Дмитрич говорит "ты" и позволял себе кричать на публику, с адвокатами он держится невозможно. Кажется, думает Ольга, если бы в эти минуты она подошла к мужу, то и ей он бы крикнул: "Как ваша фамилия? [12: С.Т.7, с.175]".
Как оказалось, такое (назовем его "неловким") поведение персонажа можно объяснить не столько его бескультурьем, а тем более хамством, сколько непониманием того, что же происходит вокруг. Если жить по законам уходящего времени, то можно скатиться до уровня "ничтожества при власти", если попробовать примериться к изменяющемуся миру, то непонятно, а что же следует сделать с собой, чтобы не выглядеть смешным. Вот и получается: дома Ольга Михайловна знает супруга добрым и мягким, а в окружении сослуживцев он выглядит фальшивым "человеком в маске". Закономерно поэтому замечание Чехова о том, что, утомленный, виноватый и недовольный собой, Петр Дмитрич мечтает засесть на хуторе и жить "подальше от этих съездов, умных разговоров, философствующих женщин, длинных обедов [12: С.Т.7, с.171]". Время от времени он сбегает в Полтавскую губернию, "чтобы не видеть своего кабинета, прислуги, знакомых и всего, что могло бы напоминать ему о его раненом самолюбии и ошибках". Таким образом, в ситуации, когда традиционные ценности вступают в конфликт со временем, они превращаются в путы. Поэтому и Петр Дмитрич, жалкий и смешной, попадает в ситуацию комического несоответствия сущего и должного.
Растеряна и Ольга Михайловна. Она – образованная, наделенная умом и сердцем женщина, которую не нужно учить нравственности и внутренней порядочности. Но, оказавшись во временном "распутье", отмеченным отсутствием четких ориентиров, она чувствует себя не на месте. Поэтому, принимая гостей, она вынуждена непрерывно улыбаться и говорить, она терпит бесконечный звон посуды, она отмечает бестолковость прислуги, она мучается в корсете до дрожи в руках и ногах. "И чтобы скрыть от гостей эту дрожь, она старалась громче говорить, смеяться, двигаться... "В случае, если я вдруг заплачу, – думала она, – то скажу, что у меня болят зубы..." [12: С.Т.7, с.185]".
Внутренняя дезориентированность заставляет ее задаваться вопросами: "Господи, боже мой, – шептала она, – к чему эта каторжная работа? К чему эти люди толкутся здесь и делают вид, что им весело? К чему я улыбаюсь и лгу? Не понимаю, не понимаю!"; "Даже телу неудобно оттого, что напряжена душа [12: С.Т.7, с.187]".
Она, как и муж, желает уйти подальше от застолья, она мечтает спрятаться в шалаше, чтоб ни с кем не разговаривать, перестать напряженно улыбаться, иметь возможность вернуться к главному в ее жизни – размышлениям о будущем ребенке. Она трогательна и естественна только в момент утраты всех надежд, связанных с ребенком – в это время, сквозь боль, она фиксирует неуклюжую суету, в которой участвуют как живые люди, так и неживые предметы.
И все же знакомство с этой супружеской парой одаривает читателя чувством просветленной грусти. Муж и жена, как и многие чеховские герои, оказавшиеся в ситуации распутья, очень остро испытывают боль утраты, их постоянно сопровождает чувство растерянности, они не знают, как им жить дальше. Они не хотят жить радостями мещанского большинства, но не могут и отступить от них, чтобы найти себе применение. Их сопровождает отчаяние, связанное с пониманием того, что они живут не в самое удачное историческое время и что жизнь не складывается. Они остро чувствуют смену социальных ролей, мучаются бездуховностью окружения, мечтают о цельности мировоззренческих основ, о гармонии человека с миром и обречены на неутешительный вывод: в ситуации резкой смены ориентиров и в обществе, переживающем хаос брожения, "общая идея" просто невозможна. Сильным и вялым одновременно, им очень подходит определение, объяснившее их личности уже в XX веке: "плохой хороший человек". Их мы и сейчас можем назвать "совестью" переходного времени. Они вызывают уважение, сочувствие и одновременно какую-то долю пренебрежения, запоминаются своим стремлением пересмотреть жизнь и попытаться сделать ее достойной. Главное их отличие – постоянный непокой, неудовлетворенность, в первую очередь собственной жизнью.
Таким образом, можем сделать вывод. Выработка опосредованных приемов характеристик, основанная на использовании узнаваемых принципов психологизма Л.Н. Толстого, зарождалась уже в раннем творчестве А.П. Чехова. Но старые сюжетные ходы приобретают у него новый вид, способный вызвать недоумение современников. Оригинальность чеховского подхода к наследию Толстого состоит в том, что он корректировал его творчество в контексте времени. Чехову как писателю, оказавшемуся в ситуации не стабильного, а рубежного времени, свойственно далеко не однозначное отношение к уходящему. Конечно, обобщение прошлого сопровождается его отрицанием, но это отрицание выглядит как переосмысление, сопровождаемое активным экспериментаторством. Это проявилось не столько в усвоении традиции, сколько в укрупнении ее несоответствий данному конкретному периоду и симулякровом, а не просто типизирующем обобщении пройденного. Эту особенность "переходного" художественного мышления конца XIX – начала ХХ вв. подтверждает А.П. Чехов.
Литература:
1. Аршинов В.И., Свирский Я.И. Синергетическое движение в языке.
2. Бердников Г.П. А.П. Чехов. Идейные и творческие искания. – М.: Худож. лит., 1984. – 511 с.
3. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – М.: ООО "Издательство АСТ", 2000. – 256 с.
4. Звиняцковський В.Я. Новелістика А. Чехова і М. Коцюбинського – К. : Наукова думка, 1987. – 108 с.
5. Катаев В. Б. Спор о Чехове: конец или начало? // Чеховиана: Мелиховские труды и дни. – М.: Наука, 1995. – С. 3–10.
6. Линков В.Я. Художественный мир прозы А.П. Чехова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 128 с.
7. Мережинская А.Ю. Русская постмодернистская литература: Учебник. – К.: Киевский университет, 2007. – 335с.
8. На границах. Зарубежная литература от средневековья до современности: [сб. работ / отв. ред. Л.Г. Андреев]. – М. : ЭКОН, 2000. – 256 с.
9. Полоцкая Э. А. Реализм Чехова и русская литература конца ХІХ – начала ХХ в. (Куприн, Бунин, Андреев) // Развитие реализма в русской литературе : в 3-х т. – М.: Наука, 1974. Т.3.– 1974. – 358 с.
10. Силантьева В.И. Импрессионизм как фактор переходности в искусстве рубежа ХІХ– ХХ в.в. (литература и живопись) // Слов’янський збірник: східнослов’янські літератури. – Одеса : Маяк, 1997. – Вип. 4. – С.45–61.
11. Силантьева В.И. Художественное мышление переходного времени (литература и живопись): А.П.Чехов, И. Левитан, В. Серов, К. Коровин. – Одесса : Астро-Принт, 2000. – 352 с.
12. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. − М.: ТЕРРА, 1992. Том 88-89. Письма к В.Г. Черткову 1897−1904 гг.
13. Чехов А.П. Полное собрание соч. и писем: в 30-ти т. Соч. : В 18-ти т. Письма : В 12-ти т. / А.П. Чехов. – М.: Наука. – 1974 –1985. Сочинения: Т. 7. – 1977. – 733 с. Письма: Т. 5. – 1977. – 678 с.
14. Чудаков А.П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. – М.: Сов. писатель, 1986. – 384 с.