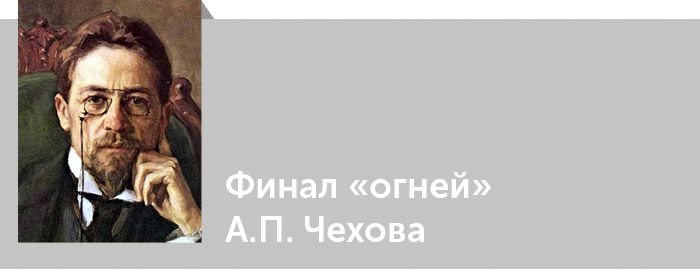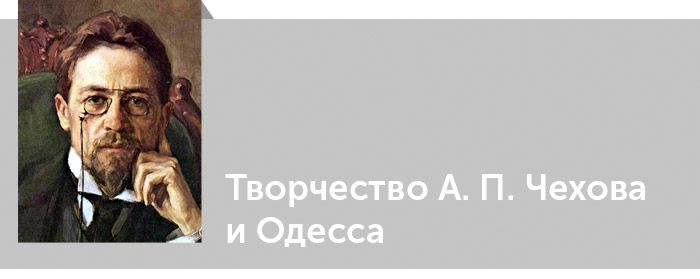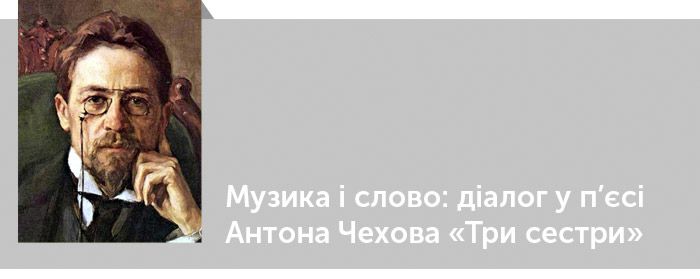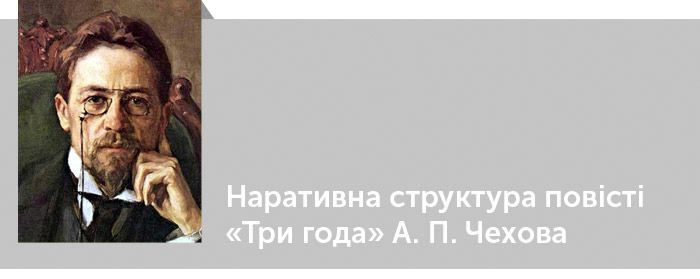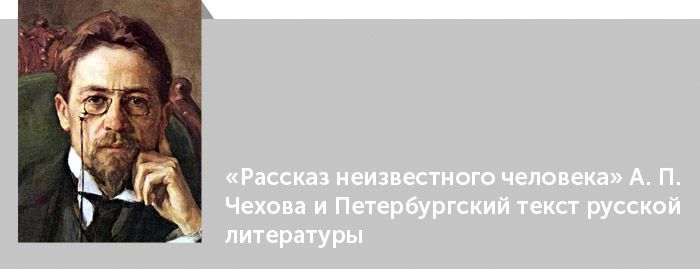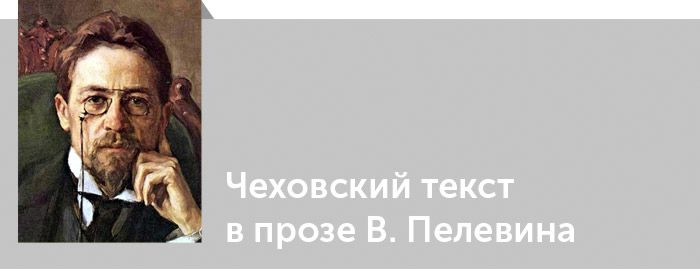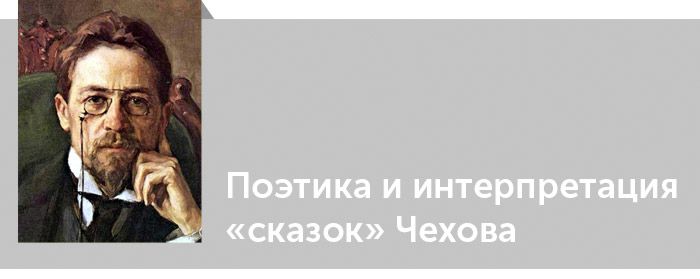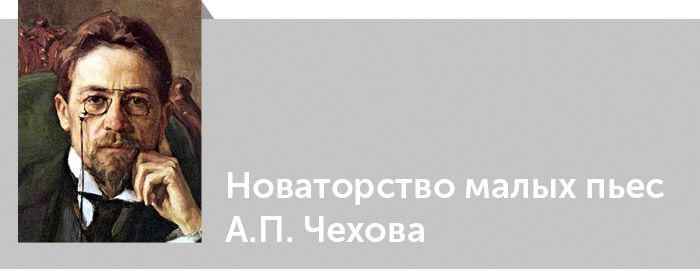Диалог с классикой: интерпретация наследия А.П.Чехова и авторецепция в русской драматургии 1990 – 2000-х годов

УДК 821.161.1:82-2 / Чехов: 82’06
А.Ю. Мережинская
В статье доказывается, что в современной драматургии отношение к классике формируется как диалог, а не прямое наследование или отрицание. Этот диалог по своим целям и форме далек от травестии, постмодернистской деконструкции, римейка. Он отражает стремление драматургов осмыслить культурные корни и понять специфику собственного творчества, современного состояния искусства. Проанализированные пьесы являются результатом авторецепции современной литературой качественного сдвига в развитии искусства, формирования новой художественной парадигмы.
Ключевые слова: традиция, авторецепция, диалог, переходное художественное мышление.
Мережинська Г.Ю. Діалог з класикою: інтерпретація доробку А.П. Чехова та авторецепція в російській драматургії 1990–2000-х років.
В статті доводиться, що сучасна російська драматургія формує діалог з класикою, уникаючи прямого наслідування або ж заперечення попереднього досвіду. Цей діалог за змістом та формою є далеким від травестії, постмодерної деконструкції та простої переробки. Він відбиває намагання драматургів осягнути культурні корені на зрозуміти специфіку власної творчості, сучасного стану культури. Проаналізовані п`єси є виявленням авторецепції сучасною літературою якісного зсуву в розвитку мистецтва, формування нової художньої парадигми.
Ключові слова: традиція, авторецепція, діалог, перехідне художнє мислення.
Anna Merezhinskaya. Dialogue with Classics: The Interpretation of Anton Chekov’s Legacy and the Autoreception in the Russian Drama of 1990th-2000th.
It is proved in the article that in contemporary drama the attitude to classics is formed as a dialogue not as a direct following or rejection. This dialogue has nothing to do with postmodern deconstruction and remake. It reflects the playwriters’ strive to consider cultural roots and understand the specifics of their work and modern state of art.
The plays analyzed are an autoreception result of qualitative shift of a new literary paradigm formation made by modern literature.
Key words: tradition, autoreception, dialogue, transitional type of thinking.
Влияние художественных открытий А.П.Чехова на литературу ХХ века является фактом непреложным и рассматривается учеными как на уровне стилей и направлений (воздействия на художественные системы символизма, неореализма, авангарда, постмодернизма), так и индивидуальных поэтик крупнейших писателей (Л.Андреева, Блока, Ф.Сологуба, Булгакова, Голсуорси, Хемингуэя, Акутагавы и др. [Полоцкая 2000]).
В этом отношении современная драматургия органично входит в ряд общих явлений, в единый процесс освоения традиций. Исследователи справедливо полагают, что художественные открытия Чехова восприняты и преобразованы в пьесах А.Вампилова, Л. Петрушевской [Громова 2007], Н.Коляды, многих драматургов «новой волны» 1970–1990-х годов, обратившихся к традициям «новой драмы» рубежа XIX–XX веков. Воздействие пьес классика отразилось в организации действия, типе конфликта, определенных моделях героев, открытом финале, системе символов и мотивов, жанровом синтезе, использовании конкретных приемов: подтекста, внутренних монологов, внесценических персонажей и др.
Широкий круг произведений конца 1990-х – 2000-х годов лишь начинает изучаться в названном ракурсе, поэтому исследователям предстоит обнаружить общие особенности художественной рецепции творческого опыта Чехова. А эти специфические черты могут быть достаточно неожиданными, отличными от тех, что проявились в предшествующие периоды, учитывая ряд факторов, и, прежде всего, такие: переходный характер литературы конца ХХ – начала XXI веков, активный поиск писателями нового художественного языка интерпретации реальности, наконец, особенности самой чеховской традиции, которая всегда подвигала последователей к свободному экспериментированию, содействующему обновлению литературы. Подчеркивая эту стимулирующую роль чеховской традиции для писателей «серебряного века» и близких по времени последователей, Э.А. Полоцкая отмечает: «Влияние Чехова на младших современников было освободительным (как Пушкина, о котором в такой же связи употребила это слово М. Цветаева): оно поощряло самобытность. Оказавшиеся в самом начале литературной деятельности среди подражателей Чехова крупные таланты быстро освободились от внешнего сходства с ним, от «чеховщины» как комплекса мотивов и поэтических средств. Это, кроме Бунина, Куприн, Л. Андреев [...] пример Чехова вдохновлял их на самостоятельные творческие поиски» [Полоцкая 2000: 440-441].
Свидетельством определенного «сдвига» в освоении чеховских традиций именно в конце 1990-х – 2000-е может быть появление целого ряда современных драм, основой которых становится не просто использование чеховского художественного кода или переделка авторитетного образца, а остранение и переосмысление всего опыта классика, диалог с ним, попытки испытать на прочность открытия Чехова в области содержания, идей, картины мира и формы.
Изучение целей и основных механизмов этого диалога является задачей настоящей работы.
Круг текстов, в которых моделируются ассоциации с произведениями Чехова и других классиков, (а драматурги вступают в творческую полемику с прославленными предшественниками) достаточно широк. Это свидетельствует о наличии тенденции, отражает общую черту всех переходных эпох – столкновение «старины» и «новизны» [Панченко 1984].
Исследовательница современной драматургии С.Я. Гончарова-Грабовская отмечает расширение потока подобных текстов, считает их важной частью драматургического процесса, однако несправедливо квалифицирует их как римейки. «Возникают римейки или пьесы, написанные «вокруг» известных произведений. К таковым следует отнести «Смерть Ильи Ильича» М. Угарова (по роману А.И. Гончарова «Обломов»), «Возвращение из мертвого дома» Н. Громовой (по Достоевскому), «На донышке» И. Шприца (по пьесе М. Горького «На дне»), «Вишневый садик» А. Слаповского, «Поспели вишни в саду у дяди Вани» В.Забалуева и А. Зензинова (по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад»), «Без царя в голове» П. Грушко (по мотивам «Истории одного города» М. СалтыковаЩедрина)» [Гончарова-Грабовская 2006: 20]. Объяснение самого факта появления широкого круга таких текстов видится исследовательнице в кризисном состоянии современной драматургии, которая обращается к классике за подпиткой, поскольку сама не в состоянии дать концепцию современности: «Инсценировки по мотивам чужих сюжетов – переходный период в русской драматургии, так как авторы ищут убежище, обращаясь к чужим сюжетам, чтобы потом написать пьесу о современности» [Гончарова-Грабовская 2003: 27].
Здесь можно возразить следующее. Во-первых, большинство из названных пьес представляют собой не переделки классики, а самостоятельные произведения, вступающие с предшественниками в сложный диалог. Во-вторых, они содержат концепцию современности, проясняемую как раз этим диалогом. И, наконец, в основе некоторых лежат события сегодняшнего дня. Кроме того, обращение к более широкому контексту может выявить иные причины диалога с классикой. Это и деконструкция тоталитарного дискурса в постмодернистских пьесах («Мужская зона» Л. Петрушевской), утверждение постмодернистских принципов интерпретации мира и человека («Dostoevsky-trip» В. Сорокина), а также обратный процесс – усталость от экспериментов данного стиля. Так, исследовательница французской литературы Н.Т. Пахсарьян считает возвращение к традиции доминирующей тенденцией современной литературы, фиксируя интерес к устойчивым формам (жанрам, приемам повествования) и к содержательной стороне классики – «вариациям известных историй и «вечных» образов» [Пахсарьян 2006: 32].
Как видим, проблема определена, пути ее решения лишь намечаются. Однако очевидно, что установление причин обращения к классике, віявлениеформ и специфики диалога с ней могут дать ключ к пониманию важных процессов, затрагивающих современную литературу в целом.
Достаточно частое обращение драматургов именно к произведениям Чехова связано с тем, что писатели усматривают в этом классике близкую современности фигуру, воплощающую переходное художественное мышление, а потому особенно актуальную для всех, переживающих культурный кризис рубежа ХХ – XXI века.
Объектом данного исследования являются пьесы сложные в жанровом отношении. Это «Сахалинская жена» Е. Греминой (в авторском определении «колониальная драма в двух частях»), «Мой вишневый садик» А. Слаповского (комедия с элементами трагедии и фарса), «Поспели вишни в саду у дяди Вани» В.Забалуева и А. Зензинова («гетеротекстуальная драма», организованная как гипертекст и «текст в тексте»; трагифарс), «Чайка» Б. Акунина (совмещающая черты комедии, детектива, фарса и, опять же, гипертекста). Ни одно из произведений не является собственно римейком, но все обыгрывают в ироническом и лирическом, ностальгическом планах не один, а несколько текстов Чехова. Названные пьесы имеют либо черты продолжения (драмы Забалуева, Зензинова, Акунина), либо действие происходит параллельно с событиями в произведениях Чехова (драма «Сахалинская жена»), но с исторической перспективой. Порой действие развивается в современности с ретроспективой, направленной к пьесам классика (комедия А. Слаповского). Таким образом, картина мира чеховских пьес и концепция современности, предложенная драматургами, взаимно отражают друг друга, пересекаются, вступают в диалог.
Произведения можно поделить на две группы в зависимости от доминирующей тенденции. Во-первых, это те, в которых с помощью чеховских ключей (сюжета, образов, системы символов и мотивов, претерпевших существенные модификации) исследуются исторические потрясения двух рубежей ХХ века (пьесы А. Слаповского, В.Забалуева, А. Зензинова, Е. Греминой). Во-вторых, драмы, где в игровой манере переосмысливается чеховская поэтика, собственно, решается вопрос о ее актуальности для создания нового художественного языка (пьесы В.Забалуева, А. Зензинова, Б.Акунина). Рассмотрим особенности рецепции чеховской традиции и механизмы диалога с ней в названных пьесах.
1. Особенности мифологизации в драме Е.Греминой «Сахалинская жена».
Пьеса Е. Греминой «Сахалинская жена», как и чеховский»Вишневый сад», – произведение о России на перепутье и о перспективах ее развития. В этом отношении драма вписывается в обширный ряд современных текстов, осмысливающих исторические и культурные итоги ХХ века. Особенностью диалога становится следующее. В качестве исходных фактов для осмысления и формирования собственной историософской концепции выступают не реальные события, а художественные произведения («Остров Сахалин», «Вишневый сад», «Дядя Ваня» А. Чехова, «Записки из Мертвого дома» Ф. Достоевского), а основным способом их интерпретации является мифологизация. Механизм таков: классические тексты и сама фигура Чехова рассматриваются сквозь призму нескольких базовых традиционных мифов, при этом произведения трактуются как мифы вторичные, а уже на этой основе творится, надстраивается авторский миф.
В авторской концепции Чехов предстает культурным героем, который проник в некую мистическую тайну своей страны, а, возможно, и стал жертвой ее познания и подтолкнул механизм хаосогенных преобразований. Об этом свидетельствует эпиграф из биографии Чехова в серии «Жизнь замечательных людей («Может быть, нельзя сказать, как думали многие, что именно за эту поездку он расплатился раннею смертью»). Кроме того, постоянно актуализируется загадка: что же влекло Чехова на этот зловещий край земли? Подобный вопрос задают герои пьесы, например, охраняющий заключенных унтер: «Якобы едет к нам сюда литератор Чехов, но того не может быть, ибо что здесь литератору?» [Гремина 2008: 131]. В авторской концепции Сахалин предстает мистическим дном страны, национального сознания, географическим и апокалиптическим краем света. В этом контексте Чехов трактуется как традиционный герой, стремящийся перейти границу миров (сюжет о хождении в ад), понять запретное, дабы исправить зло, но подобный герой зачастую расплачивается за такую миссию, за нарушение правил. В этом плане показательны рассуждения коллеги Чехова – местного доктора, стремительно деградирующего, рефлектирующего, подобно Астрову из «Дяди Вани»: «Сахалин для русского человека – конец света. Вот мы с вами и на конец света попали. Завтра здесь уже приедет перепись доктора Чехова… Хотя какой он, в сущности, доктор? У литераторов все понарошку» [Гремина 2008: 150].
Образ внесценического персонажа Чехова трактуется на пересечении нескольких мифов: Орфея, опускавшегося в ад; культурного героя, стремящегося помочь своему народу, познать и исправить роковые ошибки, приведшие к разрушению старого космоса; и сакральной жертвы. Результаты деятельности такого героя именно в русских реалиях оказываются двоякими. С одной стороны, приезд литератора и доктора (что особенно часто подчеркивается персонажами, воспринимающими себя ущербными, больными и дикими, то есть нуждающимися во врачевании и окультуривании) всколыхнул устоявшийся ад Сахалина, сгустил напряжение, спровоцировал решительные действия. Кого-то доктор, на первый взгляд, реально спасает, например, молодого унтера увлекает уехать в Москву, хлопочет о его поступлении в университет. Но с другой стороны, это вмешательство направляет механизм несчастий на новый круг: мальчишка-унтер превращается в столице в карикатурное продолжение Пети Трофимова, заводит революционных товарищей, призывает в письме отречься от старого мира. То есть спасение в исторической перспективе оборачивается новым хаосом, а Петя Трофимов соотносится с фольклорным разбойником Ванькой Ключником. В общем контексте эта ассоциация подкрепляется постоянным сопровождением действия пьесы пением народных песен, излюбленных «каторжным населением»: «Летавши по воле орел молодой», «Тюремная скопческая», «Хуторок» и др. Таким образом, на наш взгляд, моделируется мысль о ментальной загадке, превращающей любой протест в разбой, формируется аллюзия на пушкинские представления о русском бунте, «бессмысленном и беспощадном», который к тому же периодически возвращается. То есть тайна гармонии, «исцеления» не обретена.
Сахалин в драме выступает в роли мистического дна России, ее ада, предела. Ассоциации с адом усиливаются подбором героев (все заключенные здесь убийцы), акцентированием определенной философии («Без греха нельзя. Потому как Сахалин, – рассуждает местная гилячка Марина, с наивностью дикарки обнажая то, что до определенного времени думают все:
Марина. А что тот человек сделал, которого к тачке приковали?
Иван. Убил кого-то, не иначе [...]
Марина. Убил? Каждый убил. Каждого, что ли, к тачке» [Гремина 2008: 133, 129].
Ассоциации с адом усиливают мистические ноты. Например, дикарка варит яд из травы, растущей здесь повсеместно, и знаменательно, что это зелье просят у нее все, независимо от статуса. В таком же ключе звучат и ее проклятья– предостережения не пахать, «не дырявить» землю, поскольку это может вызвать окончательное обрушение мира.
Однако ад, дно, холодная пустыня – это лишь одна из сторон мифологической оппозиции. Вторая – это райский сад, возрождение, рождение (убийцы своих супругов создают новые семьи, в которых возможны два варианта развития – еще одно убийство или же примирение и рождение детей).
Противостояние этих оппозиций, в том числе и в душах героев, во внутреннем конфликте движет действие. Заместителем же райского сада (или вишневого, как читается в подтексте) становится поле, на котором старанием бывших грешников начинают расти побеги. В тесных семантических связях с садом оказывается и другой символ – дом, причем не заброшенный и обреченный, с забытым стариком Фирсом внутри, а семейный, с колыбелями и кошками, то есть любовью и уютом, преобладанием женского начала (что, заметим, подчеркнуто и в названии пьесы).
Однако создаваемое этими символами впечатление гармонии оказывается зыбким в исторической перспективе, с которой знаком зритель. Новый Петя Трофимов со товарищи запускает механизм мифологического «вечного возвращения», кружения в плоскости исторических ошибок, трактуемых как роковые, мистические. Актуализация же мифа о «вечном возвращении», как и эсхатологического, является особенностью переходного художественного мышления.
Для авторской концепции оказывается принципиально важным моделирование исторической перспективы относительно текстов Чехова. Это подчеркивается и посвящением – «столетию выхода в свет книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», и переиначенными репликами из «Дяди Вани», концентрирующими мотивы, несбывшихся надежд. Местный доктор философствует во втором действии: «Здесь, на Сахалине все забывается быстро [...] И подумайте только, какой необыкновенной, великолепной будет лет через пятьсот или сто – какой прекрасной станет жизнь в нашей России! Дух захватывает, когда думаешь об этом!» [Гремина 2008: 150]. Эта же мысль повторяется в финале, явно выдавая авторские интенции, моделируя ироничное восприятие зрителя, знающего, что небо в алмазах не появилось и в конце ХХ века. В реплике рефлектирующего доктора причудливо соединяются слова и мысли сразу нескольких персонажей «Дяди Вани» – Сони, Войницкого, Астрова: «Все равно, все равно… Главное – жить. И вот я живу. [...] Сахалин. Из меня мог бы получиться великий врач, философ, Шопенгауэр или Пирогов. Но я живу [...] Жена есть жена [...] Иногда мы с ней вместе говорим о том, какая чудная настанет в России жизнь лет эдак через сто. Жаль, что мы ее уже не увидим» [Гремина 2008: 165].
Эти размышления, по замыслу автора, направлены именно на осмысление современности. Моделируется авторская концепция, лишенная утопических иллюзий, основанная на стремлении вырваться из круга «вечного возвращения» к историческим катастрофам, а также из дискурса неудачничества (мотивы «Дяди Вани»). Указано и авторское видение путей преодоления дурной повторяемости – это обращение к началам любви, терпения и созидания, а также к усвоению прежних трагических уроков. И в этом процессе особую врачевательную роль играет литература.
Историософская концепция Е. Греминой в ряде важных позиций совпадает с концепцией, реализованной в пьесе А. Слаповского «Мой вишневый садик», и это совпадение уже является знаменательным, отражающим особенности переходного художественного мышления и специфику рефлексии классики. Акцентируется внимание на повторяемости одних и тех же сюжетов катастроф (исторических и личностных), на кружении, «вечном возвращении». Однако это явление имеет другой модус – не трагический, а фарсовый. И хотя произведения Чехова («Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Иванов») также трактуются как исходные точки для оценки современности, тексты, отразившие некие архетипические основы национального характера и судьбы страны, Слаповский использует иной набор приемов интерпретации.
2. Семантический сдвиг в трактовке чеховских мотивов и символики, принципы дубликации, остранения и «двойной сцены» в комедии А. Слаповского «Мой вишневый садик».
Пьеса А. Слаповского построена полностью на современном материале, однако мотив ретроспекции (вбирающий ассоциации с чеховскими текстами) оказывается особенно актуальным, он окрашен иронией и лирической ностальгией одновременно. В этом отношении показательны первые же реплики героев, открывающие пьесу, то есть находящиеся в сильной позиции и, скорее всего, проясняющие авторскую установку. Представители молодого поколения находят чертог, в котором можно укрыться от современного «жлобства». Таковым оказывается чердак заброшенного отселенного дома, воспринимаемый влюбленными как своего рода романтический раритет, ассоциирующийся в восприятии зрителя с «дворянским гнездом», разрушенным имением Раневской и Гаева. Саша объясняет свой выбор так: «Я люблю все старое. Я люблю вспоминать [...] Мне кажется, я жил в том времени, хотя меня тогда еще не было [...] Я понимаю. Но понимаю – когда гляжу из будущего. Если смотреть на сегодняшний день из сегодняшнего дня – понять невозможно [...] Страна корчится в судорогах переходного периода, коррупции, организованной и неорганизованной преступности! Плевки народного гнева услали тротуары, портреты политиков, ковры дворцов и кафель вокзальных сортиров – все! Деваться некуда [...] А мы делись.» [Слаповский: 1-2]. Таким образом, прошлое (в лице классических текстов) и современность взаимно проясняют друг друга.
Намечен и очень важный сдвиг – во внутреннюю, экзистенциальную плоскость: от трагической судьбы символического пространства (имения, вишневого сада) к поиску собственной экзистенции людьми, потерявшимися в социальных и ценностных потрясениях переходного времени.
К подобным выводам подталкивает как видоизменение сюжета классических пьес, так и семантические сдвиги центральных символов. В комедии А. Слаповского, являющейся не римейком, а самостоятельным произведением, от сюжета «Вишневого сада» остается лишь переход владения в новые руки, к новому хозяину. Таких переходов в пьесе Слаповского оказывается целых четыре, что отражает неустойчивый характер современности, дурную повторяемость катастрофических событий, а также вскрывает тяготение автора к постмодернистскому приему дубликации (что мы встречаем и в пьесах А.Забалуева и В. Зензинова, Б. Акунина, и всякий раз данный прием служит остранению, абсурдизации, ироническому снижению изображаемого). Каждый из новых хозяев несет в себе черты чеховского Лопахина, причем с характерной для него раздвоенностью, острой несчастливостью. Это дополнительно проявляется в куда более радикальных и демонстративных, чем у Лопахина, поступках: попытках самоубийства, стремлении всем напоказ жениться на первой встречной, юродствовании, притворстве, грубой агрессии по отношению к окружающим вплоть до желания их уничтожить и, одновременно, в покаянии. Все это вскрывает неустойчивость характера человека переходной эпохи. Смена владельцев и борьба за дом движет внешнее действие, его трагические, комические и авантюрные перипетии. Но еще более важным оказывается внутренний конфликт, вскрывающий противоречия характера и мировосприятия героев, этот конфликт выходит глубоко за рамки банального самоутверждения.
По ходу действия это выглядит следующим образом. Вначале ничейный (по советским меркам) отселенный дом, вернее, его чердак, занимает молодая парочка, движимая идеей скрыться от грубой реальности в вечном, в любви, создать свой мир. Однако это оказывается утопией. Объявляется новый хозяин – Азалканов, купивший дом у мэрии. Он совмещает в себе черты Лопахина с Ивановым,(драма «Иванов»), а также с «лишним человеком» (авторская характеристика в ремарке – «герой не нашего времени»), к тому же явно страдает «синдромом Зилова» – тотальным разочарованием во всех ориентирах, экзистенциальной заброшенностью, суицидальными устремлениями уйти от бессмысленной жизни. (Литературоведы неоднократно отмечали связь Зилова – художественного открытия А. Вампилова – с чеховской традицией). Образ отражает авторскую рефлексию сразу нескольких литературных традиций, которые как бы примеряются к современности и одновременно остраняют ее. Азалканов становится богатым человеком наперекор своим прежним социальным и психологическим ролям, из самоутверждения. Фактически А. Слаповский предлагает версию человека своего поколения, пережившего социальный и ценностный слом кризисного времени, осуществившего переход от старой модели – обессиленного и рефлектирующего интеллигента (по типу Иванова из одноименной пьесы пьеса А. Чехова), а также от «зиловской» модели неудовлетворенного интеллектуала к новому амплуа «хозяина». Причем рискованность и негарантированность подобной метаморфозы в русских парадоксальных реалиях вполне осознает сам герой:
«Азалканов. А почему ирония? Скажи-ка, Джон, вот, например, у вас в Америке возникает такая ситуация: человек был алкоголик и потерян он был для общества, для собственной жены, общество его гонит, жена его гонит, он живет на чердаке, как последний нищий. И вдруг он решил: хватит! Свободная жизнь вредна для здоровья. Он одумался. Если люди с одной извилиной богатеют не по дням, а по часам, то он-то с его умом! И через два года он стал богат [...] Хорошо это?
Даунз. Ес, ай андерстенд. Грейт! Ха-ра-шо!
Азалканов. А вот и нет! По нашим меркам это не хорошо! Жена удивляется, общество в недоумении: чего это он? Брось, мол, не придуривайся, все равно у тебя не выйдет, опять запьешь, опять на чердаке повесишься!» [Слаповский: 9].
Подобная раздвоенность, неокончательность характера, во-первых, не дает герою самоопределиться, во-вторых, не позволяет окончательно решить судьбу дома – сделать ли из него отель (наподобие лопахинских дач) или благоустроить и благородно отдать людям в дар. Но подобная же неопределенность дает возможность Азалканову спокойно и даже без сопротивления (подобно Гаеву и Раневской) перенести потерю дома, отнятого более хитрыми компаньонами. Но и эти герои при всей своей внешней жесткости отнюдь не целостны. Ими правят и их гнетут суперидеи, простирающиеся за пределы коммерческих интересов, порождающие внутреннюю конфликтность и несчастность. Следующие двое сменяющих друг друга новых «хозяев» борются с комплексом Лопахина, переживая свой взлет из низов общества в «верхи». Кто-то компенсирует былые обиды (Минусинский), а кто-то одержим манией уже революционных преобразований (как это ни парадоксально для богача), даже разрушений, без которых, видимо, представляется автору, не обходятся никакие перемены в русской истории. Поскольку данная идея посещает нескольких героев (юноша Саша пытается взорвать всех этих, как он говорит, «жлобов», а новый хозяин-бандит Васенька готов всех заставить жить нормально, окультурить и, если нужно, расстрелять на пути к новой жизни), вновь моделируется эффект повторяемости, утверждается модель «вечного возвращения» исторических катастроф.
И отметим, эта же идея дискредитируется. Происходит это во многом благодаря новой семантике чеховских символов и использования театрализации. Так, имение Раневской и Гаева редуцируется до полуразрушенного, сгнившего дома, к которому сами герои относятся противоречиво: называет «клоповником» и одновременно ностальгически вспоминают (не исключено, что так кодируется отношение к недавнему советскому прошлому). То есть образ понижается, но одновременно он и возвышается. Так, репрезентантом всего дома выступает чердак – более близкий к небу локус (для сравнения – в пьесе В. Забалуева и А. Зензинова «Поспели вишни в саду у дяди Вани» это будет подвал, к тому же тюремный, то есть своего рода «Сахалин» – мистическое дно, по Е. Греминой). К тому же описан чердак в ностальгических и романтических тонах, именно здесь обостряются главные мысли – о любви, смерти, смысле личностного существования, происходят раскрытие карт и саморазоблачения. Особенно важным семантическим приращением становится то, что чердак обретает неожиданные культурные корни – это не бывшее дворянское гнездо, но зато прежнее прибежище подпольного клуба диссидентов и аматорского театра, все это, видимо, в глазах автора, воплощает то лучшее, что было во времена «застоя», а именно – присутствие высоких идей, внутренней наполненности, которой герои лишились в новые времена, что также делает «хозяев», современных Лопахиных несчастными. Не случайно автор вводит сцену неудавшейся попытки героев разыграть по старой памяти импровизацию, провал затеи всеми расценивается как сигнал внутренней деградации и рифмуется с ветшанием дома, внешней разрухой.
Однако сама установка на театрализацию, моделирование двойной сцены запускает неожиданный механизм: все трагические повороты событий оборачиваются фарсом, (заметим, что подобное соединение контрастных начал характерно для поэтики Чехова, как и театрализация действия, текст в тексте в «Чайке»). Так, например, адская машинка, при помощи которой юный Сашенька стремится взорвать всех «жлобов», разрушителей его любовного чердачного рая, превращается в музыкальную шкатулку, поворот ее ручки рождает мелодию, под которую все, как куклы, начинают танцевать (знаменательно, что такую же «кукольную» интерпретацию образов «Дяди Вани» мы встретим и в пьесе В.Забалуева и А. Зензинова). Этот же механизм срабатывает и в другой роковой момент, когда разъяренный рейдер Васенька пытается расстрелять опирающихся его воле присутствующих: вместо казни возникает стройное хоровое пение. Оно обнаруживает ментальную близость героев и одновременно вскрывает страшную путаницу в головах дезориентированных социальными и культурными встрясками постсоветских людей, а перемены трактует как анархическую вольницу.
«Васенька. Ну-ну-ну! Полегче! Это, тетя, не игрушки. Вот отсюда настоящая пуля вылетит – и ку-ку. Ясно тебе?
Пауза.
Воткин (вдруг меланхолично запел) А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня… А вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня.
Припев поют Азалканов, Минусинский, Розов, Саша. Слаженный мужской хор:
Любо, братцы, любо, Любо, братцы жить.
С нашим атаманом не приходится тужить.
Васенька. Как поют! Как поют, сволочи! В хор вас возьму при ресторане! Мы ведь одна кровь! Зачем же мы не смотрим вперед веселыми глазами?
[...]
Жена погорюет – Выйдет за другого,
За мово товарища, забудет про меня. Жалко только волюшки Во широком полюшке,
Жалко сабли вострой да буланого коня!
[...]
Васенька. Молите! Молчите, не то убью! Ах, видела бы меня моя мама! Видел бы меня мой папа, мелкий карманник и тунеядец! Видели бы они, кем стал их сын! Но я других научу жить! Не потерплю вони и грязи! Старье все сломаю, настрою небоскребов из стекла, все сиять будет! Я заставлю вас людьми быть, гады!» [Слаповский: 21].
Эта «революционная» кульминация пьесы (заметим, речь Васеньки содержит аллюзии на ряд революционных песен) неожиданно переворачивается в самоосуждение и покаяние русского человека и его желание самоуничтожиться. Новый хозяин жизни Васенька стреляется. Но ситуация переворачивается в фарсовом ключе еще раз – все остаются живы, выстрел включает некий театральный механизм: играет музыка, рушится здание, оставляя героев невредимыми. То есть в очередной раз у новых хозяев ничего не получилось, видимо, по каким-то глубинным ментальным причинам. Повторяющееся кружение, «вечное возвращение» осмеивается и абсурдизируется.
Общая театральность, мотивы режиссирования и игры (к тому же герои время от времени замечают зрителей и начинают перед ними позировать и разыгрывать роли, то есть нарушают условность сценического действия), моделирование двойной сцены, воспоминания о былой постановке (причем именно «Вишневого сада») – все это создает дополнительный странный ракурс освещения современности и классики, творит атмосферу, в которой переиначивание пьесы Чехова кажется не кощунственным, а органичным как для самого классика органичной была театрализация, прием «театра в театре», игра на грани трагедии и фарса.
Благодаря этим установкам все происходящее абсурдируется и становится как бы «не всамделишным», происходящим понарошку (схожий модус встречаем и в «Сахалинской жене»). В пьесе А. Слаповского три несостоявшихся самоубийства, четыре разрушившиеся свадьбы, постоянные розыгрыши, смена имен, квипрокво (например, примитивный и жизнерадостный американец Даунз, или Даун, как его кличут остальные, оказывается фальшивым, в эту маску рядится русский оборотистый делец, также стремящийся завладеть домом).
Но в этой ситуации постоянного театрализованного переворачивания обнаруживается твердая ось, вокруг которой кружат характеры наиболее интересных автору героев и сосредотачивается внутреннее действие. Ее моделирует символ вишневого сада, приобретший по сравнению с классической пьесой новые смыслы. Чеховский вишневый сад концентрируется в одиноком вишневом деревце, фактически кустике, растущем в расщелине рушащегося дома. Деревце – это почти детская тайна, секрет обнаруживших его Саши и Азалканова, желающих этой светлой тайной поделиться с другими. Вишня становится символом внутренней экзистенции, что зафиксировано и в названии («Мой вишневый садик») Кустик плодоносит, и вполне логично Азалканов сравнивает его с деревом познания добра и зла. Его плоды пробуют самые перспективные в плане духовного развития герои. Видимо, в таком качестве воспринимается и вся чеховская пьеса, дающая ключи к пониманию себя, своего времени современным человеком. Знаменательно, что вишня становится и символом спасения. Именно деревце удерживает бросившегося с чердака Сашу. Мифологические интерпретации усиливаются ассоциациями с неопалимой купиной, поскольку дерево – это то единственное, что не должно погибнуть после символичного разрушения дома и пожара. Для двух героев оно ассоциируется с любовью и основой жизни, возрождением: Азалканов и его бывшая жена возвращаются на руины в поисках себя, своей любви и вместе пытаются обнаружить в мусоре заветный корешок, чтобы посадить свой вишневый сад.
Тот факт, что прочтение данного символа в пьесе Е. Греминой (там были ростки в дикой земле Сахалина) и Слаповского соотносятся, более того, символ находится в дискурсе любви, семьи, возрождения – (в обоих текстах восстанавливаются семьи) свидетельствует о схожести интерпретации классического текста и общем стремлении к преодолению ценностного кризиса.
Модифицируя тематику, символику, ряд сюжетных линий «Вишневого сада» Слаповский использует арсенал художественных установок Чехова, хотя и они переосмысливаются. Так, реализуется принцип многогеройности, акцентируется внутренний конфликт. Но при этом обостряется и внешний конфликт, причем многое в нем абсурдизируется (что уже соотносится с водевилями Чехова). Внешне эффектные драматические столкновения не уходят в тень, а иронично обыгрываются настойчивым дублированием, театрализованным переворачиванием. Чеховский «срединный» герой обретает черты мятущегося современника, ищущего собственную идентичность. Сохраняются подтекст и открытый финал, чеховская установка на «пьесу-настроение». Доминирующим же настроением становится острое переживание неустойчивости мира, кружения истории, утраты личностью своей самости.
Если в пьесе А. Слаповского больше актуализирован идейный момент переклички с Чеховым, то в ряде пьес, например, В. Забалуева и А. Зензинова сталкиваемся с иной тенденцией – переосмысливается поэтика произведений классика, сам факт ее влияния на современных драматургов, особенности рецепции и пределы возможных интерпретаций. Обыгрывание и любовное (а не деконструирующее) пародирование «уроков» и начавшееся состязание с великими предшественниками призвано подчеркнуть собственную новизну, возникновение нового драматургического языка.
3.Рефлексия чеховских идей и поэтики (сатирическое заострение, остранение), вариативность интерпретаций и пародирование «новых прочтений» классика в пьесе В. Забалуева и А. Зензинова «Поспели вишни в саду у дяди Вани».
Само название пьесы сигнализирует зрителю и читателю о том, что данное произведение следует воспринимать в игровом, постмодернистском ключе: совмещены отсылки к двум классическим пьесам А.П. Чехова и строке из хулиганской песни о воровстве урожая у соседа (напомним: «Созрели вишни в саду у дяди Вани, а дядя Ваня с тетей Груней в бане, а мы с тобою погулять как будто вышли…»). Комический эффект создает здесь столкновение несовместимых по уровню культурных слоев, что сразу же настраивает зрителя на игру, эксперимент, «своеволие», к которому авторы призывают и во «введении» к тексту. Новые смыслы в названии приобретают концепты «зрелости» и находящегося в подтексте «воровства»: это как бы готовность авторов к подведению итогов (культурных, исторических, эстетических) и, одновременно, к «присвоению» «символического капитала» классики (как это в игровом постмодернистском ключе понимает М. Берг [2000]). Целью авторского «своеволия» является, на наш взгляд, отслеживание современной рецепции классики, обсуждение и обыгрывание ее опыта.
Авторское определение – «гетеротекстуальная драма» – акцентирует внимание на совмещении двух самостоятельных текстов. Первая пьеса «Поспели вишни в саду» представляет собой фантазию-продолжение «Вишневого сада». Вторая – набор сцен-скетчей «У дяди Вани», каждый из которых подает очень спорную интерпретацию одного из действий «Дяди Вани» (в соответствии с установками драмы абсурда, комедии кукол комедии дель арте, модернистских экспериментов Брехта). Части двух основных пьес соединяются по принципу «театра в театре» – то есть герои первой пьесы время от времени смотрят сцены из второй – это представление, которое разыгрывается перед ними некими лицедеями: то ли профессиональными актерами, служащими в старорежимном театре, то ли членами революционной агитбригады Красного Петрушки.
Авторы пытаются в постмодернистском ключе смоделировать гипертекст, который, подобно «Хазарскому словарю» Милорада Павича или «Бесконечному тупику» Д.Галковского, можно читать с любого места или, как говорят авторы, раскладывать как колоду карт (что рождает ассоциации с фокусами Шарлотты из «Вишневого сада»). Однако призыв «к творческому беспорядку» легко реализуется лишь в скетчах, в первой же пьесе присутствует жесткая логика событий. А вот общая игровая установка («Всем, кто азартен, – карты в руки» [Забалуев, Зензинов: 1]) охватывает всю интерпретацию текстов Чехова и саморефлексию драматургов, их осознание того, как влияет классика на поиск новых форм и переосмысление традиций.
Концепция первой пьесы «Поспели вишни в саду», имеющей знаковый подзаголовок «Интеллигентская ссора времен русской революции», достаточно прозрачна и соотносится с выше проанализированными произведениями Е. Греминой и А. Слаповского. Это упрек русской интеллигенции, которая не смогла спасти страну от исторической катастрофы и самоуничтожилась от собственной бездеятельности, утопий, компромиссов, комплексов. Герои чеховского «Вишневого сада» помещены современными драматургами в обстановку революционного хаоса, в которой либо подтверждают свои старые амплуа (Гаев и Раневская по-прежнему выжидают) либо приобретают новые, представляющие развитие отдельных черт их характеров. Например, Петя Трофимов становится командиром бронепоезда Красной Армии, Симеонов-Пищик – комиссаром эсероменьшевистского правительства, Лопахин – министром в том же правительстве. Но попытка стать иными, вплоть до знакового жеста – смены имени – оборачивается возвратом к прежнему амплуа: Петя Трофимов, объявивший себя товарищем Штыковым, оказывается тем же «недотепой» и в новых реалиях. Не понимающая, кто она такая на самом деле, Шарлотта называет себя товарищем Лариной, но вскоре снова начинает сомневаться в своей сущности и возвращается к демонстрации фокусов.
Набор действующих лиц отражает определенные авторские интенции, логику которых мы попытаемся отследить. Из списка действующих лиц исключены Аня и Варя (они по новому сюжету погибли в революционных перипетиях), что снижает лирическую струю пьесы по сравнению с «Вишневым садом». Но зато введены другие герои, проясняющие авторскую концепцию. Это комиссар бронепоезда Недобейко Давид Голиафович, доводящий до абсурда иллюзии Пети Трофимова и заодно их профанирующий, он использует революционные лозунги для достижения личной власти. Это и попавший в данную пьесу из «Трех сестер» Соленый, вволю реализующий свои комплексы в условиях революционной вседозволенности. Идейная нагрузка данных персонажей очевидна – они сгущают, драматизируют и одновременно снижают хаос и трагизм социальных перемен. Следующий же персонаж – чех, член интернациональной бригады Ярослав, в котором угадывается Ярослав Гашек, намекает на общую авторскую установку – осмеять и абсурдизировать хаос, предложить остраняющую оптику рассмотрения как исторических событий, так и поэтики Чехова, в которой трагическое и комическое, высокое и повседневное легко совмещаются.
«Любовь Андреевна. Чему вы хотите посвятить свой роман, мой друг?
Ярослав (с акцентом) Солдату. Не придумал пока ему имени – Шпикачек или Швайнер, но вижу словно живого.
Любовь Андреевна. Как низко мы пали! Раньше писали про императоров и полководцев, потом – про дворянство и офицеров, а теперь – и вовсе про солдата. А впрочем, иначе и быть не может: император отрекся, полководцы в бегах, осталась одна солдатня – серая, угрюмая, злая. Это, я думаю, будет самый мрачный роман в европейской литературе.
Ярослав. А я думаю – самый веселый» [Забалуев, Зензинов: 3-4].
Остраняющие функции выполняет еще один персонаж, который в «Вишневом саде» является внесценическим, а в пьесе Забалуева и Зензинова обретает полноправные позиции. Это французский любовник Раневской Жан Кретьен. Он показан как неудачливый приживала, попавший в опасные русские реалии. Жан Кретьен воспринимает происходящее с особым комичным малодушием, поскольку им не движет вообще никакая идея, иллюзия или воля. Он остраняет революцию как «приключения в русском стиле» (по словам Раневской).
Наконец, имеет остраняющую функцию и сам подвергается остранению еще один внесценический (как и у Е. Греминой) персонаж – Чехов. Герои не знают своего создателя и судят о нем в силу собственных представлений и под влиянием слухов, революционного контекста. А постановку фрагментов из «Дяди Вани» они смотрят с такой же иронией и равнодушием, с какой Аркадина и Тригорин воспринимали в «Чайке» «декадентские» эксперименты Треплева. Чехов, выступающий здесь в роли какого-то мало кому известного автора (как и Треплев), сначала превращается просто в «чеха», как Ярослав, потом дебатируется вопрос о том, «красночех» он или «белочех», наконец, преобразуется в скромного рабочего писателя Антона Павлова.
Смысл данного хода, то есть, введения в текст знаковой фигуры, на наш взгляд, таков. С одной стороны, в восприятии героев (но не авторов) фигура классика демифологизируется, что позволяет прикасаться к его текстам, рассматривать их не как сакральные, то есть провокационно их интерпретировать, деконструировать и вообще настраивать читателя и зрителя на общую игровую атмосферу произведения, на эксперимент (Пищик заявляет актерам: «Драгоценнейшие, не забывайте, что у нас следственный эксперимент. Постарайтесь, милейшие, для своего же блага» [Забалуев, Зензинов: 2]). С другой стороны, фигура Чехова повторно мифологизируется. Причем наблюдаем интересное совпадение с пьесой Е. Греминой. В обоих произведениях фигура и конкретное произведение Чехова трактуются как мистические явления, связанные с познанием запретной тайны и совершением роковой ошибки, которая и запускает механизм разрушения старого космоса. Так, в пьесе В. Забалуева и А.Зензинова герои «Вишневого сада», оказавшиеся в новой ситуации революционной катастрофы, пытаются понять, «с чего все началось», и часто возвращаются к событиям классической пьесы. Раневская полагает, что русский хаос начался с потери вишневого сада, Лопахин точкой отсчета считает позднее обнаружение в доме умершего Фирса, фактически несчастный старик рассматривается как сакральная жертва. Епиходов полагает, что его личная неудачливость перекинулась на судьбу страны, и тем снижает устойчивый историософский миф о роковой судьбе России, отданной на откуп сатане за грехи (миф имеет средневековые корни – «кар Господних» и актуализируется в переходные эпохи). То есть именно в тексте «Вишневого сада» современные авторы ищут спусковой механизм всеобщих катастроф. Подобная трактовка, безусловно, провокационна, она лишь активизирует читателя и выдает интенцию драматургов к пересмотру классического идейного и художественного багажа.
Мифологическая составляющая видится и в общей трактовке событий, с которых для авторов и зрителя «все началось» в ХХ веке. Хаос, как и в пьесе А. Слаповского, моделируется многократным переворачиванием ситуации, инфернальным кружением, которое при внешней динамике оказывается повторением, то есть обнаруживает внутреннюю пустоту (а пустота, как известно, – инфернальный локус). В городе все время меняются власти, каждая выискивает и уничтожает подозрительных. Обвиняемые и обвинители, жертвы и палачи меняются местами. Поэтому по абсурдной логике самым устойчивым местом, как бы осью, вокруг которой идет кружение, оказывается подвал, тюрьма (По словам Пищика, «Россия – маленькая страна. Где же в ней встретиться интеллигентным людям, как не в тюрьме...» [Забалуев, Зензинов: 7]). Абсурдность ситуации усиливается тем, что некоторые герои боятся эту тюрьму покидать, поскольку она кажется надежным местом по сравнению с внешним миром. И герои начинают вести себя по логике характеров «Вишневого сада»: Гаев, обнаруживая бильярд, со страстью предается игре, режет в угол; Раневская целуется с Кретьеном, Петя Трофимов ужасается этому разврату, лишившаяся революционных полномочий Шарлотта показывает фокусы, Лопахин ищет новые способы спасения и пытается побудить бывших помещиков к действию, к бегству и др. Динамика семантики символа России – от вишневого сада до хаоса и тюрьмы – очевидна. И в то же время авторы растворяют серьезность в иронии, переосмысливая ряд деталей и эпизодов «Вишневого сада». Так, камерный еврейский оркестрик из классической пьесы здесь поочередно играет Интернационал, «Семь сорок» и революционные песни. А финал пьесы, резонирующий с последней сценой «Вишневого сада», остраняет мифологему сакральной жертвы. На этот раз в тюрьме умирает Раневская, а забытые всеми властями Гаев и Кретьен ждут чего-то рядом с покойной в подвале, то есть оказываются как бы добровольно запертыми в новом «доме», символизирующем революционную Россию. В этом контексте проясняется и смысл подзаголовка первой пьесы – «Интеллигентская ссора времен русской революции». Герои «Вишневого сада», встретившись через годы, узнают друг друга, спорят, ведут разговоры, многие из которых коррелируют со сценами классической комедии, некоторые осовремениваются и включаются в новый контекст, но в любом случае моделируется впечатление, что за этими беседами рушится не только их жизнь, но и судьба страны. Возможно, перед нами авторское переосмысление чеховской поэтики. Так, внешняя бессобытийность поздних пьес классика оказывается неадекватной историческим сюжетам ХХ века. Динамика действия провоцируется и внутренними (как у Чехова), и внешними конфликтами. А вот типы героев, в частности, рефлектирующего, много говорящего и не действующего; идеалиста-«недотепы», закомплексованного позера, энергичного, но внутренне несчастного «хозяина» – подтверждают свою жизненность и в новых условиях. В этом отношении вполне логичным представляется завершение первой пьесы, модифицирующее финал «Вишневого сада»: Лопахину вновь не удается заставить Гаева и Раневскую действовать, в данном случае спасаться, бежать, они остаются в подвале, безвольные Гаев и француз остаются ждать, непонятно чего, забытые, как Фирс, всеми властями.
Авторы, доводя до крайности чеховскую традицию смешения трагического и комического, балансируют на грани трагедии и фарса, чему во многом содействует принцип «театра в театре», взаимопроникновение реальности и театральной условности. О намеренном моделировании именно такого эффекта наиболее ярко свидетельствует финал первой пьесы – переход от развязки судеб героев модифицированного «Вишневого сада» к новому акту экспериментальной постановки «Дяди Вани»:
герои у тела умершей Раневской философствуют:
«Кретьен. И сньег наконец-то пошель! Взхгляните!
Петя.Какая тишина!
Кретьен. Я верью, верью! Первый сьнег… L`impression!
Яша. [...] А может, они навсегда ушли? И те, и эти. Ушли и не вернутся…
Епиходов. А мы никуда не выйдем. Главное – не выходить из подвала, и все будет, как надо.
Все. Да, да… Именно так… Все будет как надо!..
[...] Шарлотта. Там, за занавеской народ.
Кретьен. Это нье народ. И нье люди. Иллюзион. Поверьте, мнье приходилось имьеть дьело с актрисс. Сплошной мульяж, охмурьяжь…
Петя. Пусть иллюзия. Не всякий имеет смелость смотреть ей прямо в глаза. Большинство лишь косится исподтишка, а само живет по уши в гнусной реальности!
Гаев. Господа, уберем занавес. Это будет представление в честь Любы [...] Креьен. Долой занавьес! Сотрем граньи!» [Забалуев, Зензинов: 19].
Моделируются ассоциации с финалом «Дяди Вани», хотя ностальгию Сони о гармонии и ее веру травестирует самый ничтожный из персонажей новой пьесы – Кретьен, который «отдыхает» перед занавесом революционного балагана. Знаменателен и призыв Пети Трофимова всмотреться в происходящее и расшифровать «иллюзию» (театральное представление). Он, безусловно, обращен к зрителю, как и призыв Кретьена стереть грани между сценой и реальностью, что вскрывает, на наш взгляд, вполне серьезный замысел: вслед за Чеховым и с использованием художественного кода классика осмыслить исторические катаклизмы ХХ века и их причины.
Иные мотивации, на наш взгляд, имеет обращение к скетчам – интерпретациям сцен из «Дяди Вани». Скетчи не содержат в себе историософскую концепцию, их цель – обыграть и проверить на прочность чеховские художественные открытия, а также вписать их в ряд традиций и новаций в области драматургии. Эти сценки имеют откровенно экспериментальный характер. Мотив опыта, проверки звучит постоянно в словах героев первой пьесы: скетчи – это, якобы, «следственный эксперимент», позволяющий выявить политическую физиономию пойманной и посаженной в тюрьму театральной труппы. Но авторы намекают, что этот опыт следует трактовать расширительно:
«Пищик. [...] Сейчас, как я понимаю, актеры готовятся ко второму действию и продолжат наш следственный эксперимент.
Кретьен. Над кьем? Над аутором пьесы?
Пищик. Ну…» [Забалуев, Зензинов: 6].
Как трактовать этот эксперимент, авторы не подсказывают, ограничиваясь интригующими указаниями на то, что обыгрывание действий «Дяди Вани» в духе театра абсурда, комедии масок и своеобразно понятой манеры Брехта является четырьмя сторонами «стилистического черного квадрата» [Забалуев, Зензинов: 20].
Как представляется, механизмы модификации чеховского текста таковы. Во-первых, авторы обнаруживают в классической пьесе черты комедии драмы абсурда и комедии дель арте (на их наличие ученые указывали) и максимально укрупняют их, доводя до крайности. При этом исходный текст не переиначивается радикально: реплики героев либо сокращаются с целью динамизировать внешнее действие в скетче «Абсурд», концетрируется мотив чудачества, несовпадение внешнего плана с подтекстом («я стал чудаком, нянька», «в такую погоду хорошо повеситься» и др.). Либо же вставляются комичные по сути авторские ремарки (скетчи «Куклы», «Дель’арте»), усугубляющие некоторые уже существующие черты характеров, например, безвольность героев, которые являются куклами в чужих руках, их детскую (кукольную) капризность, фальшивость. Так, кукла Серебрякова «поднимает по очереди свои поддельные ноги» [Забалуев, Зензинов: 23], театрально хватается за нарисованную грудь, кукла Елены Сергеевны обращает взгляд к нарисованным часам и др. Герои скетча «Куклы» не столько переживают, сколько лицедействуют, по крайней мере, именно так поданы рассуждения Астрова о красоте или ночное выпивание на брудершафт Елены Сергеевны и Сони. Безусловно, это упрощает и абсурдизирует образы по сравнению с классическим текстом, но отнюдь их не разрушает, поскольку большая доля театральности в них заложена изначально. Данная тенденция подкрепляется третьим скетчем «Дель’арте», в котором сложные чеховские образы также благодаря авторским ремаркам, корректирующим активные внешние действия, редуцируются до определенных амплуа. Елена Андреевна превращается в кокетливую Мальвину, Войницкий – в неудачника и безнадежно влюбленного Пьеро, доктор Астров – в активного Арлекина. При этом текст реплик резко контрастирует с поступками, описанными в ремарках.
«Арлекин–Астров. Хищница!… Вам нужны жертвы? Ну что ж, я побежден, вы знаете это и без допроса! (Сбрасывает с себя одежду и остается в полосатом купальнике) [...]
Мальвина–Е.А. (закрывает глаза). Вы с ума сошли!
Арлекин–Астров (вскакивает и начинает расстегивать ей застежки платья на спине). Вы застенчивы… вы застенчивы… вы застенчивы…
Мальвина–Е.А. (непоколебимо). О, я лучше, чем вы думаете (решительно поводит плечом так, что платье соскальзывает с него)» [Забалуев, Зензинов: 27].
В данном случае, как представляется, обыгрывается от противного чеховский подтекст и преобладание внутреннего конфликта над внешним, сложность характеров героев. Кроме того, моделируются ассоциации с водевилями классика, в которых черты комедии дель арте проступали достаточно отчетливо. Вызывающая трактовка «Дяди Вани» неожиданно для зрителей оказывается оправданной и ставит его перед дилеммой, как подобное может быть?
Что же касается скетча «Брехт», то он, на наш взгляд, уже пародирует возможные модернистские и постмодернистские инсценировки Чехова, в которых вызывающие новации заслоняют сам классический текст. Эксперимент над классикой доводится до абсурда, осмеивается, создается впечатление, что авторы перебирают и соединяют все вообразимые варианты интерпретационного вмешательства, заранее выбивая почву из-под ног у тех, кто возьмется еще раз ставить Чехова «по-новому». Так, финальное действие «Дяди Вани» проходит в металлических конструкциях, герои поднимаются и опускаются на трапециях, качаются на канатах, ведущий осуществляет синхронный перевод чеховской пьесы на английский язык, классический текст перемежается песнями в стиле иронического стеба, наконец, героев время от времени арестовывают, заковывают в наручники и явно забирают расстреливать. Подобная трактовка – это издевательство над всеми, кто берется модернизировать Чехова, и она же содержит элементы самопародии, что подтверждается и тем фактом, что в первой пьесе называется имя одного из авторов – Зензинов там предстает как один из лидеров меньшевистского правительства. То есть авторы не снимают с себя ответственность ни за что – ни за продолжающуюся «интеллигентскую ссору», ни за провокационное экспериментирование. Наследие же самого Чехова предстает загадкой и художественной Вселенной, Черным квадратом, который вмещает в себя все: все традиции и возможные толкования, эксперименты последователей, их шутливое, игровое по форме, но искреннее признание.
4. Обыгрывание принципов поэтики Чехова в комедии-детективе Б. Акунина «Чайка»(«разоблачение» подтекста, развитие характеров, обнажение внутреннего конфликта, дубликация).
Во многом с экспериментами В.Забалуева и А.Зензинова резонируют и те опыты с чеховским текстом, которые провел Б. Акунин в своей скандально знаменитой «Чайке». Данное произведение вызвало широкий критический резонанс и заострило вопрос об отношении современных писателей к литературному наследию, сущности постмодернистской игры (ее возможной бессмысленности, безнравственности и др.). Нам же представляется, что целью автора было отнюдь не пародирование, а испытание действенности поэтики Чехова, как говорится, в чистом виде, то есть историософский, идеологический контекст, в отличие от всех выше проанализированных пьес, в данном случае исключается, в поле зрения писателя оказывается лишь то, как сделано произведение Чехова и как можно продлить, модифицировать открытия классика сейчас. С этой целью Акунин избирает форму продолжения-интерпретации, максимально остраняющую классический текст.
Проследим, что именно переосмысливается в чеховской поэтике и каковы механизмы этого процесса.
Во-первых, рефлексии подвергается такая черта текстов классика, как жанровый синтез. Эту особенность используют все современные драматурги. Если А. Слаповский, В.Забалуев, А. Зензинов соединили черты трагедии, комедии, водевиля, фарса, драмы абсурда, комедии дель арте и др., то Акунин к этому жанровому синтезу добавил еще и детективное начало.
Во-вторых, обыгрывается встречающаяся в произведениях Чехова дубликация, кружение и повторяемость событий (она, как показывают исследователи, создает ритм произведения [Храмова 2010], порой связана с моделированием комического эффекта или идеи детерминированности существования, невозможности вырваться из круга гнетущей повседневности). Если в чеховской «Чайке» Треплев один раз неудачно покушается на собственную жизнь, а второй раз возвращается к этому же решению и убивает себя, то в пьесе Акунина добавляется новый сюжетный круг. Объявляется неудавшейся и вторая попытка, зато открывается возможность третьей, но она уже становится убийством. Вспомним, в классической пьесе никто серьезно не озаботился причинами первого покушения Треплева на свою жизнь (Тригорин называет такое поведение «бестактным», ревнивая Аркадина слишком спешит увезти Тригорина и покинуть некомфортное место, чтобы разобраться в трагедии сына: «Вот уеду, так и не буду знать, отчего стрелялся Константин» [Чехов 1956: 258]). В драме Акунина именно «разбирательство» становится пружиной действия. Это внешнее действие позволяет раскрыть многое из того, что скрывалось у Чехова в подтексте, таким образом, остранив и этот прием.
Это позволяет, в третьих, пересмотреть сложность чеховских характеров, заключающую возможность различной их интерпретации. При этом Акуниным в качестве эксперимента избираются определенные черты героев, заявленные в классической «Чайке», эти качества гротескно увеличиваются, порой абсурдируются, таким образом выводится на поверхность внутренний конфликт, продолжением которого оказывается конфликт внешний – столкновение с Треплевым и убийство последнего. Так, например, безвольность Тригорина, его зависимость от волевой Аркадиной, мечты вырваться из ее рук и насладиться любовью – все это неожиданным образом и явно провокационно трактуется как скрытая гомосексуальность, влюбленность в Треплева. Вскрывшаяся тайная страсть, безусловно, вызывает ненависть к сыну изначально ревнивой Аркадиной, вскрывает ее внутренний конфликт (стареющей актрисы и женщины, которая воюет за сохранение своих позиций), именно он приводит к убийству сына. Постигший эти внутренние коллизии доктор Дорн раскрывает преступление и вынуждает убийцу признаться и подтвердить свои ранее скрытые мотивы. И так Дорн поступает еще восемь раз (по числу персонажей), а на девятый вынужден под грузом подозрений признаться в собственном преступлении. То есть у каждого из персонажей оказывается скрытая причина, которая подталкивает к убийству Треплева. Знаменательно, что комический эффект как раз и создается подобным узнаванием /не узнаванием зрителем в новых, дописанных, модифицированных характерах привычного – качеств чеховских героев, эффект заключается в обнаружении некой абсурдной логики их превращений.
Это высвечивает еще одну особенность: чеховский скрытый конфликт выводится на поверхность, во внешнее действие, что также остраняет эту особенность поэтики. Модель – обнаружение тайного мотива, скрытого в характере, последующее разоблачение – действует на протяжении всей пьесы, создавая дублирование. Оно же имеет свой вектор – от самого понятного (например, Медведенко убивает из ревности, это бунт униженного и оскорбленного, Маша – в отместку за несчастную любовь, Тригорин – из творческой зависти к молодому, набирающему силу таланту и др.) до наиболее абсурдного обоснования действия (заметим, эта логика наблюдалась и в композиции скетчей в пьесе В. Забалуева и А. Зензинова, в смене «хозяев» в комедии А. Слаповского), что зацикливает, замыкает эксперимент на самого себя. Ведь то, что убийцей может быть даже доктор Дорн (защитник прав животных, мстящий Треплеву за погубленную чайку и сотню таких же жертв) полностью абсурдизирует ситуацию и содержит, как и в пьесе В.Забалуева и А. Зензинова, элементы самопародии, поскольку Дорн ассоциируется с излюбленным серийным героем Акунина Фандориным по звучанию имени, следовательским функциям, детективному дискурсу.
В заключение скажем, что столь вольное обращение с классикой, вызвавшее протест критики, вряд ли оскорбило бы самого Чехова, понимавшего правила подобной «игры». Так, например, мысль о естественности диалога с классикой, оспаривания и переосмысления классического багажа звучала в письмах в период работы над «Степью»: Чехов, шутя, полагал, что Гоголь «на том свете рассердится» (цит. по: [Полоцкая 2000: 434]), но все же предложил альтернативную трактовку темы и средств ее решения. Б. Акунин переводит подобный диалог в план продуктивной соревновательности с классикой, и это состязание предусматривает авангардистского низвержения или постмодернистского нивелирования. «Нет никакого смысла писать так, как уже писали раньше, – если только не можешь сделать то же самое лучше. Писатель должен писать так, как раньше не писали, а если играешь с великими покойниками на их собственном поле, то изволь переиграть их. Единственно возможный способ для писателя понять, чего он стоит, – это состязаться с покойниками. Большинство ныне живущих романистов этого не могут, а значит, их просто не существует. Серьезный писатель обязан тягаться с теми из мертвецов, кто, по его мнению, действительно велик. Нужно быть стайером, который стремится не обогнать прочих участников нынешнего забега, а поставить абсолютный рекорд: бежать не впереди других бегущих, а под секундомер» [Чхартишвили 1998]. Итак, именно классика выступает критерием качества и вечным актуальным вызовом потомкам.
Выводы. Исследование показало, что отношения с классикой строятся не как прямое наследование или отрицание, а как диалог. Он ( в отличие от прямого травестирования, постмодернистской деконструкции и переделки-римейка) отражает стремление осмыслить культурные корни и одновременно осознать собственную специфику. Пьесы являются результатом авторецепции современной литературой качественного сдвига в развитии, формирования новой художественной парадигмы. Об осознанности такой авторецепции, намеренном избрании ее формы свидетельствует, в частности, введение в текст адресата диалога – мифологизированной фигуры Чехова (пьесы Е.Греминой, В. Забалуева, А. Зензинова), других классиков (Ярослава Гашека в «Созрели вишни в саду у дяди Вани»), а также второй стороны, что выражается в автопародиях (министр Зензинов и сектч «Брехт» в пьесе В.Забалуева, А. Зензинова, доктор Дорн, ассоциирующийся с Фандориным в «Чайке» Акунина, рассуждения героев о возможных интерпретациях и режиссировании «Вишневого сада» в пьесе А. Слаповского), взглядом со стороны на собственную рецепцию становится также прием «театра в театре».
Диалог с классикой протекает в дискурсе глобального пересмотра традиционных идейных и художественных ориентиров, но отнюдь не их опровержения. Поэтому центральным принципом подхода к чеховским текстам становится остранение. Объектом остранения является не одно произведение, а сразу несколько, зачастую в синтезе с текстами других классиков (Достоевского в пьесе Е. Греминой, Вампилова в драме А. Слаповского). Это свидетельствует о том, что пересмотру подвергается «весь Чехов» – комплекс идей и художественная система. Скорее всего, гениальный писатель выступает репрезентантом классики в целом.
В пьесах современные авторы сопоставляют свой собственный опыт переживания слома эпох с чеховским, дополняют с позиций конца ХХ века концепцию судьбы России, предложенную классиком. Пересматривается и художественный арсенал средств чеховской драмы. Обыгрывается, порой от противного, подтекст, доминирование внутреннего конфликта (в драмах 2000-х гг. он выводится на поверхность или синхронизируется с динамичным внешним действием), многогеройность, типы героев, символизация. Драматурги создают ситуацию эстетического эксперимента, в которой исследуются в игровом ключе и с элементами деконструкции чеховские характеры. Основными приемами при этом становятся: синтезирование черт различных персонажей произведений А.П. Чехова, высвечивание одного доминирующего качества и доведение его до крайности, обнаружение в сложных характерах установок различных традиций, а также исходных точек для будущих экспериментов (театра абсурда, авангардных течений, постмодернизма и др.), дописывание характеров в парадоксальном ключе. Доминирующими приемами являются: мифологизация, ориентация на широчайший интертекст, включающий другие виды искусства (народные песни, городской фольклор, спародированные бардовские песни, баллады, постмодернистский перфоманс и др.), общая театрализация, принцип двойной сцены. Семантика чеховских символов и мотивов существенно модифицируется. Формами диалога становятся попытки дофантазировать сюжеты классических пьес, дописать их продолжение, соотнести с современностью. Названные особенности содействуют формированию новой картины мира и концепции человека, художественного языка, характерного для переходного периода рубежа XX–XXI веков.
Литература
Берг М. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. – М.: Новое литературное обозрение, 2000. – 352 с.
Гончарова-Грабовская С.Я. Комедия в русской драматургии конца ХХ – начала XXI века. Учебное пособие. М.: Флинта-Наука, 2006. – 280 с.
Гончарова-Грабовская С.Я. Поэтика современной русской драмы (конец ХХ – начало XXI века. Учебное пособие. – Минск: БГУ, 2003
Гремина Е. Сахалинская жена // Новая драма: [пьесы и статьи] / [Вступ. ст. Е. Ковальской]. – СПб.: Амфора, 2008. – С. 121–170.
Громова М.И. Русская драматургия конца ХХ – начала XXI века: Учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 368 с.
Забалуев В., Зензинов А. Поспели вишни в саду у дяди Вани.
Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. – Л.:Наука, 1984. – 205 с.
Пахсарьян Н.Т. Современный французский роман на путях преодоления эстетического кризиса // Постмодернизм: что же дальше? ( Художественная литература на рубеже XX – XXI вв.): Сб. науч. тр. / РАН ИНИОН. Центр гуманит. Науч.-информ. исслед. отд. литературоведения. – М., 2006. – С. 8–43.
Полоцкая Э.А. Антон Чехов // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов) / ИМЛИ РАН. – Кн. 1. М.: Наследие, 2000. – С. 390–456.
Слаповский А. Мой вишневый садик.
Храмова С.І. Принципи та прийоми поетизації прози А.П. Чехова. Доповідь на Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених «Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура». 14 квітня 2010 року. Київ.
Чехов А.П. Чайка // Чехов А.П. Собр. соч.: В 12 т. – Т. 9. – Пьесы 1886–1904. – М.: ГИХЛ, 1956.
Чхартишвили Г. Девальвация вымысла: почему никто не хочет читать романы // Литературная газета. – 1998. – № 39.