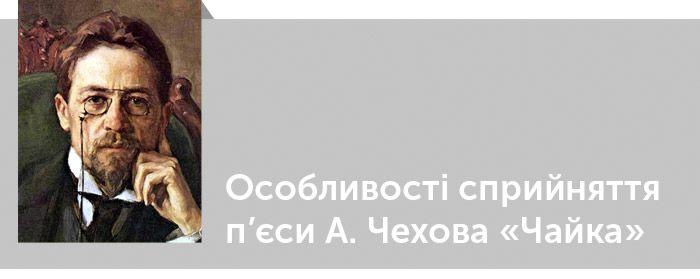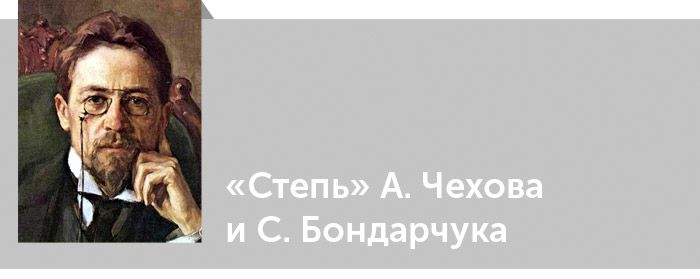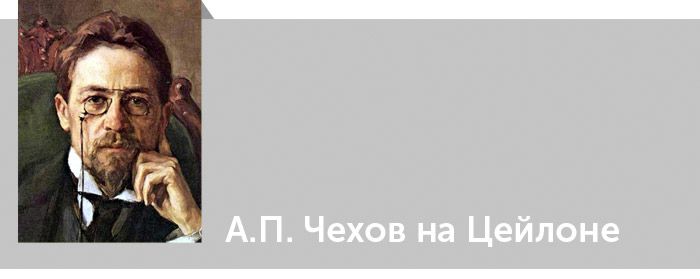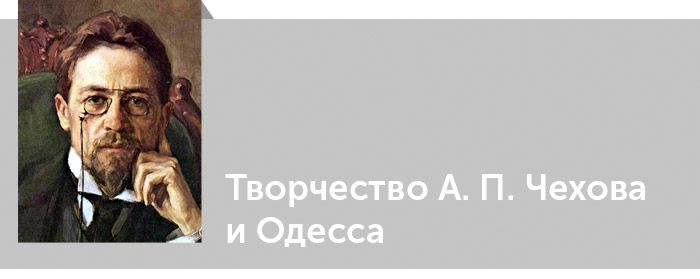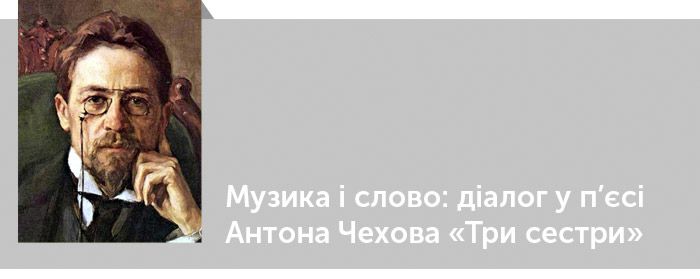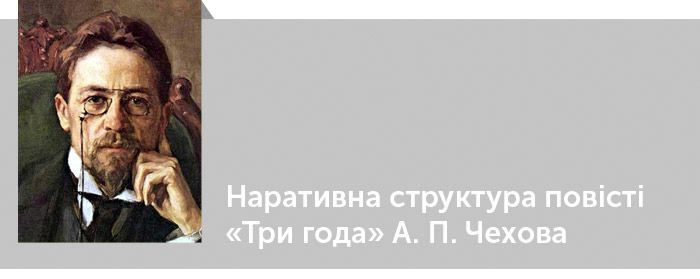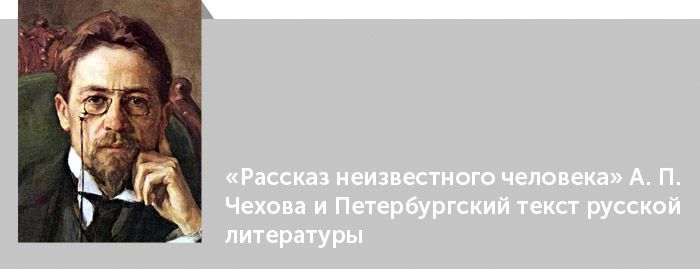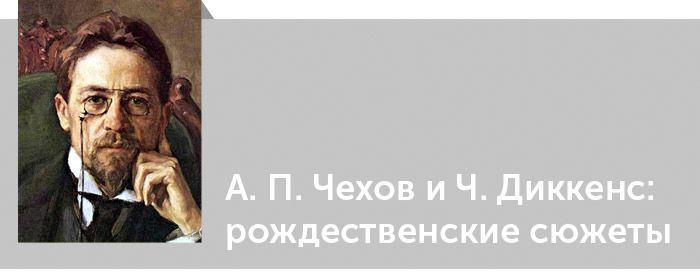Драматургия А.П. Чехова между «Двух стихий» русского символизма
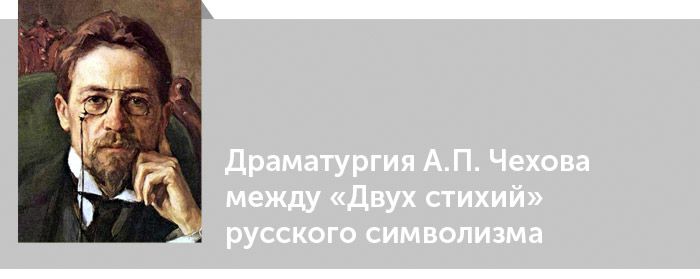
Борисова Л.М.
Ставшее в конце 900-х годов программным положение о том, что "истинный символизм совпадает с истинным реализмом"1, первым сформулировал Андрей Белый в связи с творчеством Чехова. Но "реалистический", религиозный символизм противопоставлял себя символизму "идеалистическому", импрессионистскому, а в поэтике Чехова уже первые его критики различали ярко выраженные импрессионистические черты2. Позже соответствующая точка зрения была обоснована Д.Чижевским3, приобрела немало сторонников и как вполне устоявшаяся вошла в энциклопедии и словари4. Правда, до недавнего времени исследователи в этом случае считали нужным добавлять, что импрессионистический стиль не исключает у Чехова принципов реализма. Однако в такой оговорке по сути нет необходимости, поскольку импрессионизм зародился из стремления "к предельно точному воспроизведению реальности», «новаторство ранних импрессионистов служило решению прежней эстетической задачи - задачи реализма: давать предельно достоверную картину мира"5. Верность натуре - та точка, в которой сходятся устремления реализма, "реалистического символизма", импрессионизма, это то, что сближает Чехова с символистами. Но что общего у импрессиониста Чехова с импрессионизмом "парнасцев" и как чеховский импрессионизм относится к "стихии" религиозного символизма?
В своей полемике с Вячеславом Ивановым и Александром Блоком, вспыхнувшей в период кризиса символизма и носившей не столько принципиальный, сколько эмоционально-личный характер, Белый противопоставлял им Чехова, считая задачу соединения реализма с символизмом решенной в его драмах. Автор "Арабесок" высмеивал манеру "мистических реалистов" описывать потустороннее в "терминах окружающей действительности" и одновременно находил у Чехова все то, что Ивановым квалифицировалось как "верность вещам". Воспроизводя действительность, Чехов, писал Белый, идет "извне", но в мелочах, которые он живописует, угадывается "шифр" иной реальности. В "Двух стихиях в современном символизме" именно к такому познанию символа призывал Иванов.
Для него Чехов не значил так много, как для Белого и Блока. В значительной мере это объясняется разным отношением теургов к импрессионизму - непримиримым у Иванова и гораздо более терпимым у Белого (Блок оставался в стороне от таких споров). "...Идеалистический символизм посвятил себя изучению и изображению субъективных душевных переживаний, не заботясь о том, что лежит в сфере объективной и трансцендентной для индивидуального переживания; ...он устремлен на сохранение души своей в смысле ее утончения и обогащения... Идеалистический символизм есть интимное искусство утонченных..."6, - писал Иванов. "Действительность стала прозрачней вследствие нервной утонченности лучших из нас"7, - утверждал Белый. "Прозрачность", то есть способность художника высветить "реальнейшее" в "реальном" - по Иванову, самое главное в искусстве. Но все это - "опрозрачненный реализм", "сквозные" образы, способность "смотреть сквозь" и т.д. – Белый находил у Чехова.
По мнению Иванова, для импрессионистов "все феноменальное - марево Майи". Их пафос - будем "рассматривать дивные узоры покрывала... это покрывало ткем мы сами"8. Белый же уверен: "узоры" не плод субъективной фантазии, а реальность, по крайней мере у Чехова они "не двухмерны, а трехмерны" и "убегают в пространство неизвестности"9.
В представлении Белого импрессионизм не антипод искусства-культа, а одна из его характеристик: "Идеалистический и реалистический символизм в искусстве отсутствуют в чистом виде"10. В художественной практике Белого импрессионистический момент был очень сильным. На заре своей творческой деятельности он так определил задачу "2-й симфонии": она "состоит в выражении ряда настроений, связанных друг с другом основным настроением (настроенностью, ладом)"11. И все последующее творчество Белого развивалось в этом русле. Эстетика Иванова, наоборот, несовместима с "настроенчеством". "...Уверенно и тихо, без малейшей полемики, он с начала и до конца игнорировал ту атмосферу, в которой позитивистская проза взгляда на жизнь и нервная, "настроенческая", непременно меланхолическая музыка эмоций дополняли друг друга"12, - пишет С.С.Аверинцев.
Тем не менее в "Предчувствиях и предвестиях" Иванов не обошел вниманием массовую реалистическую драматургию, в значительной мере "настроенческую", расценив ее как последний шаг на пути обращения драмы в мистерию: "...динамическое начало... здесь утверждается вполне"13. Имя Чехова в этой статье не упоминается, но символисты обычно рассматривали его творчество неотрывно от текущего репертуара. Так писали о Чехове и Брюсов, и Гиппиус, и в какой-то мере Блок: «…последователи (Чехова – Л.Б.) ничего сделать по-чеховски не умеют"; ни Горький, ни кто другой из реалистов не умеет прежде всего "обойтись без "героя", как обходился Чехов"14.
Перечисленные в "Предчувствиях и предвестиях" признаки "пьес жизни" - те самые, которые считал характерными для чеховского театра Блок: драмы без "героя", "развязки" и т.д. Правда, особенностью этих произведений Иванов считал внимание к вопросам, подлежащим обсуждению "на митинге общественного мнения", что как будто не имеет отношения к Чехову. Но с символистской точки зрения, в "Вишневом саде" "есть <...> мелкая <...> общ<ественная> идея: дворянское оскудение"15.
В "Эстетической норме театра" у Иванова чеховская драма граничит уже непосредственно с Дионисовым действом: "... единодушное настроение сливает зрителей в некое однородное душевное тело"16. Так же, как Брюсов, Блок и Белый, Иванов не отделяет драм Чехова от их мхатовских постановок, а успех МХТ объясняет "крепким миметизмом". Определяет и природу этого миметизма - натурализм. Тут же он противопоставляет мистерию мхатовско-чеховскому стилю, каким он нередко представлялся неглубоким интерпретаторам: "…отвлеченные схемы и неопределенные призраки шелестят и вздыхают и носятся, как осенние листья, повинуясь дыханию неведомой воли"17 (ср.: «Над умирающим серым человеком носятся грезы о далеком будущем»18) - такая подмена героического действия страдательно-лирическим переживанием, пишет Иванов, неизбежно влечет за собой исчезновение хорового начала в драме.
В драмах Чехова Иванов отмечает слабость "личного почина" и скудость действия. И то, и другое, согласно его теории, признаки действа, но в пьесах Чехова все это внушает ему подозрение: "...не отсутствует ли в них и сплоченный коллектив, не распылено ли в них само общественное бытие до невозможности сценического воспроизведения бессвязных осколков распадающейся жизни"19. И чем дальше развивает Иванов свою мысль, тем меньше остается в его образе Чехова от предшественника мистерии: только "косвенный, слабый, зимний луч от солнца Мельпомены скользнул по толпе", разрешена только "некоторая незначительная часть" задачи. Между тем само по себе "слияние" еще не показатель обращения драмы в мистерию. Импрессионизм, культивирующий впечатлительность, оперирующий символом как образом, - искусство, для которого тоже характерно стремление "установить общение разделенных индивидуальных сознаний".
Разница между двумя символистскими течениями, по ивановской теории, в том, что теурги познают высшую реальность, а импрессионисты посвятили себя "изучению и изображению субъективных душевных переживаний", обращают характер "в сплошную зыбь противочувствий и смену аффектов"20. В этой критике импрессионизма привлекает к себе внимание тот позитивный смысл, который Иванов вкладывает в понятие "характер". В статье "Новые маски" он относил его к числу отживших, противопоставлял характеру принцип "опрозрачненной маски", позволяющий сделать зримой "духовную, безликую личину".
"Зыбь противочувствий", безусловно, - яркая особенность драматургического стиля Чехова: "В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать" - "...Не могу я работать, не стану работать" - "Надо работать, только работать!"; "С Парижем кончено..." - "...Просит прощения, умоляет вернуться..." - "...Понастоящему мне следовало бы съездить в Париж, побыть возле него" - "Я уезжаю в Париж..."
Однако и в трагедиях самого Иванова Белый усматривал "развоплощение" характера21, в то время как содержание чеховской драмы не исчерпывалось для Белого психологическими нюансами поскольку он считал, что в глубинных "пластах переживаний" противоречие между психологией и мистикой снимается, что из переживания есть выход в потустороннее и Чехов "раздвигает складки жизни" в Вечность. (Белый неоднократно заявлял о том, что мыслить в антропософском духе он начал еще до знакомства с антропософией. "Духовная наука" Штейнера призывает человека открыть в самом себе мировую гармонию, из чеховских статей Белого видно, какой сильный антропософский импульс задолго до встречи со Штейнером получил он от автора "Чайки").
Наряду с чисто психологическим "действом" в пьесах Чехова есть и чистое бездействие, которое, как известно, воцаряется именно там (вокруг мотивов Москвы, вишневого сада и т.д.), где прежде обязательно бы возник эпицентр борьбы. Персонажи "новой драмы" не любят прямых вопросов: "Только одно слово!" - "Кто это здесь курит отвратительные сигары..."; "Только одно слово! Дайте же мне ответ!" - "Кого?" - "Вчера было много денег, а сегодня совсем мало..." При этом свою линию бездействия герои Чехова отстаивают с твердостью прота- и антагонистов классической драмы, демонстрируя при этом уже не "зыбь настроений", но вполне определенные "духовные личины".
Яркий пример действия, не выявленного вовне, – отношения Лопахина с Варей: "Она вас любит, вам она по душе, и не знаю, ...почему это вы точно сторонитесь друг друга. Не понимаю!" - "Я сам тоже не понимаю, признаться. Как-то странно все...". По словам Белого, только символизм способен запечатлеть те переживания, которым не находится "соотносительной формы выражения в видимости"22. Чехов тут и впрямь "неожиданно нападает на символы": "Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни"23. "Он (Чехов – Л.Б.), – пишет Белый, – едва ли подозревает о них (символах – Л.Б.). Он в них ничего не вкладывает преднамеренного, ибо вряд ли у него есть мистический опыт"24. Но железная закономерность, с которой реальность всякий раз сокрушает устремления чеховских героев, позволяет безошибочно распознать здесь действие не "слишком человеческое".
Чеховское "Люди обедают..." при всей своей оригинальности не противоречит древнейшим представлениям о драме как искусстве изображать переходы от несчастья к счастью и наоборот. "Новая драма" далеко не полностью опровергла аристотелевский канон. Согласно этому канону, "без действия трагедия невозможна, а без характеров возможна"25. Таким образом, в чеховской "бесхарактерности" нет ничего революционного для драмы, она изначально предустановлена здесь. Драмы не может быть без "преступления" (борьбы), "перипетий", "узнавания", "пафоса", "страха", "очищения", но это не просто слагаемые, это еще и последовательность развития действия в аристотелевской схеме26. Трагический миф А.Ф.Лосев определяет как "идеальную структуру жизни", которой подражает драма.
В пьесах Чехова нет только "преступления", толчка к действию, они начинаются прямо с попыток "узнавания", а все остальные моменты классической драмы различаются в них вполне отчетливо. Герои то и дело оглядываются на прошлое, стараются посмотреть на настоящее из будущего, думают о грехах, страшатся и ждут возмездия. Но они не борцы с роком, не носители самоубийственной "любви к року", подобно теургам. "...Я знаю, что потерять художника значит возвратить художника, но... решительно неспособен дерзко глядеть в глаза рока"27, - писал Чехов в период смертельной болезни брата. Своим корреспондентам он советовал примириться с судьбой: "...после лета должна быть зима, после молодости старость, за счастьем несчастье и наоборот; человек… не может уберечься от смерти, хотя бы был Александром Македонским, - и надо быть ко всему готовым и ко всему относиться как к неизбежно необходимому.... Надо только, по мере сил, исполнять свой долг и больше ничего"28.
«…Умей нести свой крест и веруй»; «…Будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба…»; «…Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания… а пока надо жить…» – в таких прозрениях катарсис чеховской драмы, в котором отказывал ей Иванов и который сближает пьесы Чехова с символистским идеалом драмы.
Правда, иногда и чеховские герои не могут совладать со "стихией": "Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу"; "Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые прислала … ярославская бабушка на покупку имения - да здравствует бабушка! – а денег этих хватит ненадолго".
Однако, по символистским меркам, это слишком приземленная "любовь к року". И к року ли? "Треплев. ... Жизнь для меня невыносима..."; "Войницкий. Пропала жизнь!"; "Маша. ... Люблю - такая, значит, судьба моя. Значит, доля моя такая..."; "Ирина. ...Значит, судьба. Ничего не поделаешь... Все в божьей воле, это правда"; "Вершинин. ... Жизнь тяжела..."; "Ольга. ... Все делается не по-нашему..."; "Варя. ... Ничего у нас не выйдет".
В приподнятом стиле, кроме простодушного Вафли ("Фатальное предопределение"), у Чехова говорят о судьбе только юная Нина Заречная и малоопытный Тузенбах: "Жребий брошен". Да и то у Телегина "фатальное" соседствует с привычным: "Не судьба", а Чайка и Тузенбах, вступив в полосу настоящих испытаний, начинают изъясняться иначе: "Нина. ... Когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни"; "Тузенбах. ...
Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь!"
В сознании чеховских героев нет понятия рока, им как будто нечего бояться. "Какие у вас грехи?" - разубеждает Дорн Сорина, Лопахин - Раневскую и Гаева. В прошлом героев не разглядеть "преступления": "Вы двадцать пять лет прослужили по судебному ведомству - только всего"; "Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах..." Но идея рока определяет структуру классической драмы и поведение трагического героя, вот почему волнуется, не находит себе места Раневская. Она, безусловно, чуткий медиум: "Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом"; "Сегодня судьба моя решается"; "Здесь мне шумно, дрожит душа от каждого звука, я вся дрожу, а уйти к себе не могу, мне одной в тишине страшно".
Они "что-то знают, но не умеют ... привести к сознанию свое знание"29, - пишет о чеховских героях Белый. Для него драматургический канон - нечто большее, чем свод художественных правил, теурги жизнь подчиняли законам искусства. Поэтому Белый не устоял перед искушением ликвидировать структурно-смысловое противоречие чеховской драмы: в статье о "Вишневом саде" он как бы подталкивает "чеховцев" к открытию того, что, по его мнению, очевидно: "Здесь - ужас", "воплощения рокового хаоса"30.
В отличие от Белого, Иванов был свободен от преобразовательных намерений в отношении Чехова. Посвятивший в "Эстетической норме театра" несколько строк чеховской драме, он успел разглядеть в ней и скрытую "идеалистическую" тенденцию, и реализованное МХТ натуралистическое начало. В "Двух стихиях" определены признаки "идеалистического символизма", и почти все их можно обнаружить в чеховской драме. Сущность импрессионизма - в ассоциативности, апперцептивности, в том, чтобы заразить публику определенным переживанием, в создании иллюзии. Но еще раньше, чем Иванов напомнил об этом в своей статье, Белый обнаружил соответствующую способность у Чехова. "Идеалистическое" искусство" - это свободное творчество, не притязающее на создание всенародного мифа. К свободному искусству, как известно, более всего стремился Чехов, и символ у него был именно особого рода образом. Для импрессионизма, далее, характерен "культ мимолетного". "Мимолетное" - враг "будущего" («будущее» у теургов - синоним вечности). "Жизнь - значит, быть в мгновениях, отдаваться им... Будущего, быть может, не будет вовсе"31, - отдаляясь от теургов, писал Брюсов.
Чехов-драматург умеет остановить мгновенье, вглядеться, вслушаться, вчувствоваться в него:
"Аркадина. ... Слышите, господа, поют? (Прислушивается.) Как хорошо!
Полина Андреевна. Это на том берегу.
Пауза";
"Шамраев. ... браво, Сильва... Театр так и замер.
Пауза.
Дорн. Тихий ангел пролетел"; "Пауза. Слышны бубенчики.
Марина. Уехал.
Пауза.
Соня (возвращается, ставит свечу на стол). Уехал...";
"В глубине сцены проходит Епиходов и играет на гитаре.
Любовь Андреевна. ... (Задумчиво.) Епиходов идет...
Аня (задумчиво). Епиходов идет...
Гаев. Солнце село, господа.
Трофимов. Да";
"Аня (задумчиво). Восходит луна.
Слышно, как Епиходов играет на гитаре все ту же грустную песню. Восходит луна. ... Трофимов. Да, восходит луна.
Пауза".
Эту способность разъять поток времени на "атомы" символистские эксперты Гиппиус, Белый считали самой примечательной особенностью Чехова-драматурга. Собственно, Чехова отличает от ивановского художника-идеалиста только одно: он не посягает на пересоздание "вещей". Но Белому удается поколебать и это привычное представление о Чехове-реалисте: "...сначала он разлагает действительность на отдельные атомы, потом совершает незаметную перегруппировку этих атомов и складывает из них образ, неотличимый от образа действительности, но говорящий нам о чем-то ином..."32
Если Иванов выделил в символизме две творческие системы, "реалистическую" и "идеалистическую", то Белый в "идеалистической" различил "две стихии", связав их с именами Чехова и Брюсова. Мир Брюсова - "это мир двух действительностей, из них видимость - только арка, под которой мы проходим в неизвестность". Не считая возможным объясняться на языке тайны, Брюсов опускает на нее "завесы условных знаков" и делает открытие: "условные знаки совпадают с окружающей действительностью". Чехов не видит тайны, однако не исключает того, что узоры на стенах его "тюрьмы", быть может, "не двухмерны, а трехмерны"33. Рассуждая о Чехове, Белый осторожно высказывал Брюсову очередные похвалы в "провиденциальности", от которых поэт считал нужным защищаться.
В отношении к "тайне" Брюсов начал расходиться с теургами еще тогда, когда оперировал этим понятием. "...Искусство есть постижение мира иными, не рассудочными путями"34, - писал он в статье "Ключи тайн". "Мифотворчество само налагает свою истину; соответствия же ее объективной сущности вещей вовсе не испытует"35, - возражал ему Иванов в письме от 3 марта (19 февраля) 1904 года. Эту разницу Иванов считал "внутренней и существенной". Впоследствии она стала еще глубже, хотя позиции обеих сторон в корне изменились: теурги выдвинули принцип "верность вещам", Брюсов - тезис о свободе искусства от всякой, в том числе "провиденциальной" тенденции. О "Ключах тайн" он писал в 1910 году С.А. Венгерову: "... давно я с этой статьей не согласен" 36.
Культ свободного творчества сближает Брюсова с Чеховым. "Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником..."37, - писал Чехов в известном письме к Плещееву. "Было бы неверно видеть во мне защитника каких-то обособленных взглядов на поэзию. Я равно люблю и верные отражения зримой природы у Пушкина или Майкова, и порывания выразить сверхчувственное, сверхземное у Тютчева или Фета, и мыслительные раздумья Баратынского, и страстные речи гражданского поэта, скажем, Некрасова... Я полагаю, что задача "нового искусства"... - даровать творчеству полную свободу"38, - заявлял Брюсов в предисловии к книге "Tertia Vigilia".
Оба не любили рассуждать о «реальнейшем»: "Мне кажется, что не беллетристы должны решать такие вопросы, как бог, пессимизм и т.п."39 ; "... настаивать, чтобы все поэты были непременно теургами, столь же нелепо, как настаивать, чтобы они все были членами Государственной Думы"40. И драматургию Чехова Брюсов оценивал с позиций "нового искусства" как искусства.
Фактически, как и Гиппиус, он выводил ее за границы "истинного творчества", считал, что Чехов преследует одну цель - уподобить свои пьесы жизни, а таким произведениям Брюсов отказывал в художественности. Исследователи обращают внимание на неокончательность брюсовских выводов: "... впав в противоречия, он отбросил рукопись (имеются в виду наброски статьи о "Вишневом саде" - Л.Б.) в сторону и больше к ней не возвращался. И - воздадим ему должное - Брюсов дал место на страницах своего журнала "Весы" статье Андрея Белого, хотя вряд ли разделял его оценку Чехова"41.
Осмелимся предположить, что в свою очередь Белый и в 1904, и в 1907 году писал о Чехове не без тайного умысла изменить отношение к нему Брюсова. Белый не столько обосновывает, сколько внушает свой взгляд на Чехова и при этом часто прибегает к брюсовским выражениям. "Мир - голубая тюрьма", "искусство - двери, отворенные в Вечность", "кора явлений" - как ни типична для символистов эта фразеология, все же в первую очередь они обязаны ей Брюсову. "...Мы не замкнуты безнадежно в этой "голубой тюрьме"... "42; "Когда страсть владеет нами, мы близко от тех вечных граней, которыми обойдена наша "голубая тюрьма"... Страсть - та точка, где земной мир прикасается к иным бытиям, всегда закрытая, но дверь в них"43. Так представляя "выход из граней", Брюсов почти разделял одно время позицию Иванова, а тот находил его мысль "важной и верной"44. Как бы продолжая ее, Белый пишет: Чехов не знает выхода из "тюрьмы", но если переживание - "единственная реальность", значит, стены ее "прозрачны" и где-то есть выход.
"Новое искусство", по характеристике Брюсова, дает прежде всего ощущение мгновения - драмы Чехова, убежден Белый, и есть "лабиринты мгновений". "Символист старается мелодией стиха вызвать определенное настроение в читателе..."45, - пишет Брюсов - "Диалог "Трех сестер" и "Вишневого сада" - да это музыка!"46 - восклицает Белый. Так же, как Иванов и Белый, Брюсов считает символизм естественным продолжением реализма, но в одном видит между ними разницу: реалисты искали жизнь вне себя, "мы обращаем взгляд внутрь"47 - чеховский реализм символичен, настаивает Белый, "его герои очерчены внешними штрихами, а мы постигаем их изнутри"48. И, наконец, замечание об условности чеховской драмы не что иное, как ответ Белого на призыв Брюсова: "От ненужной правды современных сцен я зову к сознательной условности античного театра"49. В своей интерпретации "Вишневого сада" Белый изгоняет из драмы "ненужную правду": "... вот почтовый чиновник вальсирует с девочкой - не чучело ли он? Может быть, это палка, к которой привязана маска, или вешалка, на которой висит мундир?"50 Но условность - не тема Белого, его тема прямо противоположна этой - упразднение условности, уничтожение искусства, его переход в жизнь. В статье 1907 года Белому приходится одновременно и признавать реалистичность чеховской формы, и, защищая Чехова от Брюсова, стоять на своем: "Она - условна".
Для теургов самое важное качество образа - "прозрачность". В глазах Брюсова это не всегда достоинство: "Мы так жаждем "прозрачности", что видим только одни ослепительные лучи потустороннего света, и внешние предметы, как стекло, пронизанные ими, словно уже не существуют"51. "Ах, не презирайте внешнего"52, - обращался он к Белому. Одновременно Брюсова отталкивала излишняя "верность вещам", о чем свидетельствует его критика "Вишневого сада".
Чехов тоже не доверял бесплотной идее. Как известно, он не признавал драматургом Ибсена, потому что не находил в его пьесах "пошлости"53, и хвалил тех авторов, у которых ей "удается пробиться на свет сквозь изречения и великие истины"54. И так же, как Брюсова, Чехова раздражал театральный натурализм. Мейерхольд вспоминал его реакцию на лягушек и сверчков Художественного театра: "Зачем это? недовольным голосом спрашивает Антон Павлович", "... сцена, говорит А.П., - требует известной условности"55.
Но, конечно, чеховская условность иная, чем условность античного театра, к которой тяготел Брюсов. "В античном театре была лишь одна постоянная декорация - дворец. При самых незначительных изменениях она изображала внутренность дома, площадь, берег моря. Актеры надевали маски и котурны, что сразу заставляло их отказаться от желания подделаться под обыкновенную жизнь людей"56. Чехов видел свою задачу в том, чтобы изображать жизнь "ровную, гладкую, обыкновенную"57. Самая привычная декорация в таком театре - усадьба, а здесь, и в жизни, и на сцене, был свой шаблон. "...Не говоря уж о соловьях, которые поют день и ночь, о лае собак, который слышится издали, о старых запущенных садах, о забитых наглухо, очень поэтичных и грустных усадьбах, …недалеко от меня имеется даже такой заезженный шаблон, как водяная мельница..."58 - описывал Чехов имение Линтваревых под Сумами.
В своих драмах он создает тот образ усадьбы, который, по его собственным словам, "теперь так устарел и бракуется в редакциях". И звуковые эффекты в спектаклях Художественного театра, безусловно, подсказаны режиссерам самим автором: "Слышно, как шумят деревья и воет ветер в трубах"; "Слышно, как в саду стучит сторож"; "Окно хлопает от ветра"; "Далеко за садом пастух играет на свирели".
Но, по-видимому, в театральной интерпретации эти детали привлекали к себе больше внимания, чем предполагал Чехов. "В III акте шум... Почему шум? - недоумевал он в письме к О.Л.Книппер от 20 января (2 февраля) 1901 года в период постановки "Трех сестер". - Шум только вдали, за сценой, глухой шум, смутный, а здесь, на сцене, все утомлены, почти спят..."59
Чеховский сверчок настолько не нарушает общего тона, что упоминается в реплике, а не в ремарке: "Астров. Тишина. Перья скрипят, сверчок кричит". Порой характерный усадебный звук дается и вовсе в рассказе: "...Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно" - "...Трезор еще не привык к вам и будет лаять".
Такого рода импрессионизма нет у идеалистических символистов Бальмонта, Брюсова, но он свойственен теургам. Белый в "симфониях", Блок в "Незнакомке" вглядываются в мир "реальнейший" сквозь "пошлость" жизни. Гаммы, которые несутся с небесного свода во "2-й симфонии" ("В небе играли вечные упражнения..."), - это музыка времени, "вечного возвращения". Крики газетчиков в "Песне Судьбы" для Блока тоже "музыкальная гамма". Такая же олицетворенная скука - наташина "Молитва девы" в "Трех сестрах". Разница тут только в том, что Чехов следует принципу "верности вещам", "каковы они суть в явлении", не задаваясь вопросом об их "реальнейшей" сути.
В статьях о Чехове Белый и в 1904, и в 1907 году описывает свой собственный творческий метод, и прежде всего метод "симфоний". Связь с чеховской драмой особенно сильна во "2-й, драматической", все три ее "смысла": музыкальный, сатирический, идейно-символический – имеют соответствия в художественном мире Чехова. При этом все, что у Чехова дано в полутонах, до крайности заострено, возведено в степень Белым. Музыкальность Белого доходит до "композиторских" изысков, до эксперимента. Сатирическое в "симфонии" сродни не только романтической иронии, но и чеховскому пониманию комического как остраняющего начала. ("...Странные, чудные штуки..."60 – восхищался Чехов пьесами Метерлинка. "Я обязательно напишу чтонибудь странное"61, обещал он, приступая к работе над "Чайкой"). Символическое измерение у Белого - это и нечто, возникающее как результат совмещения "в одном отрывке или стихе всех трех сторон", и некий отдельный третий "смысл". Но именно из-за такой художественно-философской дифференциации три плана не могут до конца слиться в "симфонии". В драматургии Чехова они всегда существуют в органическом единстве, преобразуясь в подтекст.
Белого особенно восхищает способность Чехова любое, даже самое простое явление разъять на элементы, "отдельные клеточки", в результате "клеточка сама превращается в тайну; и дерево уж не дерево, а совокупность многообразных тайн"62. Эффект внутреннего действия в драмах Чехова в значительной мере обусловлен параллельным развитием целого ряда действий. Этот параллелизм фиксирует чеховский "случайный" диалог:
"Родэ (громко). Поздравляю, желаю всего, всего! Погода сегодня очаровательная, одно великолепие. Сегодня все утро гулял с гимназистами. Я преподаю в гимназии гимнастику...
Федотик. Можете двигаться, Ирина Сергеевна, можете! (Снимая фотографию). Вы сегодня интересны.
(Вынимает из кармана волчок). Вот, между прочим, волчок… Удивительный звук… Маша. У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том... Златая цепь на дубе том... Кулыгин. Тринадцать за столом!"
Каждый "срез" жизни обнаруживает у Чехова далеко простирающуюся, всеохватную, но при этом чисто временную связь явлений. Она неисчерпаема и явно не укладывается в рамки сюжета, в чеховских финалах принцип сложения действий проявляется особенно наглядно. В "Дяде Ване", например, Войницкий плачет; Соня говорит про "небо в алмазах"; стучит сторож; "Телегин тихо наигрывает; Мария Васильевна пишет на полях брошюры; Марина вяжет чулок". В "Трех сестрах" замолкает, удаляясь, полковая музыка; довольный Кулыгин выносит из дома шляпу и тальму Маши; Андрей катит в коляске Бобика; Чебутыкин читает газету, напевает "Тара.. ра... бумбия..."; "Если бы знать, если бы знать!" - восклицает Ольга. Менее детализирован, но не менее выразителен в этом плане финал "Вишневого сада": по-стариковски что-то бормочет, устраивается на диване и замолкает Фирс, слышен звук лопнувшей струны и стук топора по дереву.
Подобным же образом развивается действие в "симфонии":
"3. В те дни и часы в присутственных местах составлялись бумаги и отношения, а петух водил кур по мощеному дворику.
4. Были на дворике и две серые цесарки.
5. Талантливый художник на большом полотне изобразил "чудо", а в мясной лавке висело двадцать ободранных туш.
6. И все это знали, и все это скрывали, боясь обратить глаза свои к скуке.
7. А она стояла у каждого за плечами невидимым, туманным очертанием.
8. Хотя поливальщики утешали всех и каждого, разводя грязь, а на бульваре дети катали обручи"63.
Символизм и реализм сходно ощущают течение времени: "в истинном реализме дезинтеграция времени в ряде отдельно взятых мгновений есть цель..."64. Именно своим чувством времени Чехов (и прежде всего Чехов-драматург) созвучен Белому.
Но, ужасаясь разделяющей силе времени, символисты знают, что ему противостоит "всеединство". И Белый во "2-й, драматической", и Блок в "Незнакомке" прозревают среди своих героев строгую женщину в черном - Вечность. Героям Чехова неведом ужас времени вообще, ими владеет только "пошлый" ужас его быстротечности: "Отец умер год назад... Но вот прошел год..."; "А завтра вечером я уже не буду слышать этой "Молитвы девы", не буду встречаться с Протопоповым..."; "В городе завтра не будет уже ни одного военного, все станет воспоминанием..."; "Через шесть дней я опять в Париже... Даже как-то не верится".
Кроме того, чеховский "случайный" диалог, создающий иллюзию реальной жизни, - сам по себе цель. Беловское "неотобранное" сочетание событий - заведомо разоблаченный прием.
Но никакие различия не отменяют поразительных совпадений с чеховской драмой во 2-й "симфонии" Белого. Не удивительно, что М.С.Соловьев, прослушав ее начало, поставил двух авторов рядом: "Вот это я понимаю: Чехов и вы - современная литература; все остальное пустяки"65. И в данном случае немаловажную роль сыграло время создания произведений: "симфония" появились тогда, когда Чехов своими пьесами, по выражению Белого, "исчерпывал реализм", а сам Белый только готовился подняться на "лестницу восхождений". Задачи, которые решали писатели, были, таким образом, очень близки, Белый сам сознавал их преемственность. В 1911 году, вспоминая период "симфоний", он писал Блоку: "Несколько одиноких путников въехали на холм; и на холме встретились: позади их местность равнинная, прихлопнутая войлоком туч (чеховщины) <...> На холме встретил меня Вл.Соловьев, а потом раздались тревожные, жгуче близкие Твои песни, сливаясь с 2-ой симфонией"66.
Но Чехов углублял не только "наивный реализм". Тот же Белый в своих "весовских" статьях писал о значении его художественных (по Белому, не только художественных) открытий для зрелого символизма. В драматургии символизма об этом ярче всего свидетельствует творческий опыт Блока. "Верность вещам", соблюдение "внутреннего канона" имели здесь следствием произведения столь непохожие на "первые песни", что исследователи не осмеливались подвергнуть сомнению заявления поэта о полном разрыве с символистской теорией, с символизмом-школой. Символы Блока импрессионистичнее, чем у других теургов, в них меньше прямой жизнетворческой идеологии, но их основу составляет тот же комплекс идей жизнетворчества. Этот символистский шифр максимально приближен к естественному языку, но такой свободы в выражении второго плана, как у Чехова, у Блока нет.
В драматургии Блока особенно знаменателен переход от "Песни Судьбы" к "Розе и Кресту". Между ними такая же качественная разница, как между чеховскими "Лешим" и "Дядей Ваней". В "Лешем" "мысли автора в целом "досказаны", в "Дяде Ване" художественный символ уже "реализуется на всех уровнях структуры произведения"67.
В "Песне Судьбы" обращают на себя внимание ремарки, навеянные чеховскими постановками МХТ: "Вдали зажигаются огоньки, слышен собачий лай и ранний редкий птичий свист"; "Заря. Петухи начинают перекличку - все дальше, все дальше". Но "верность вещам" уживается здесь с докризисной символистской манерой. Одно из программных ивановских требований к "современной мистерии" - "опрозрачнить маску героя" - нередко оборачивалось у авторов стремлением в лирических монологах исчерпать характер, и "Песня Судьбы" не свободна от этого недостатка, так же, как и от полуаллегорических образов-намеков. Таков, например, у Блока образ лопнувшей струны. У Чехова таинственное в нем ("звук, точно с неба") неотделимо от правдоподобного (в шахте сорвалась бадья). Правдоподобное толкование есть и у Блока - "точно ворон каркнул", но всего вероятнее, что ненароком оказалась задета одна из тех "повсюду натянутых нитей, которые прядут девы-Судьбы"68. О кризисе символизма Блок писал: "...Революция совершалась не только в этом, но и в иных мирах... Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России"69. Этот второй, космический срыв и запечатлен в пьесе.
В "Розе и Кресте" Блок встает на чеховский путь, с доминирующим здесь принципом "о внутреннем через внешнее", с предпочтением неявных характеристик явным. При этом он настойчиво добивается внимания Станиславского ("...Никому не верю, кроме него одного... Если не хочет сам он, - ... больше никого мне не надо"70), чей метод физических действий и внутреннего переживания сложился в работе над драматургией Чехова. Но, обсуждая с Блоком "Розу и Крест", Станиславский изменяет своим "чеховским" принципам и фантазирует в приемах старого актерского, бенефисного театра, губительного для подтекстовой драмы. "Вы, говорит мне Станиславский, - скрываете, утаиваете от зрителя (и от актера) самые выигрышные места, там, где можно показать фигуру Бертрана во весь рост, где Бертран становится ролью и даже бенефисной..."71 Станиславский поощрял Блока к "досказыванию", поэт от "досказывания" уклонялся.
Символистская драма наибольшим образом соответствует принципам чеховской драмы не в период обоснования идеи «современной мистерии», а на стадии «реалистического символизма». «Роза и Крест» – единственное драматическое произведение, в котором была реализована эта программа. Пьесы 910-х годов, также отмеченные зависимостью от чеховской поэтики ("Зеленое кольцо" Гиппиус, "Маков цвет" Гиппиус, Мережковского, Философова, "Семья Воронцовых" Сологуба и др.), к "реалистическому символизму" уже отношения не имеют.
Сноски
1 Белый А. Символизм. – М., 1910. – С.125
2 Обзор этих мнений см. в кн.: Кулиева Р.Г. Реализм А.П.Чехова и проблема импрессионизма. – Баку, 1988.
3 Tschizewskij D. Über die Stellung Čechovs innerhalb der russischen Literaturentwicklung // Anton Čechov. 1860-1960: Some essays. – Leiden,1960. – S.293-310.
4 Палиевский П. Импрессионизм // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1966. – Т.3.– Стлб.112-114; Н.Р. Импрессионизм // Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. – С.121.
5 Корецкая И.В. Импрессионизм в поэзии и эстетике символизма // Литературно-эстетические концепции в России конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 1975. – С.209.
6 Иванов В. Собр. соч. – Т.2. – Брюссель, 1974. – С.553.
7 Белый А. Арабески. – М., 1911. – С.402.
8 Иванов В. Указ. соч. – С.553.
9 Белый А. Указ. соч. – С.396.
10 Белый А. Символизм. – С.548.
11 Белый А. Симфонии. – Л., 1991. – С.89.
12 Аверинцев С. Разноречия и связанность мысли Вячеслава Иванова //Иванов В.И. Лик и личины России: Эстетика и литературная теория. – М., 1995. – С.12.
13 Иванов В. Собр. соч. – Т.2. – С.95.
14 Блок А. Собр. соч.: В 8-ми тт. – Т. 5. – М.-Л, 1962. – С.169, 173.
15 Брюсов В. Литературное наследство. – Т.85. – С., 1976. – С.198.
16 Иванов И. Указ. соч. – С.210.
17 Там же.
18 Волынский А. Антон Чехов // Юбилейный Чеховский сборник. – М., 1910. – С.45.
19 Иванов В. Указ. соч. – С.210.
20 Там же. – С.553, 554.
21 Белый А. Вячеслав Иванов // Русская литература ХХ в. – М., 1916. – Т.3. – С.135.
22 Белый А. Арабески. – С.396-397.
23 Арс Г. Из воспоминаний о Чехове // Театр и искусство. – 1904. – №28. – С.520.
24 Белый А. Указ. соч. – С.403.
25 Аристотель. Поэтика. – Л., 1927. – С.48.
26 См. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М., 1993. – С.728-748.
27 Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем : В 30-ти тт. – М., 1974-1983. – Письма : в 12 тт. – Т. 3. – С.189.
28 Там же. – Т.7. – С.16-17.
29 Белый А. Указ. соч. – С.398.
30 Там же. – С.404.
31 Брюсов В. Собр. соч.: В 7-ми тт. – Т.6. – М., 1975. – С.250-251.
32 Белый А. Указ. соч.. – С.398.
33 Там же. – С.396.
34 Брюсов В. Указ. соч. – С.91.
35 Брюсов В. Литературное наследство. – Т.85. – С.447.
36 Там же. – С.311.
37 Чехов А.П. Указ. соч. – Т.3. – С.11.
38 Брюсов В. Среди стихов: Манифесты. Статьи. Рецензии. – М., 1990. – С.49.
39 Чехов А.П. Указ. соч. – Т.2. – С.280.
40 Брюсов В. Собр. соч. – Т.6. – С.178-179.
41 Полоцкая Э.А. «Пролет в Вечность» : (Андрей Белый о Чехове) // Чеховиана: Чехов и «серебряный век». – М., 1996. – С.102.
42 Брюсов В. Указ. соч. – Т.6. – С.92.
43 Брюсов В. Среди стихов… – С.117.
44 Брюсов В. Литературное наследство. – Т.85. – С.458.
45 Брюсов В. Среди стихов… – С.43.
46 Белый А. Указ. соч. – С.399.
47 Брюсов В. Собр. соч. – Т.6. – С.97.
48 Белый А. Указ. соч. – С.403.
49 Брюсов В. Указ. соч. – С.73.
50 Белый А. Указ. соч. – С.404.
51 Брюсов В. Среди стихов… – С.125.
52 Брюсов В. Литературное наследство. – Т.85. – С.394.
53 Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8-ми тт. – Т.5. – М., 1960. – С.354.
54 Чехов А.П. Указ. соч. – Т.5. – С.252.
55 Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. : В 2 тт. – Т.1. – М., 1968. – С.120.
56 Брюсов В. Собр. соч. – Т.6. – С.72.
57 Чехов А.П. Указ. соч. – Т.2. – С.270.
58 Там же. – С.277.
59 Указ. соч. – Т.9. – С.187.
60 Указ. соч. – Т.7. – С.26.
61 Указ. соч. – Т.6. – С.58.
62 Белый А. Указ. соч. – С.397-398.
63 Белый А. Симфонии. – С.91.
64 Белый А. Арабески. – С.397.
65 Цитируется по кн.: Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. – М., 1995. – С.67.
66 Блок А., Белый А. Переписка. – М., 1940. – С.262.
67 Собенников А.С. Художественный символ в драматургии А.П. Чехова: Типологическое сопоставление с западно-европейской «новой драмой». – Иркутск, 1989. – С.99.
68 Блок А. Указ. соч. – С.38.
69 Там же. – С.431.
70 Блок А. Указ. соч. – Т.7. – С.239.
71 Там же. – С.243.