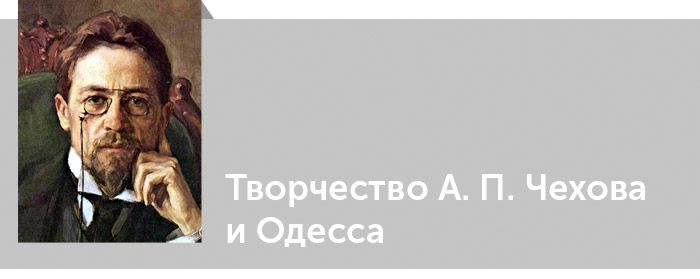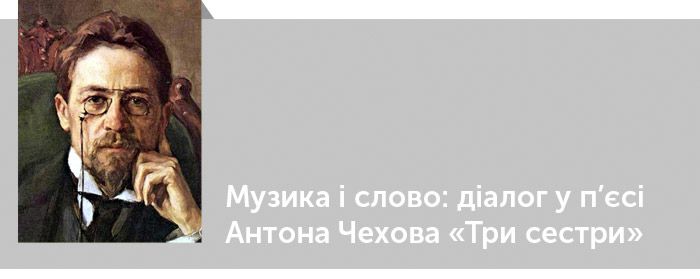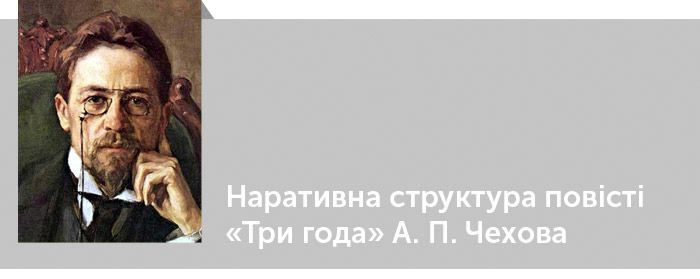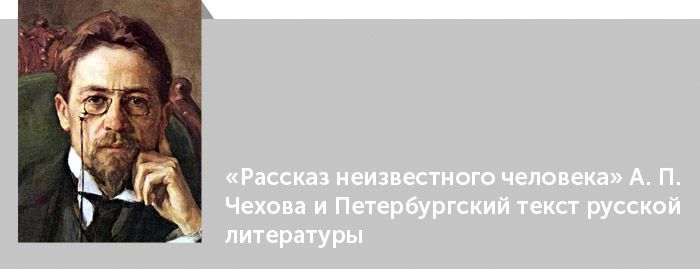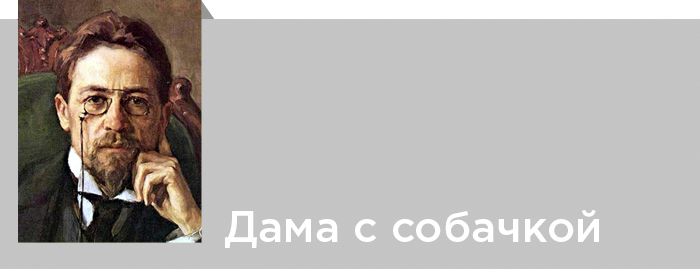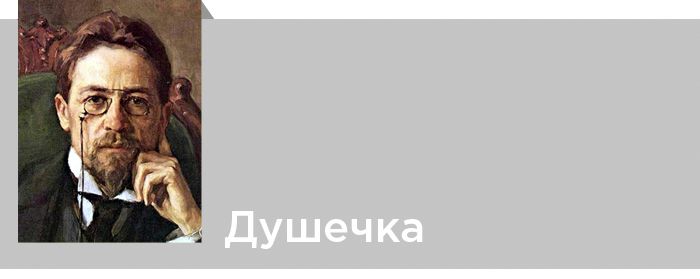Дядя Ваня

СЦЕНЫ ИЗ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ
В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Серебряков Александр Владимирович, отставной профессор.
Елена Андреевна, его жена, 27-ми лет.
Софья Александровна (Соня), его дочь от первого брака.
Войницкая Мария Васильевна, вдова тайного советника, мать первой жены профессора.
Войницкий Иван Петрович, ее сын.
Астров Михаил Львович, врач.
Телегин Илья Ильич, обедневший помещик.
Марина, старая няня.
Работник.
Действие происходит в усадьбе Серебрякова.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Сад. Видна часть дома с террасой. На аллее под старым тополем стол, сервированный для чая. Скамьи, стулья; на одной из скамей лежит гитара. Недалеко от стола качели. — Третий час дня. Пасмурно.
————
Марина (сырая, малоподвижная старушка, сидит у самовара, вяжет чулок) и Астров (ходит возле).
Марина (наливает стакан). Кушай, батюшка.
Астров (нехотя принимает стакан). Что-то не хочется.
Марина. Может, водочки выпьешь?
Астров. Нет. Я не каждый день водку пью. К тому же душно.
Пауза.
Нянька, сколько прошло, как мы знакомы?
Марина (раздумывая). Сколько? Дай бог память... Ты приехал сюда, в эти края... когда?.. еще жива была Вера Петровна, Сонечкина мать. Ты при ней к нам две зимы ездил... Ну, значит, лет одиннадцать прошло. (Подумав.) А может, и больше...
Астров. Сильно я изменился с тех пор?
Марина. Сильно. Тогда ты молодой был, красивый, а теперь постарел. И красота уже не та. Тоже сказать — и водочку пьешь.
Астров. Да... В десять лет другим человеком стал. А какая причина? Заработался, нянька. От утра до ночи все на ногах, покою не знаю, а ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы к больному не потащили. За все время, пока мы с тобою знакомы, у меня ни одного дня не было свободного. Как не постареть? Да и сама по себе жизнь скучна, глупа, грязна... Затягивает эта жизнь. Кругом тебя одни чудаки, сплошь одни чудаки; а поживешь с ними года два-три и мало-помалу сам, незаметно для себя, становишься чудаком. Неизбежная участь. (Закручивая свои длинные усы.) Ишь, громадные усы выросли... Глупые усы. Я стал чудаком, нянька... Поглупеть-то я еще не поглупел, бог милостив, мозги на своем месте, но чувства как-то притупились. Ничего я не хочу, ничего мне не нужно, никого я не люблю... Вот разве тебя только люблю. (Целует ее в голову.) У меня в детстве была такая же нянька.
Марина. Может, ты кушать хочешь?
Астров. Нет. В Великом посту на третьей неделе поехал я в Малицкое на эпидемию... Сыпной тиф... В избах народ вповалку... Грязь, вонь, дым, телята на полу, с больными вместе... Поросята тут же... Возился я целый день, не присел, маковой росинки во рту не было, а приехал домой, не дают отдохнуть — привезли с железной дороги стрелочника; положил я его на стол, чтобы ему операцию делать, а он возьми и умри у меня под хлороформом. И когда вот не нужно, чувства проснулись во мне, и защемило мою совесть, точно это я умышленно убил его... Сел я, закрыл глаза — вот этак, и думаю: те, которые будут жить через сто-двести лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут!
Марина. Люди не помянут, зато бог помянет.
Астров. Вот спасибо. Хорошо ты сказала.
Входит Войницкий.
Войницкий (выходит из дому; он выспался после завтрака и имеет помятый вид; садится на скамью, поправляет свой щегольской галстук). Да...
Пауза.
Да...
Астров. Выспался?
Войницкий. Да... Очень. (Зевает.) С тех пор, как здесь живет профессор со своею супругой, жизнь выбилась из колеи... Сплю не вовремя, за завтраком и обедом ем разные кабули, пью вина... не здорово все это! Прежде минуты свободной не было, я и Соня работали — мое почтение, а теперь работает одна Соня, а я сплю, ем, пью... Нехорошо!
Марина (покачав головой). Порядки! Профессор встает в 12 часов, а самовар кипит с утра, все его дожидается. Без них обедали всегда в первом часу, как везде у людей, а при них в седьмом. Ночью профессор читает и пишет, и вдруг часу во втором звонок... Что такое, батюшки? Чаю! Буди для него народ, ставь самовар... Порядки!
Астров. И долго они еще здесь проживут?
Войницкий (свистит). Сто лет. Профессор решил поселиться здесь.
Марина. Вот и теперь. Самовар уже два часа на столе, а они гулять пошли.
Войницкий. Идут, идут... Не волнуйся.
Слышны голоса; из глубины сада, возвращаясь с прогулки, идут Серебряков, Елена Андреевна, Соня и Телегин.
Серебряков. Прекрасно, прекрасно... Чудесные виды.
Телегин. Замечательные, ваше превосходительство.
Соня. Мы завтра поедем в лесничество, папа. Хочешь?
Войницкий. Господа, чай пить!
Серебряков. Друзья мои, пришлите мне чай в кабинет, будьте добры! Мне сегодня нужно еще кое-что сделать.
Соня. А в лесничестве тебе непременно понравится...
Елена Андреевна, Серебряков и Соня уходят в дом; Телегин идет к столу и садится возле Марины.
Войницкий. Жарко, душно, а наш великий ученый в пальто, в калошах, с зонтиком и в перчатках.
Астров. Стало быть, бережет себя.
Войницкий. А как она хороша! Как хороша! Во всю свою жизнь не видел женщины красивее.
Телегин. Еду ли я по полю, Марина Тимофеевна, гуляю ли в тенистом саду, смотрю ли на этот стол, я испытываю неизъяснимое блаженство! Погода очаровательная, птички поют, живем мы все в мире и согласии, — чего еще нам? (Принимая стакан.) Чувствительно вам благодарен!
Войницкий (мечтательно). Глаза... Чудная женщина!
Астров. Расскажи-ка что-нибудь, Иван Петрович.
Войницкий (вяло). Что тебе рассказать?
Астров. Нового нет ли чего?
Войницкий. Ничего. Все старо. Я тот же, что и был, пожалуй, стал хуже, так как обленился, ничего не делаю и только ворчу, как старый хрен. Моя старая галка, maman, все еще лепечет про женскую эмансипацию; одним глазом смотрит в могилу, а другим ищет в своих умных книжках зарю новой жизни.
Астров. А профессор?
Войницкий. А профессор по-прежнему от утра до глубокой ночи сидит у себя в кабинете и пишет. «Напрягши ум, наморщивши чело, всё оды пишем, пишем, и ни себе, ни им похвал нигде не слышим». Бедная бумага! Он бы лучше свою автобиографию написал. Какой это превосходный сюжет! Отставной профессор, понимаешь ли, старый сухарь, ученая вобла... Подагра, ревматизм, мигрень, от ревности и зависти вспухла печенка... Живет эта вобла в именье своей первой жены, живет поневоле, потому что жить в городе ему не по карману. Вечно жалуется на свои несчастья, хотя, в сущности, сам необыкновенно счастлив. (Нервно.) Ты только подумай, какое счастье! Сын простого дьячка, бурсак, добился ученых степеней и кафедры, стал его превосходительством, зятем сенатора и прочее и прочее. Все это неважно, впрочем. Но ты возьми вот что. Человек ровно двадцать пять лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. Двадцать пять лет он пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и всяком другом вздоре; двадцать пять лет читает и пишет о том, что умным давно уже известно, а для глупых неинтересно, — значит, двадцать пять лет переливает из пустого в порожнее. И в то же время какое самомнение! Какие претензии! Он вышел в отставку, и его не знает ни одна живая душа, он совершенно неизвестен; значит, двадцать пять лет он занимал чужое место. А посмотри: шагает, как полубог!
Астров. Ну, ты, кажется, завидуешь.
Войницкий. Да, завидую! А какой успех у женщин! Ни один Дон-Жуан не знал такого полного успеха! Его первая жена, моя сестра, прекрасное, кроткое создание, чистая, как вот это голубое небо, благородная, великодушная, имевшая поклонников больше, чем он учеников, — любила его так, как могут любить одни только чистые ангелы таких же чистых и прекрасных, как они сами. Моя мать, его теща, до сих пор обожает его, и до сих пор он внушает ей священный ужас. Его вторая жена, красавица, умница — вы ее только что видели — вышла за него, когда уже он был стар, отдала ему молодость, красоту, свободу, свой блеск. За что? Почему?
Астров. Она верна профессору?
Войницкий. К сожалению, да.
Астров. Почему же к сожалению?
Войницкий. Потому что эта верность фальшива от начала до конца. В ней много риторики, но нет логики. Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, — это безнравственно; стараться же заглушить в себе бедную молодость и живое чувство — это не безнравственно.
Телегин (плачущим голосом). Ваня, я не люблю, когда ты это говоришь. Ну, вот, право... Кто изменяет жене или мужу, тот, значит, неверный человек, тот может изменить и отечеству!
Войницкий (с досадой). Заткни фонтан, Вафля!
Телегин. Позволь, Ваня. Жена моя бежала от меня на другой день после свадьбы с любимым человеком по причине моей непривлекательной наружности. После того я своего долга не нарушал. Я до сих пор ее люблю и верен ей, помогаю, чем могу, и отдал свое имущество на воспитание деточек, которых она прижила с любимым человеком. Счастья я лишился, но у меня осталась гордость. А она? Молодость уже прошла, красота под влиянием законов природы поблекла, любимый человек скончался... Что же у нее осталось?
Входят Соня и Елена Андреевна; немного погодя входит Мария Васильевна с книгой; она садится и читает; ей дают чаю, и она пьет не глядя.
Соня (торопливо, няне). Там, нянечка, мужики пришли. Поди, поговори с ними, а чай я сама... (Наливает чай.)
Няня уходит. Елена Андреевна берет свою чашку и пьет, сидя на качелях.
Астров (Елене Андреевне). Я ведь к вашему мужу. Вы писали, что он очень болен, ревматизм и еще что-то, а оказывается, он здоровехонек.
Елена Андреевна. Вчера вечером он хандрил, жаловался на боли в ногах, а сегодня ничего...
Астров. А я-то сломя голову скакал тридцать верст. Ну, да ничего, не впервой. Зато уж останусь у вас до завтра и, по крайней мере, высплюсь quantum satis1.
Соня. И прекрасно. Это такая редкость, что вы у нас ночуете. Вы, небось, не обедали?
Астров. Нет-с, не обедал.
Соня. Так вот кстати и пообедаете. Мы теперь обедаем в седьмом часу. (Пьет.) Холодный чай!
Телегин. В самоваре уже значительно понизилась температура.
Елена Андреевна. Ничего, Иван Иваныч, мы и холодный выпьем.
Телегин. Виноват-с... Не Иван Иваныч, а Илья Ильич-с... Илья Ильич Телегин, или, как некоторые зовут меня по причине моего рябого лица, Вафля. Я когда-то крестил Сонечку, и его превосходительство, ваш супруг, знает меня очень хорошо. Я теперь у вас живу-с, в этом имении-с... Если изволили заметить, я каждый день с вами обедаю.
Соня. Илья Ильич наш помощник, правая рука. (Нежно.) Давайте, крестненький, я вам еще налью.
Мария Васильевна. Ах!
Соня. Что с вами, бабушка?
Мария Васильевна. Забыла я сказать Александру... потеряла память... сегодня получила я письмо из Харькова от Павла Алексеевича... Прислал свою новую брошюру...
Астров. Интересно?
Мария Васильевна. Интересно, но как-то странно. Опровергает то, что семь лет назад сам же защищал. Это ужасно!
Войницкий. Ничего нет ужасного. Пейте, maman, чай.
Мария Васильевна. Но я хочу говорить!
Войницкий. Но мы уже пятьдесят лет говорим и говорим, и читаем брошюры. Пора бы уж и кончить.
Мария Васильевна. Тебе почему-то неприятно слушать, когда я говорю. Прости, Жан, но в последний год ты так изменился, что я тебя совершенно не узнаю... Ты был человеком определенных убеждений, светлою личностью...
Войницкий. О, да! Я был светлою личностью, от которой никому не было светло...
Пауза.
Я был светлою личностью... Нельзя сострить ядовитей! Теперь мне сорок семь лет. До прошлого года я так же, как вы, нарочно старался отуманивать свои глаза вашею этою схоластикой, чтобы не видеть настоящей жизни, — и думал, что делаю хорошо. А теперь, если бы вы знали! Я ночи не сплю с досады, от злости, что так глупо проворонил время, когда мог бы иметь все, в чем отказывает мне теперь моя старость!
Соня. Дядя Ваня, скучно!
Мария Васильевна (сыну). Ты точно обвиняешь в чем-то свои прежние убеждения... Но виноваты не они, а ты сам. Ты забывал, что убеждения сами по себе ничто, мертвая буква... Нужно было дело делать.
Войницкий. Дело? Не всякий способен быть пишущим perpetuum mobile, как ваш герр профессор.
Мария Васильевна. Что ты хочешь этим сказать?
Соня (умоляюще). Бабушка! Дядя Ваня! Умоляю вас!
Войницкий. Я молчу. Молчу и извиняюсь.
Пауза.
Елена Андреевна. А хорошая сегодня погода... Не жарко...
Пауза.
Войницкий. В такую погоду хорошо повеситься...
Телегин настраивает гитару. Марина ходит около дома и кличет кур.
Марина. Цып, цып, цып...
Соня. Нянечка, зачем мужики приходили?..
Марина. Все то же, опять все насчет пустоши. Цып, цып, цып...
Соня. Кого ты это?
Марина. Пеструшка ушла с цыплятами... Вороны бы не потаскали... (Уходит.)
Телегин играет польку; все молча слушают; входит работник.
Работник. Господин доктор здесь? (Астрову.) Пожалуйте, Михаил Львович, за вами приехали.
Астров. Откуда?
Работник. С фабрики.
Астров (с досадой). Покорно благодарю. Что ж, надо ехать... (Ищет глазами фуражку.) Досадно, черт подери...
Соня. Как это неприятно, право... С фабрики приезжайте обедать.
Астров. Нет, уж поздно будет. Где уж... Куда уж... (Работнику.) Вот что, притащи-ка мне, любезный, рюмку водки, в самом деле.
Работник уходит.
Где уж... куда уж... (Нашел фуражку.) У Островского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми способностями... Так это я. Ну, честь имею, господа... (Елене Андрееене.) Если когда-нибудь заглянете ко мне, вот вместе с Софьей Александровной, то буду искренно рад. У меня небольшое именьишко, всего десятин тридцать, но, если интересуетесь, образцовый сад и питомник, какого не найдете за тысячу верст кругом. Рядом со мною казенное лесничество... Лесничий там стар, болеет всегда, так что, в сущности, я заведую всеми делами.
Елена Андреевна. Мне уже говорили, что вы очень любите леса. Конечно, можно принести большую пользу, но разве это не мешает вашему настоящему призванию? Ведь вы доктор.
Астров. Одному богу известно, в чем наше настоящее призвание.
Елена Андреевна. И интересно?
Астров. Да, дело интересное.
Войницкий (с иронией). Очень!
Елена Андреевна (Астрову). Вы еще молодой человек, вам на вид... ну, тридцать шесть-тридцать семь лет... и, должно быть, не так интересно, как вы говорите. Все лес и лес. Я думаю, однообразно.
Соня. Нет, это чрезвычайно интересно. Михаил Львович каждый год сажает новые леса, и ему уже прислали бронзовую медаль и диплом. Он хлопочет, чтобы не истребляли старых. Если вы выслушаете его, то согласитесь с ним вполне. Он говорит, что леса украшают землю, что они учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение. Леса смягчают суровый климат. В странах, где мягкий климат, меньше тратится сил на борьбу с природой и потому там мягче и нежнее человек; там люди красивы, гибки, легко возбудимы, речь их изящна, движения грациозны. У них процветают науки и искусства, философия их не мрачна, отношения к женщине полны изящного благородства...
Войницкий (смеясь). Браво, браво!.. Все это мило, но не убедительно, так что (Астрову) позволь мне, мой друг, продолжать топить печи дровами и строить сараи из дерева.
Астров. Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня. Ну, я допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и всё оттого, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо. (Елене Андреевне.) Не правда ли, сударыня? Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту, разрушать то, чего мы не можем создать. Человек одарен разумом и творческою силой, чтобы преумножать то, что ему дано, но до сих пор он не творил, а разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее. (Войницкому.) Вот ты глядишь на меня с иронией, и все, что я говорю, тебе кажется не серьезным и... и, быть может, это в самом деле чудачество, но, когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей власти, и что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку и потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью, и я... (Увидев работника, который принес на подносе рюмку водки.) Однако... (пьет) мне пора. Все это, вероятно, чудачество, в конце концов. Честь имею кланяться! (Идет к дому.)
Соня (берет его под руку и идет вместе). Когда же вы приедете к нам?
Астров. Не знаю...
Соня. Опять через месяц?..
Астров и Соня уходят в дом; Мария Васильевна и Телегин остаются возле стола; Елена Андреевна и Войницкий идут к террасе.
Елена Андреевна. А вы, Иван Петрович, опять вели себя невозможно. Нужно было вам раздражать Марию Васильевну, говорить о perpetuum mobile! И сегодня за завтраком вы опять спорили с Александром. Как это мелко!
Войницкий. Но если я его ненавижу!
Елена Андреевна. Ненавидеть Александра не за что, он такой же, как все. Не хуже вас.
Войницкий. Если бы вы могли видеть свое лицо, свои движения... Какая вам лень жить! Ах, какая лень!
Елена Андреевна. Ах, и лень, и скучно! Все бранят моего мужа, все смотрят на меня с сожалением: несчастная, у нее старый муж! Это участие ко мне — о, как я его понимаю! Вот как сказал сейчас Астров: все вы безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется. Точно так вы безрассудно губите человека, и скоро, благодаря вам, на земле не останется ни верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собою. Почему вы не можете видеть равнодушно женщину, если она не ваша? Потому что — прав этот доктор — во всех вас сидит бес разрушения. Вам не жаль ни лесов, ни птиц, ни женщин, ни друг друга...
Войницкий. Не люблю я этой философии!
Пауза.
Елена Андреевна. У этого доктора утомленное, нервное лицо. Интересное лицо. Соне, очевидно, он нравится, она влюблена в него, и я ее понимаю. При мне он был здесь уже три раза, но я застенчива и ни разу не поговорила с ним как следует, не обласкала его. Он подумал, что я зла. Вероятно, Иван Петрович, оттого мы с вами такие друзья, что оба мы нудные, скучные люди! Нудные! Не смотрите на меня так, я этого не люблю.
Войницкий. Могу ли я смотреть на вас иначе, если я люблю вас? Вы мое счастье, жизнь, моя молодость! Я знаю, шансы мои на взаимность ничтожны, равны нулю, но мне ничего не нужно, позвольте мне только глядеть на вас, слышать ваш голос...
Елена Андреевна. Тише, вас могут услышать!
Идут в дом.
Войницкий (идя за нею). Позвольте мне говорить о своей любви, не гоните меня прочь, и это одно будет для меня величайшим счастьем...
Елена Андреевна. Это мучительно...
Оба уходят в дом.
Телегин бьет по струнам и играет польку; Мария Васильевна что-то записывает на полях брошюры.
Занавес
Сноски
1 В полную меру (лат.).
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Столовая в доме Серебрякова. — Ночь. — Слышно, как в саду стучит сторож.
Серебряков (сидит в кресле перед открытым окном и дремлет) и Елена Андреевна (сидит подле него и тоже дремлет).
Серебряков (очнувшись). Кто здесь? Соня, ты?
Елена Андреевна. Это я.
Серебряков. Ты, Леночка... Невыносимая боль!
Елена Андреевна. У тебя плед упал на пол. (Кутает ему ноги.) Я, Александр, затворю окно.
Серебряков. Нет, мне душно... Я сейчас задремал, и мне снилось, будто у меня левая нога чужая. Проснулся от мучительной боли. Нет, это не подагра, скорей ревматизм. Который теперь час?
Елена Андреевна. Двадцать минут первого.
Пауза.
Серебряков. Утром поищи в библиотеке Батюшкова. Кажется, он есть у нас.
Елена Андреевна. А?
Серебряков. Поищи утром Батюшкова. Помнится, он был у нас. Но отчего мне так тяжело дышать?
Елена Андреевна. Ты устал. Вторую ночь не спишь.
Серебряков. Говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня не было. Проклятая, отвратительная старость. Черт бы ее побрал. Когда я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем, должно быть, противно на меня смотреть.
Елена Андреевна. Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар.
Серебряков. Тебе же первой я противен.
Елена Андреевна отходит и садится поодаль.
Конечно, ты права. Я не глуп и понимаю. Ты молода, здорова, красива, жить хочешь, а я старик, почти труп. Что ж? Разве я не понимаю? И, конечно, глупо, что я до сих пор жив. Но погодите, скоро я освобожу вас всех. Недолго мне еще придется тянуть.
Елена Андреевна. Я изнемогаю... Бога ради молчи.
Серебряков. Выходит так, что благодаря мне все изнемогли, скучают, губят свою молодость, один только я наслаждаюсь жизнью и доволен. Ну да, конечно!
Елена Андреевна. Замолчи! Ты меня замучил!
Серебряков. Я всех замучил. Конечно.
Елена Андреевна (сквозь слезы). Невыносимо! Скажи, что ты хочешь от меня?
Серебряков. Ничего.
Елена Андреевна. Ну, так замолчи. Я прошу.
Серебряков. Странное дело, заговорит Иван Петрович или эта старая идиотка, Марья Васильевна, — и ничего, все слушают, но скажи я хоть одно слово, как все начинают чувствовать себя несчастными. Даже голос мой противен. Ну, допустим, я противен, я эгоист, я деспот, — но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я не заслужил? Неужели же, я спрашиваю, я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей?
Елена Андреевна. Никто не оспаривает у тебя твоих прав.
Окно хлопает от ветра.
Ветер поднялся, я закрою окно. (Закрывает.) Сейчас будет дождь. Никто у тебя твоих прав не оспаривает.
Пауза; сторож в саду стучит и поет песню.
Серебряков. Всю жизнь работать для науки, привыкнуть к своему кабинету, к аудитории, к почтенным товарищам — и вдруг, ни с того, ни с сего, очутиться в этом склепе, каждый день видеть тут глупых людей, слушать ничтожные разговоры... Я хочу жить, я люблю успех, люблю известность, шум, а тут — как в ссылке. Каждую минуту тосковать о прошлом, следить за успехами других, бояться смерти... Не могу! Нет сил! А тут еще не хотят простить мне моей старости!
Елена Андреевна. Погоди, имей терпение: через пять-шесть лет и я буду стара.
Входит Соня.
Соня. Папа, ты сам приказал послать за доктором Астровым, а когда он приехал, ты отказываешься принять его. Это неделикатно. Только напрасно побеспокоили человека...
Серебряков. На что мне твой Астров? Он столько же понимает в медицине, как я в астрономии.
Соня. Не выписывать же сюда для твоей подагры целый медицинский факультет.
Серебряков. С этим юродивым я и разговаривать не стану.
Соня. Это как угодно. (Садится.) Мне все равно.
Серебряков. Который теперь час?
Елена Андреевна. Первый.
Серебряков. Душно... Соня, дай мне со стола капли!
Соня. Сейчас. (Подает капли.)
Серебряков (раздраженно). Ах, да не эти! Ни о чем нельзя попросить!
Соня. Пожалуйста, не капризничай. Может быть, это некоторым и нравится, но меня избавь, сделай милость! Я этого не люблю. И мне некогда, мне нужно завтра рано вставать, у меня сенокос.
Входит Войницкий в халате и со свечой.
Войницкий. На дворе гроза собирается.
Молния.
Вона как! Hélène и Соня, идите спать, я пришел вас сменить.
Серебряков (испуганно). Нет, нет! Не оставляйте меня с ним! Нет. Он меня заговорит!
Войницкий. Но надо же дать им покой! Они уже другую ночь не спят.
Серебряков. Пусть идут спать, но и ты уходи. Благодарю. Умоляю тебя. Во имя нашей прежней дружбы, не протестуй. После поговорим.
Войницкий (с усмешкой). Прежней нашей дружбы... Прежней...
Соня. Замолчи, дядя Ваня.
Серебряков (жене). Дорогая моя, не оставляй меня с ним! Он меня заговорит.
Войницкий. Это становится даже смешно.
Входит Марина со свечой.
Соня. Ты бы ложилась, нянечка. Уже поздно.
Марина. Самовар со стола не убран. Не очень-то ляжешь.
Серебряков. Все не спят, изнемогают, один только я блаженствую.
Марина (подходит к Серебрякову, нежно). Что, батюшка? Больно? У меня у самой ноги гудут, так и гудут. (Поправляет плед.) Это у вас давняя болезнь. Вера Петровна, покойница, Сонечкина мать, бывало, ночи не спит, убивается... Очень уж она вас любила...
Пауза.
Старые что малые, хочется, чтобы пожалел кто, а старых-то никому не жалко. (Целует Серебрякова в плечо.) Пойдем, батюшка, в постель... Пойдем, светик... Я тебя липовым чаем напою, ножки твои согрею... Богу за тебя помолюсь...
Серебряков (растроганный). Пойдем, Марина.
Марина. У самой-то у меня ноги так и гудут, так и гудут. (Ведет его вместе с Соней.) Вера Петровна, бывало, все убивается, все плачет... Ты, Сонюшка, тогда была еще мала, глупа... Иди, иди, батюшка...
Серебряков, Соня и Марина уходят.
Елена Андреевна. Я замучилась с ним. Едва на ногах стою.
Войницкий. Вы с ним, а я с самим собою. Вот уже третью ночь не сплю.
Елена Андреевна. Неблагополучно в этом доме. Ваша мать ненавидит все, кроме своих брошюр и профессора; профессор раздражен, мне не верит, вас боится; Соня злится на отца, злится на меня и не говорит со мною вот уже две недели; вы ненавидите мужа и открыто презираете свою мать; я раздражена и сегодня раз двадцать принималась плакать... Неблагополучно в этом доме.
Войницкий. Оставим философию!
Елена Андреевна. Вы, Иван Петрович, образованны и умны и, кажется, должны бы понимать, что мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мелких дрязг... Ваше бы дело не ворчать, а мирить всех.
Войницкий. Сначала помирите меня с самим собою! Дорогая моя... (Припадает к ее руке.)
Елена Андреевна. Оставьте! (Отнимает руку.) Уходите!
Войницкий. Сейчас пройдет дождь, и все в природе освежится и легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза. Днем и ночью, точно домовой, душит меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлого нет, оно глупо израсходовано на пустяки, а настоящее ужасно по своей нелепости. Вот вам моя жизнь и моя любовь: куда мне их девать, что мне с ними делать? Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму, и сам я гибну.
Елена Андреевна. Когда вы мне говорите о своей любви, я как-то тупею и не знаю, что говорить. Простите, я ничего не могу сказать вам. (Хочет идти.) Спокойной ночи.
Войницкий (загораживая ей дорогу). И если бы вы знали, как я страдаю от мысли, что рядом со мною в этом же доме гибнет другая жизнь — ваша! Чего вы ждете? Какая проклятая философия мешает вам? Поймите же, поймите...
Елена Андреевна (пристально смотрит на него). Иван Петрович, вы пьяны!
Войницкий. Может быть, может быть...
Елена Андреевна. Где доктор?
Войницкий. Он там... у меня ночует. Может быть, может быть... Все может быть!
Елена Андреевна. И сегодня пили? К чему это?
Войницкий. Все-таки на жизнь похоже... Не мешайте мне, Hélène!
Елена Андреевна. Раньше вы никогда не пили и никогда вы так много не говорили... Идите спать! Мне с вами скучно.
Войницкий (припадая к ее руке). Дорогая моя... чудная!
Елена Андреевна (с досадой). Оставьте меня. Это, наконец, противно. (Уходит.)
Войницкий (один). Ушла...
Пауза.
Десять лет тому назад я встречал ее у покойной сестры. Тогда ей было семнадцать, а мне тридцать семь лет. Отчего я тогда не влюбился в нее и не сделал ей предложения? Ведь это было так возможно! И была бы она теперь моею женой... Да... Теперь оба мы проснулись бы от грозы; она испугалась бы грома, а я держал бы ее в своих объятиях и шептал: «Не бойся, я здесь». О, чудные мысли, как хорошо, я даже смеюсь... но, боже мой, мысли путаются в голове... Зачем я стар? Зачем она меня не понимает? Ее риторика, ленивая мораль, вздорные, ленивые мысли о погибели мира — все это мне глубоко ненавистно.
Пауза.
О, как я обманут! Я обожал этого профессора, этого жалкого подагрика, я работал на него, как вол! Я и Соня выжимали из этого имения последние соки; мы, точно кулаки, торговали постным маслом, горохом, творогом, сами не доедали куска, чтобы из грошей и копеек собирать тысячи и посылать ему. Я гордился им и его наукой, я жил, я дышал им! Все, что он писал и изрекал, казалось мне гениальным... Боже, а теперь? Вот он в отставке, и теперь виден весь итог его жизни: после него не останется ни одной страницы труда, он совершенно неизвестен, он ничто! Мыльный пузырь! И я обманут... вижу — глупо обманут...
Входит Астров в сюртуке, без жилета и без галстука; он навеселе; за ним Телегин с гитарой.
Астров. Играй!
Телегин. Все спят-с!
Астров. Играй!
Телегин тихо наигрывает.
(Войницкому.) Ты один здесь? Дам нет? (Подбоченясь, тихо поет.) «Ходи хата, ходи печь, хозяину негде лечь...» А меня гроза разбудила. Важный дождик. Который теперь час?
Войницкий. А черт его знает.
Астров. Мне как будто бы послышался голос Елены Андреевны.
Войницкий. Сейчас она была здесь.
Астров. Роскошная женщина. (Осматривает склянки на столе.) Лекарства. Каких только тут нет рецептов! И харьковские, и московские, и тульские... Всем городам надоел своею подагрой. Он болен или притворяется?
Войницкий. Болен.
Пауза.
Астров. Что ты сегодня такой печальный? Профессора жаль, что ли?
Войницкий. Оставь меня.
Астров. А то, может быть, в профессоршу влюблен?
Войницкий. Она мой друг.
Астров. Уже?
Войницкий. Что значит это «уже»?
Астров. Женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности: сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг.
Войницкий. Пошляческая философия.
Астров. Как? Да... Надо сознаться, — становлюсь пошляком. Видишь, я и пьян. Обыкновенно, я напиваюсь так один раз в месяц. Когда бываю в таком состоянии, то становлюсь нахальным и наглым до крайности. Мне тогда всё нипочем! Я берусь за самые трудные операции и делаю их прекрасно; я рисую самые широкие планы будущего; в это время я уже не кажусь себе чудаком и верю, что приношу человечеству громадную пользу... громадную! И в это время у меня своя собственная философская система, и все вы, братцы, представляетесь мне такими букашками... микробами. (Телегину.) Вафля, играй!
Телегин. Дружочек, я рад бы для тебя всею душой, но пойми же — в доме спят!
Астров. Играй!
Телегин тихо наигрывает.
Выпить бы надо. Пойдем, там, кажется, у нас еще коньяк остался. А как рассветет, ко мне поедем. Идёть? У меня есть фельдшер, который никогда не скажет «идет», а «идёть». Мошенник страшный. Так идёть? (Увидев входящую Соню.) Извините, я без галстука. (Быстро уходит; Телегин идет за ним.)
Соня. А ты, дядя Ваня, опять напился с доктором. Подружились ясные соколы. Ну, тот уж всегда такой, а ты-то с чего? В твои годы это совсем не к лицу.
Войницкий. Годы тут ни при чем. Когда нет настоящей жизни, то живут миражами. Все-таки лучше, чем ничего.
Соня. Сено у нас все скошено, идут каждый день дожди, все гниет, а ты занимаешься миражами. Ты совсем забросил хозяйство... Я работаю одна, совсем из сил выбилась... (Испуганно.) Дядя, у тебя на глазах слезы!
Войницкий. Какие слезы? Ничего нет... вздор... Ты сейчас взглянула на меня, как покойная твоя мать. Милая моя... (Жадно целует ее руки и лицо.) Сестра моя... милая сестра моя... Где она теперь? Если бы она знала! Ах, если бы она знала!
Соня. Что? Дядя, что знала?
Войницкий. Тяжело, нехорошо... Ничего... После... Ничего... Я уйду... (Уходит.)
Соня (стучит в дверь). Михаил Львович! Вы не спите? На минутку!
Астров (за дверью). Сейчас! (Немного погодя входит: он уже в жилетке и галстуке.) Что прикажете?
Соня. Сами вы пейте, если это вам не противно, но, умоляю, не давайте пить дяде. Ему вредно.
Астров. Хорошо. Мы не будем больше пить.
Пауза.
Я сейчас уеду к себе. Решено и подписано. Пока запрягут, будет уже рассвет.
Соня. Дождь идет. Погодите до утра.
Астров. Гроза идет мимо, только краем захватит. Поеду. И, пожалуйста, больше не приглашайте меня к вашему отцу. Я ему говорю — подагра, а он — ревматизм; я прошу лежать, он сидит. А сегодня так и вовсе не стал говорить со мною.
Соня. Избалован. (Ищет в буфете.) Хотите закусить?
Астров. Пожалуй, дайте.
Соня. Я люблю по ночам закусывать. В буфете, кажется, что-то есть. Он в жизни, говорят, имел большой успех у женщин, и его дамы избаловали. Вот берите сыр.
Оба стоят у буфета и едят.
Астров. Я сегодня ничего не ел, только пил. У вашего отца тяжелый характер. (Достает из буфета бутылку.) Можно? (Выпивает рюмку.) Здесь никого нет, и можно говорить прямо. Знаете, мне кажется, что в вашем доме я не выжил бы одного месяца, задохнулся бы в этом воздухе... Ваш отец, который весь ушел в свою подагру и в книги, дядя Ваня со своею хандрой, ваша бабушка, наконец, ваша мачеха...
Соня. Что мачеха?
Астров. В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спора нет, но... ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своею красотой — и больше ничего. У нее нет никаких обязанностей, на нее работают другие... Ведь так? А праздная жизнь не может быть чистою.
Пауза.
Впрочем, быть может, я отношусь слишком строго. Я не удовлетворен жизнью, как ваш дядя Ваня, и оба мы становимся брюзгами.
Соня. А вы недовольны жизнью?
Астров. Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уездную, русскую, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души. А что касается моей собственной, личной жизни, то, ей-богу, в ней нет решительно ничего хорошего. Знаете, когда идешь темною ночью по лесу, и если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу... Я работаю, — вам это известно, — как никто в уезде, судьба бьет меня не переставая, порой страдаю я невыносимо, но у меня вдали нет огонька. Я для себя уже ничего не жду, не люблю людей... Давно уже никого не люблю.
Соня. Никого?
Астров. Никого. Некоторую нежность я чувствую только к вашей няньке — по старой памяти. Мужики однообразны очень, неразвиты, грязно живут, а с интеллигенцией трудно ладить. Она утомляет. Все они, наши добрые знакомые, мелко мыслят, мелко чувствуют и не видят дальше своего носа — просто-напросто глупы. А те, которые поумнее и покрупнее, истеричны, заедены анализом, рефлексом... Эти ноют, ненавистничают, болезненно клевещут, подходят к человеку боком, смотрят на него искоса и решают: «О, это психопат!» или: «Это фразер!» А когда не знают, какой ярлык прилепить к моему лбу, то говорят: «Это странный человек, странный!» Я люблю лес — это странно; я не ем мяса — это тоже странно. Непосредственного, чистого, свободного отношения к природе и к людям уже нет... Нет и нет! (Хочет выпить.)
Соня (мешает ему). Нет, прошу вас, умоляю, не пейте больше.
Астров. Отчего?
Соня. Это так не идет к вам! Вы изящны, у вас такой нежный голос... Даже больше, вы, как никто из всех, кого я знаю, — вы прекрасны. Зачем же вы хотите походить на обыкновенных людей, которые пьют и играют в карты? О, не делайте этого, умоляю вас! Вы говорите всегда, что люди не творят, а только разрушают то, что им дано свыше. Зачем же, зачем вы разрушаете самого себя? Не надо, не надо, умоляю, заклинаю вас.
Астров (протягивает ей руку). Не буду больше пить.
Соня. Дайте мне слово.
Астров. Честное слово.
Соня (крепко пожимает руку). Благодарю!
Астров. Баста! Я отрезвел. Видите, я уже совсем трезв и таким останусь до конца дней моих. (Смотрит на часы.) Итак, будем продолжать. Я говорю: мое время уже ушло, поздно мне... Постарел, заработался, испошлился, притупились все чувства, и, кажется, я уже не мог бы привязаться к человеку. Я никого не люблю и... уже не полюблю. Что меня еще захватывает, так это красота. Неравнодушен я к ней. Мне кажется, что если бы вот Елена Андреевна захотела, то могла бы вскружить мне голову в один день... Но ведь это не любовь, не привязанность... (Закрывает рукой глаза и вздрагивает.)
Соня. Что с вами?
Астров. Так... В Великом посту у меня больной умер под хлороформом.
Соня. Об этом пора забыть.
Пауза.
Скажите мне, Михаил Львович... Если бы у меня была подруга, или младшая сестра, и если бы вы узнали, что она... ну, положим, любит вас, то как бы вы отнеслись к этому?
Астров (пожав плечами). Не знаю. Должно быть, никак. Я дал бы ей понять, что полюбить ее не могу... да и не тем моя голова занята. Как-никак, а если ехать, то уже пора. Прощайте, голубушка, а то мы так до утра не кончим. (Пожимает руку.) Я пройду через гостиную, если позволите, а то боюсь, как бы ваш дядя меня не задержал. (Уходит.)
Соня (одна). Он ничего не сказал мне... Душа и сердце его все еще скрыты от меня, но отчего же я чувствую себя такою счастливою? (Смеется от счастья.) Я ему сказала: вы изящны, благородны, у вас такой нежный голос... Разве это вышло некстати? Голос его дрожит, ласкает... вот я чувствую его в воздухе. А когда я сказала ему про младшую сестру, он не понял... (Ломая руки.) О, как это ужасно, что я некрасива! Как ужасно! А я знаю, что я некрасива, знаю, знаю... В прошлое воскресенье, когда выходили из церкви, я слышала, как говорили про меня, и одна женщина сказала: «Она добрая, великодушная, но жаль, что она так некрасива»... Некрасива...
Входит Елена Андреевна.
Елена Андреевна (открывает окна). Прошла гроза. Какой хороший воздух!
Пауза.
Где доктор?
Соня. Ушел.
Пауза.
Елена Андреевна. Софи!
Соня. Что?
Елена Андреевна. До каких пор вы будете дуться на меня? Друг другу мы не сделали никакого зла. Зачем же нам быть врагами? Полноте...
Соня. Я сама хотела... (Обнимает ее.) Довольно сердиться.
Елена Андреевна. И отлично.
Обе взволнованы.
Соня. Папа лег?
Елена Андреевна. Нет, сидит в гостиной... Не говорим мы друг с другом по целым неделям и, бог знает, из-за чего... (Увидев, что буфет открыт.) Что это?
Соня. Михаил Львович ужинал.
Елена Андреевна. И вино есть... Давайте выпьем брудершафт.
Соня. Давайте.
Елена Андреевна. Из одной рюмочки... (Наливает.) Этак лучше. Ну, значит — ты?
Соня. Ты.
Пьют и целуются.
Я давно уже хотела мириться, да все как-то совестно было... (Плачет.)
Елена Андреевна. Что же ты плачешь?
Соня. Ничего, это я так.
Елена Андреевна. Ну, будет, будет... (Плачет.) Чудачка, и я заплакала...
Пауза.
Ты на меня сердита за то, что я будто вышла за твоего отца по расчету... Если веришь клятвам, то клянусь тебе — я выходила за него по любви. Я увлеклась им как ученым и известным человеком. Любовь была не настоящая, искусственная, но ведь мне казалось тогда, что она настоящая. Я не виновата. А ты с самой нашей свадьбы не переставала казнить меня своими умными подозрительными глазами.
Соня. Ну, мир, мир! Забудем.
Елена Андреевна. Не надо смотреть так — тебе это не идет. Надо всем верить, иначе жить нельзя.
Пауза.
Соня. Скажи мне по совести, как друг... Ты счастлива?
Елена Андреевна. Нет.
Соня. Я это знала. Еще один вопрос. Скажи откровенно — ты хотела бы, чтобы у тебя был молодой муж?
Елена Андреевна. Какая ты еще девочка. Конечно, хотела бы! (Смеется.) Ну, спроси еще что-нибудь, спроси...
Соня. Тебе доктор нравится?
Елена Андреевна. Да, очень.
Соня (смеется). У меня глупое лицо... да? Вот он ушел, а я все слышу его голос и шаги, а посмотрю на темное окно — там мне представляется его лицо. Дай мне высказаться... Но я не могу говорить так громко, мне стыдно. Пойдем ко мне в комнату, там поговорим. Я тебе кажусь глупою? Сознайся... Скажи мне про него что-нибудь...
Елена Андреевна. Что же?
Соня. Он умный... Он все умеет, все может... Он и лечит, и сажает лес...
Елена Андреевна. Не в лесе и не в медицине дело... Милая моя, пойми, это талант! А ты знаешь, что значит талант? Смелость, свободная голова, широкий размах... Посадит деревцо и уже загадывает, что будет от этого через тысячу лет, уже мерещится ему счастье человечества. Такие люди редки, их нужно любить... Он пьет, бывает грубоват, — но что за беда? Талантливый человек в России не может быть чистеньким. Сама подумай, что за жизнь у этого доктора! Непролазная грязь на дорогах, морозы, метели, расстояния громадные, народ грубый, дикий, кругом нужда, болезни, а при такой обстановке тому, кто работает и борется изо дня в день, трудно сохранить себя к сорока годам чистеньким и трезвым... (Целует ее.) Я от души тебе желаю, ты стоишь счастья... (Встает.) А я нудная, эпизодическое лицо... И в музыке, и в доме мужа, во всех романах — везде, одним словом, я была только эпизодическим лицом. Собственно говоря, Соня, если вдуматься, то я очень, очень несчастна! (Ходит в волнении по сцене.) Нет мне счастья на этом свете. Нет! Что ты смеешься?
Соня (смеется, закрыв лицо). Я так счастлива... счастлива!
Елена Андреевна. Мне хочется играть... Я сыграла бы теперь что-нибудь.
Соня. Сыграй. (Обнимает ее.) Я не могу спать... Сыграй!
Елена Андреевна. Сейчас. Твой отец не спит. Когда он болен, его раздражает музыка. Поди спроси. Если он ничего, то сыграю. Поди.
Соня. Сейчас. (Уходит.)
В саду стучит сторож.
Елена Андреевна. Давно уже я не играла. Буду играть и плакать, плакать, как дура. (В окно.) Это ты стучишь, Ефим?
Голос сторожа. Я!
Елена Андреевна. Не стучи, барин нездоров.
Голос сторожа. Сейчас уйду! (Подсвистывает.) Эй, вы, Жучка, Мальчик! Жучка!
Пауза.
Соня (вернувшись). Нельзя!
Занавес
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Гостиная в доме Серебрякова. Три двери: направо, налево и посредине. — День.
Войницкий, Соня (сидят) и Елена Андреевна (ходит по сцене, о чем-то думая).
Войницкий. Герр профессор изволил выразить желание, чтобы сегодня все мы собрались вот в этой гостиной к часу дня. (Смотрит на часы.) Без четверти час. Хочет о чем-то поведать миру.
Елена Андреевна. Вероятно, какое-нибудь дело.
Войницкий. Никаких у него нет дел. Пишет чепуху, брюзжит и ревнует, больше ничего.
Соня (тоном упрека). Дядя!
Войницкий. Ну, ну, виноват. (Указывает на Елену Андреевну.) Полюбуйтесь: ходит и от лени шатается. Очень мило! Очень!
Елена Андреевна. Вы целый день жужжите, всё жужжите — как не надоест! (С тоской.) Я умираю от скуки, не знаю, что мне делать.
Соня (пожимая плечами). Мало ли дела? Только бы захотела.
Елена Андреевна. Например?
Соня. Хозяйством занимайся, учи, лечи. Мало ли? Вот когда тебя и папы здесь не было, мы с дядей Ваней сами ездили на базар мукой торговать.
Елена Андреевна. Не умею. Да и неинтересно. Это только в идейных романах учат и лечат мужиков, а как я, ни с того, ни с сего, возьму вдруг и пойду их лечить или учить?
Соня. А вот я так не понимаю, как это не идти и не учить. Погоди и ты привыкнешь. (Обнимает ее.) Не скучай, родная. (Смеясь.) Ты скучаешь, не находишь себе места, а скука и праздность заразительны. Смотри: дядя Ваня ничего не делает и только ходит за тобою, как тень, я оставила свои дела и прибежала к тебе, чтобы поговорить. Обленилась, не могу! Доктор Михаил Львович прежде бывал у нас очень редко, раз в месяц, упросить его было трудно, а теперь он ездит сюда каждый день, бросил и свои леса и медицину. Ты колдунья, должно быть.
Войницкий. Что томитесь? (Живо.) Ну, дорогая моя, роскошь, будьте умницей! В ваших жилах течет русалочья кровь, будьте же русалкой! Дайте себе волю хоть раз в жизни, влюбитесь поскорее в какого-нибудь водяного по самые уши — и бултых с головой в омут, чтобы герр профессор и все мы только руками развели!
Елена Андреевна (с гневом). Оставьте меня в покое! Как это жестоко! (Хочет уйти.)
Войницкий (не пускает ее). Ну, ну, моя радость, простите... Извиняюсь. (Целует руку.) Мир.
Елена Андреевна. У ангела не хватило бы терпения, согласитесь.
Войницкий. В знак мира и согласия я принесу сейчас букет роз; еще утром для вас приготовил... Осенние розы — прелестные, грустные розы... (Уходит.)
Соня. Осенние розы — прелестные, грустные розы...
Обе смотрят в окно.
Елена Андреевна. Вот уже и сентябрь. Как-то мы проживем здесь зиму!
Пауза.
Где доктор?
Соня. В комнате у дяди Вани. Что-то пишет. Я рада, что дядя Ваня ушел, мне нужно поговорить с тобою.
Елена Андреевна. О чем?
Соня. О чем? (Кладет ей голову на грудь.)
Елена Андреевна. Ну, полно, полно... (Приглаживает ей волосы.) Полно.
Соня. Я некрасива.
Елена Андреевна. У тебя прекрасные волосы.
Соня. Нет! (Оглядывается, чтобы взглянуть на себя в зеркало.) Нет! Когда женщина некрасива, то ей говорят: «у вас прекрасные глаза, у вас прекрасные волосы»... Я его люблю уже шесть лет, люблю больше, чем свою мать; я каждую минуту слышу его, чувствую пожатие его руки; и я смотрю на дверь, жду, мне все кажется, что он сейчас войдет. И вот, ты видишь, я все прихожу к тебе, чтобы поговорить о нем. Теперь он бывает здесь каждый день, но не смотрит на меня, не видит... Это такое страдание! У меня нет никакой надежды, нет, нет! (В отчаянии.) О, боже, пошли мне силы... Я всю ночь молилась... Я часто подхожу к нему, сама заговариваю с ним, смотрю ему в глаза... У меня уже нет гордости, нет сил владеть собою... Не удержалась и вчера призналась дяде Ване, что люблю... И вся прислуга знает, что я его люблю. Все знают.
Елена Андреевна. А он?
Соня. Нет. Он меня не замечает.
Елена Андреевна (в раздумье). Странный он человек... Знаешь что? Позволь, я поговорю с ним... Я осторожно, намеками...
Пауза.
Право, до каких же пор быть в неизвестности... Позволь!
Соня утвердительно кивает головой.
И прекрасно. Любит или не любит — это не трудно узнать. Ты не смущайся, голубка, не беспокойся — я допрошу его осторожно, он и не заметит. Нам только узнать: да или нет?
Пауза.
Если нет, то пусть не бывает здесь. Так?
Соня утвердительно кивает головой.
Легче, когда не видишь. Откладывать в долгий ящик не будем, допросим его теперь же. Он собирался показать мне какие-то чертежи... Поди скажи, что я желаю его видеть.
Соня (в сильном волнении). Ты мне скажешь всю правду?
Елена Андреевна. Да, конечно. Мне кажется, что правда, какая бы она ни была, все-таки не так страшна, как неизвестность. Положись на меня, голубка.
Соня. Да, да... Я скажу, что ты хочешь видеть его чертежи... (Идет и останавливается возле двери.) Нет, неизвестность лучше... Все-таки надежда...
Елена Андреевна. Что ты?
Соня. Ничего. (Уходит.)
Елена Андреевна (одна). Нет ничего хуже, когда знаешь чужую тайну и не можешь помочь. (Раздумывая.) Он не влюблен в нее — это ясно, но отчего бы ему не жениться на ней? Она не красива, но для деревенского доктора, в его годы, это была бы прекрасная жена. Умница, такая добрая, чистая... Нет, это не то, не то...
Пауза.
Я понимаю эту бедную девочку. Среди отчаянной скуки, когда вместо людей кругом бродят какие-то серые пятна, слышатся одни пошлости, когда только и знают, что едят, пьют, спят, иногда приезжает он, не похожий на других, красивый, интересный, увлекательный, точно среди потемок восходит месяц ясный... Поддаться обаянию такого человека, забыться... Кажется, я сама увлеклась немножко. Да, мне без него скучно, я вот улыбаюсь, когда думаю о нем... Этот дядя Ваня говорит, будто в моих жилах течет русалочья кровь. «Дайте себе волю хоть раз в жизни»... Что ж? Может быть, так и нужно... Улететь бы вольною птицей от всех вас, от ваших сонных физиономий, от разговоров, забыть, что все вы существуете на свете.... Но я труслива, застенчива... Меня замучит совесть... Вот он бывает здесь каждый день, я угадываю, зачем он здесь, и уже чувствую себя виноватою, готова пасть перед Соней на колени, извиняться, плакать...
Астров (входит с картограммой). Добрый день! (Пожимает руку.) Вы хотели видеть мою живопись?
Елена Андреевна. Вчера вы обещали показать мне свои работы... Вы свободны?
Астров. О, конечно. (Растягивает на ломберном столе картограмму и укрепляет ее кнопками.) Вы где родились?
Елена Андреевна (помогая ему). В Петербурге.
Астров. А получили образование?
Елена Андреевна. В консерватории.
Астров. Для вас, пожалуй, это неинтересно.
Елена Андреевна. Почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала.
Астров. Здесь в доме есть мой собственный стол... В комнате у Ивана Петровича. Когда я утомлюсь совершенно, до полного отупения, то все бросаю и бегу сюда, и вот забавляюсь этой штукой час-другой... Иван Петрович и Софья Александровна щелкают на счетах, а я сижу подле них за своим столом и мажу — и мне тепло, покойно, и сверчок кричит. Но это удовольствие я позволяю себе не часто, раз в месяц... (Показывая на картограмме.) Теперь смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темно- и светло-зеленая краска означает леса; половина всей площади занята лесом. Где по зелени положена красная сетка, там водились лоси, козы... Я показываю тут и флору, и фауну. На этом озере жили лебеди, гуси, утки, и, как говорят старики, птицы всякой была сила, видимо-невидимо: носилась она тучей. Кроме сел и деревень, видите, там и сям разбросаны разные выселки, хуторочки, раскольничьи скиты, водяные мельницы... Рогатого скота и лошадей было много. По голубой краске видно. Например, в этой волости голубая краска легла густо; тут были целые табуны, и на каждый двор приходилось по три лошади.
Пауза.
Теперь посмотрим ниже. То, что было 25 лет назад. Тут уж под лесом только одна треть всей площади. Коз уже нет, но лоси есть. Зеленая и голубая краски уже бледнее. И так далее, и так далее. Переходим к третьей части: картина уезда в настоящем. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами; исчезли и лоси, и лебеди, и глухари... От прежних выселков, хуторков, скитов, мельниц и следа нет. В общем, картина постепенного и несомненного вырождения, которому, по-видимому, остается еще каких-нибудь 10—15 лет, чтобы стать полным. Вы скажете, что тут культурные влияния, что старая жизнь естественно должна была уступить место новой. Да, я понимаю, если бы на месте этих истребленных лесов пролегли шоссе, железные дороги, если бы тут были заводы, фабрики, школы, — народ стал бы здоровее, богаче, умнее, но ведь тут ничего подобного! В уезде те же болота, комары, то же бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары... Тут мы имеем дело с вырождением вследствие непосильной борьбы за существование; это вырождение от косности, от невежества, от полнейшего отсутствия самосознания, когда озябший, голодный, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь своих детей, инстинктивно, бессознательно хватается за все, чем только можно утолить голод, согреться, разрушает все, не думая о завтрашнем дне... Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще ничего. (Холодно.) Я по лицу вижу, что это вам неинтересно.
Елена Андреевна. Но я в этом так мало понимаю...
Астров. И понимать тут нечего, просто неинтересно.
Елена Андреевна. Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты. Простите. Мне нужно сделать вам маленький допрос, и я смущена, не знаю, как начать.
Астров. Допрос?
Елена Андреевна. Да, допрос, но... довольно невинный. Сядем!
Садятся.
Дело касается одной молодой особы. Мы будем говорить, как честные люди, как приятели, без обиняков. Поговорим и забудем, о чем была речь. Да?
Астров. Да.
Елена Андреевна. Дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится?
Астров. Да, я ее уважаю.
Елена Андреевна. Она вам нравится, как женщина?
Астров (не сразу). Нет.
Елена Андреевна. Еще два-три слова — и конец. Вы ничего не замечали?
Астров. Ничего.
Елена Андреевна (берет, его за руку). Вы не любите ее, по глазам вижу... Она страдает... Поймите это и... перестаньте бывать здесь.
Астров (встает). Время мое уже ушло... Да и некогда... (Пожав плечами.) Когда мне? (Он смущен.)
Елена Андреевна. Фу, какой неприятный разговор! Я так волнуюсь, точно протащила на себе тысячу пудов. Ну, слава богу, кончили. Забудем, будто не говорили вовсе, и... и уезжайте. Вы умный человек, поймете...
Пауза.
Я даже красная вся стала.
Астров. Если бы вы сказали месяц-два назад, то я, пожалуй, еще подумал бы, но теперь... (Пожимает плечами.) А если она страдает, то, конечно... Только одного не понимаю: зачем вам понадобился этот допрос? (Глядит ей в глаза и грозит пальцем.) Вы — хитрая!
Елена Андреевна. Что это значит?
Астров (смеясь). Хитрая! Положим, Соня страдает, я охотно допускаю, но к чему этот ваш допрос? (Мешая ей говорить, живо.) Позвольте, не делайте удивленного лица, вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день... Зачем и ради кого бываю, это вы отлично знаете. Хищница милая, не смотрите на меня так, я старый воробей...
Елена Андреевна (в недоумении). Хищница? Ничего не понимаю.
Астров. Красивый, пушистый хорек... Вам нужны жертвы! Вот я уже целый месяц ничего не делаю, бросил все, жадно ищу вас — и это вам ужасно нравится, ужасно... Ну, что ж? Я побежден, вы это знали и без допроса. (Скрестив руки и нагнув голову.)Покоряюсь. Нате, ешьте!
Елена Андреевна. Вы с ума сошли!
Астров (смеется сквозь зубы). Вы застенчивы...
Елена Андреевна. О, я лучше и выше, чем вы думаете! Клянусь вам! (Хочет уйти.)
Астров (загораживая ей дорогу). Я сегодня уеду, бывать здесь не буду, но... (берет ее за руку, оглядывается) где мы будем видеться? Говорите скорее: где? Сюда могут войти, говорите скорее... (Страстно.) Какая чудная, роскошная... Один поцелуй... Мне поцеловать только ваши ароматные волосы...
Елена Андреевна. Клянусь вам...
Астров (мешая ей говорить). Зачем клясться? Не надо клясться. Не надо лишних слов... О, какая красивая! Какие руки! (Целует руки.)
Елена Андреевна. Но довольно, наконец... уходите... (Отнимает руки.) Вы забылись.
Астров. Говорите же, говорите, где мы завтра увидимся? (Берет ее за талию.) Ты видишь, это неизбежно, нам надо видеться. (Целует ее; в это время входит Войницкий с букетом роз и останавливается у двери.)
Елена Андреевна (не видя Войницкого). Пощадите... оставьте меня... (Кладет Астрову голову на грудь.) Нет! (Хочет уйти.)
Астров (удерживая ее за талию). Приезжай завтра в лесничество... часам к двум... Да? Да? Ты приедешь?
Елена Андреевна (увидев Войницкого). Пустите! (В сильном смущении отходит к окну.) Это ужасно.
Войницкий (кладет букет на стул; волнуясь, вытирает платком лицо и за воротником). Ничего... Да... Ничего...
Астров (будируя). Сегодня, многоуважаемый Иван Петрович, погода недурна. Утром было пасмурно, словно как бы на дождь, а теперь солнце. Говоря по совести, осень выдалась прекрасная... и озими ничего себе. (Свертывает картограмму в трубку.) Вот только что: дни коротки стали... (Уходит.)
Елена Андреевна (быстро подходит к Войницкому). Вы постараетесь, вы употребите все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же! Слышите? Сегодня же!
Войницкий (вытирая лицо). А? Ну, да... хорошо... Я, Hélène, все видел, все...
Елена Андреевна (нервно). Слышите? Я должна уехать отсюда сегодня же!
Входят Серебряков, Соня, Телегин и Марина.
Телегин. Я сам, ваше превосходительство, что-то не совсем здоров. Вот уже два дня хвораю. Голова что-то того...
Серебряков. Где же остальные? Не люблю я этого дома. Какой-то лабиринт. Двадцать шесть громадных комнат, разбредутся все, и никого никогда не найдешь. (Звонит.) Пригласите сюда Марью Васильевну и Елену Андреевну!
Елена Андреевна. Я здесь.
Серебряков. Прошу, господа, садиться.
Соня (подойдя к Елене Андреевне, нетерпеливо). Что он сказал?
Елена Андреевна. После.
Соня. Ты дрожишь? Ты взволнована? (Пытливо всматривается в ее лицо.) Я понимаю... Он сказал, что уже больше не будет бывать здесь... Да?
Пауза.
Скажи: да?
Елена Андреевна утвердительно кивает головой.
Серебряков (Телегину). С нездоровьем еще можно мириться, куда ни шло, но чего я не могу переварить, так это строя деревенской жизни. У меня такое чувство, как будто я с земли свалился на какую-то чужую планету. Садитесь, господа, прошу вас. Соня!
Соня не слышит его, она стоит, печально опустив голову.
Соня!
Пауза.
Не слышит. (Марине.) И ты, няня, садись.
Няня садится и вяжет чулок.
Прошу, господа. Повесьте, так сказать, ваши уши на гвоздь внимания. (Смеется.)
Войницкий (волнуясь). Я, быть может, не нужен? Могу уйти?
Серебряков. Нет, ты здесь нужнее всех.
Войницкий. Что вам от меня угодно?
Серебряков. Вам... Что же ты сердишься?
Пауза.
Если я в чем виноват перед тобою, то извини, пожалуйста.
Войницкий. Оставь этот тон. Приступим к делу... Что тебе нужно?
Входит Мария Васильевна.
Серебряков. Вот и maman. Я начинаю, господа.
Пауза.
Я пригласил вас, господа, чтобы объявить вам, что к нам едет ревизор. Впрочем, шутки в сторону. Дело серьезное. Я, господа, собрал вас, чтобы попросить у вас помощи и совета, и, зная всегдашнюю вашу любезность, надеюсь, что получу их. Человек я ученый, книжный и всегда был чужд практической жизни. Обойтись без указаний сведущих людей я не могу и прошу тебя, Иван Петрович, вот вас, Илья Ильич, вас, maman... Дело в том, что manet omnes una nox2, то есть все мы под богом ходим; я стар, болен и потому нахожу своевременным регулировать свои имущественные отношения постольку, поскольку они касаются моей семьи. Жизнь моя уже кончена, о себе я не думаю, но у меня молодая жена, дочь-девушка.
Пауза.
Продолжать жить в деревне мне невозможно. Мы для деревни не созданы. Жить же в городе на те средства, какие мы получаем от этого имения, невозможно. Если продать, положим, лес, то это мера экстраординарная, которою нельзя пользоваться ежегодно. Нужно изыскать такие меры, которые гарантировали бы нам постоянную, более или менее определенную цифру дохода. Я придумал одну такую меру и имею честь предложить ее на ваше обсуждение. Минуя детали, изложу ее в общих чертах. Наше имение дает в среднем размере не более двух процентов. Я предлагаю продать его. Если вырученные деньги мы обратим в процентные бумаги, то будем получать от четырех до пяти процентов, и я думаю, что будет даже излишек в несколько тысяч, который нам позволит купить в Финляндии небольшую дачу.
Войницкий. Постой... Мне кажется, что мне изменяет мой слух. Повтори, что ты сказал.
Серебряков. Деньги обратить в процентные бумаги и на излишек, какой останется, купить дачу в Финляндии.
Войницкий. Не Финляндия... Ты еще что-то другое сказал.
Серебряков. Я предлагаю продать имение.
Войницкий. Вот это самое. Ты продашь имение, превосходно, богатая идея... А куда прикажешь деваться мне со старухой-матерью и вот с Соней?
Серебряков. Все это своевременно мы обсудим. Не сразу же.
Войницкий. Постой. Очевидно, до сих пор у меня не было ни капли здравого смысла. До сих пор я имел глупость думать, что это имение принадлежит Соне. Мой покойный отец купил это имение в приданое для моей сестры. До сих пор я был наивен, понимал законы не по-турецки и думал, что имение от сестры перешло к Соне.
Серебряков. Да, имение принадлежит Соне. Кто спорит? Без согласия Сони я не решусь продать его. К тому же я предполагаю сделать это для блага Сони.
Войницкий. Это непостижимо, непостижимо! Или я с ума сошел, или... или...
Мария Васильевна. Жан, не противоречь Александру. Верь, он лучше нас знает, что хорошо и что дурно.
Войницкий. Нет, дайте мне воды. (Пьет воду.) Говорите что хотите, что хотите!
Серебряков. Я не понимаю, отчего ты волнуешься. Я не говорю, что мой проект идеален. Если все найдут его негодным, то я не буду настаивать.
Пауза.
Телегин (в смущении). Я, ваше превосходительство, питаю к науке не только благоговение, но и родственные чувства. Брата моего Григория Ильича жены брат, может, изволите знать, Константин Трофимович Лакедемонов, был магистром...
Войницкий. Постой, Вафля, мы о деле... Погоди, после... (Серебрякову.) Вот спроси ты у него. Это имение куплено у его дяди.
Серебряков. Ах, зачем мне спрашивать? К чему?
Войницкий. Это имение было куплено по тогдашнему времени за девяносто пять тысяч. Отец уплатил только семьдесят и осталось долгу двадцать пять тысяч. Теперь слушайте... Имение это не было бы куплено, если бы я не отказался от наследства в пользу сестры, которую горячо любил. Мало того, я десять лет работал, как вол, и выплатил весь долг...
Серебряков. Я жалею, что начал этот разговор.
Войницкий. Имение чисто от долгов и не расстроено только благодаря моим личным усилиям. И вот, когда я стал стар, меня хотят выгнать отсюда в шею!
Серебряков. Я не понимаю, чего ты добиваешься!
Войницкий. Двадцать пять лет я управлял этим имением, работал, высылал тебе деньги, как самый добросовестный приказчик, и за все время ты ни разу не поблагодарил меня. Все время — и в молодости, и теперь — я получал от тебя жалованья пятьсот рублей в год — нищенские деньги! — и ты ни разу не догадался прибавить мне хоть один рубль!
Серебряков. Иван Петрович, почем же я знал? Я человек не практический и ничего не понимаю. Ты мог бы сам прибавить себе, сколько угодно.
Войницкий. Зачем я не крал? Отчего вы все не презираете меня за то, что я не крал? Это было бы справедливо, и теперь я не был бы нищим!
Мария Васильевна (строго). Жан!
Телегин (волнуясь). Ваня, дружочек, не надо, не надо... я дрожу... Зачем портить хорошие отношения? (Целует его.) Не надо.
Войницкий. Двадцать пять лет я вот с этою матерью, как крот, сидел в четырех стенах... Все наши мысли и чувства принадлежали тебе одному. Днем мы говорили о тебе, о твоих работах, гордились тобою, с благоговением произносили твое имя; ночи мы губили на то, что читали журналы и книги, которые я теперь глубоко презираю!
Телегин. Не надо, Ваня, не надо... Не могу...
Серебряков (гневно). Не понимаю, что тебе нужно?
Войницкий. Ты для нас был существом высшего порядка, а твои статьи мы знали наизусть... Но теперь у меня открылись глаза! Я все вижу! Пишешь ты об искусстве, но ничего не понимаешь в искусстве! Все твои работы, которые я любил, не стоят гроша медного! Ты морочил нас!
Серебряков. Господа! Да уймите же его, наконец! Я уйду!
Елена Андреевна. Иван Петрович, я требую, чтобы вы замолчали! Слышите?
Войницкий. Не замолчу! (Загораживая Серебрякову дорогу.) Постой, я не кончил! Ты погубил мою жизнь! Я не жил, не жил! По твоей милости я истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни! Ты мой злейший враг!
Телегин. Я не могу... не могу... Я уйду... (В сильном волнении уходит.)
Серебряков. Что ты хочешь от меня? И какое ты имеешь право говорить со мною таким тоном? Ничтожество! Если имение твое, то бери его, я не нуждаюсь в нем!
Елена Андреевна. Я сию же минуту уезжаю из этого ада! (Кричит.) Я не могу дольше выносить!
Войницкий. Пропала жизнь! Я талантлив, умен, смел... Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский... Я зарапортовался! Я с ума схожу... Матушка, я в отчаянии! Матушка!
Мария Васильевна (строго). Слушайся Александра!
Соня (становится перед няней на колени и прижимается к ней). Нянечка! Нянечка!
Войницкий. Матушка! Что мне делать? Не нужно, не говорите! Я сам знаю, что мне делать! (Серебрякову.) Будешь ты меня помнить! (Уходит в среднюю дверь.)
Мария Васильевна идет за ним.
Серебряков. Господа, что же это такое, наконец? Уберите от меня этого сумасшедшего! Не могу я жить с ним под одною крышей! Живет тут (указывает на среднюю дверь), почти рядом со мною... Пусть перебирается в деревню, во флигель, или я переберусь отсюда, но оставаться с ним в одном доме я не могу...
Елена Андреевна (мужу). Мы сегодня уедем отсюда! Необходимо распорядиться сию же минуту.
Серебряков. Ничтожнейший человек!
Соня (стоя на коленях, оборачивается к отцу; нервно, сквозь слезы). Надо быть милосердным, папа! Я и дядя Ваня так несчастны! (Сдерживая отчаяние.) Надо быть милосердным! Вспомни, когда ты был помоложе, дядя Ваня и бабушка по ночам переводили для тебя книги, переписывали твои бумаги... все ночи, все ночи! Я и дядя Ваня работали без отдыха, боялись потратить на себя копейку и всё посылали тебе... Мы не ели даром хлеба! Я говорю не то, не то я говорю, но ты должен понять нас, папа. Надо быть милосердным!
Елена Андреевна (взволнованная, мужу). Александр, ради бога, объяснись с ним... Умоляю.
Серебряков. Хорошо, я объяснюсь с ним... Я ни в чем его не обвиняю, я не сержусь, но, согласитесь, поведение его по меньшей мере странно. Извольте, я пойду к нему. (Уходит в среднюю дверь.)
Елена Андреевна. Будь с ним помягче, успокой его... (Уходит за ним.)
Соня (прижимаясь к няне). Нянечка! Нянечка!
Марина. Ничего, деточка. Погогочут гусаки — и перестанут... Погогочут — и перестанут...
Соня. Нянечка!
Марина (гладит ее по голове). Дрожишь, словно в мороз! Ну, ну, сиротка, бог милостив. Липового чайку или малинки, оно и пройдет... Не горюй, сиротка... (Глядя на среднюю дверь, с сердцем.) Ишь расходились, гусаки, чтоб вам пусто!
За сценой выстрел; слышно, как вскрикивает Елена Андреевна; Соня вздрагивает.
У, чтоб тебя!
Серебряков (вбегает, пошатываясь от испуга). Удержите его! Удержите! Он сошел с ума!
Елена Андреевна и Войницкий борются в дверях.
Елена Андреевна (стараясь отнять у него револьвер). Отдайте! Отдайте, вам говорят!
Войницкий. Пустите, Hélène! Пустите меня! (Освободившись, вбегает и ищет глазами Серебрякова.) Где он? А, вот он! (Стреляет в него). Бац!
Пауза.
Не попал? Опять промах?! (С гневом.) А, черт, черт... черт бы побрал... (Бьет револьвером об пол и в изнеможении садится на стул.)
Серебряков ошеломлен; Елена Андреевна прислонилась к стене, ей дурно.
Елена Андреевна. Увезите меня отсюда! Увезите, убейте, но... я не могу здесь оставаться, не могу!
Войницкий (в отчаянии). О, что я делаю! Что я делаю!
Соня (тихо). Нянечка! Нянечка!
Занавес
Сноски
2 всех ожидает одна ночь (лат.).
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Комната Ивана Петровича; тут его спальня, тут же и контора имения. У окна большой стол с приходо-расходными книгами и бумагами всякого рода, конторка, шкапы, весы. Стол поменьше для Астрова; на этом столе принадлежности для рисования, краски; возле папка. Клетка со скворцом. На стене карта Африки, видимо, никому здесь не нужная. Громадный диван, обитый клеенкой. Налево — дверь, ведущая в покои; направо — дверь в сени; подле правой двери положен половик, чтобы не нагрязнили мужики. — Осенний вечер. Тишина.
Телегин и Марина сидят друг против друга и мотают чулочную шерсть.
Телегин. Вы скорее, Марина Тимофеевна, а то сейчас позовут прощаться. Уже приказали лошадей подавать.
Марина (старается мотать быстрее). Немного осталось.
Телегин. В Харьков уезжают. Там жить будут.
Марина. И лучше.
Телегин. Напужались... Елена Андреевна «одного часа, говорит, не желаю жить здесь... уедем да уедем... Поживем, говорит, в Харькове, оглядимся и тогда за вещами пришлем...» Налегке уезжают. Значит, Марина Тимофеевна, не судьба им жить тут. Не судьба... Фатальное предопределение.
Марина. И лучше. Давеча подняли шум, пальбу — срам один!
Телегин. Да, сюжет, достойный кисти Айвазовского.
Марина. Глаза бы мои не глядели.
Пауза. Опять заживем, как было, по-старому. Утром в восьмом часу чай, в первом часу обед, вечером — ужинать садиться; все своим порядком, как у людей... по-христиански. (Со вздохом.) Давно уже я, грешница, лапши не ела.
Телегин. Да, давненько у нас лапши не готовили.
Пауза.
Давненько... Сегодня утром, Марина Тимофеевна, иду я деревней, а лавочник мне вслед: «Эй, ты, приживал!» И так мне горько стало!
Марина. А ты без внимания, батюшка. Все мы у бога приживалы. Как ты, как Соня, как Иван Петрович — никто без дела не сидит, все трудимся! Все... Где Соня?
Телегин. В саду. С доктором все ходит, Ивана Петровича ищет. Боятся, как бы он на себя рук не наложил.
Марина. А где его пистолет?
Телегин (шепотом). Я в погребе спрятал!
Марина (с усмешкой). Грехи!
Входят со двора Войницкий и Астров.
Войницкий. Оставь меня. (Марине и Телегину.) Уйдите отсюда, оставьте меня одного хоть на один час! Я не терплю опеки.
Телегин. Сию минуту, Ваня. (Уходит на цыпочках.)
Марина. Гусак: го-го-го! (Собирает шерсть и уходит.)
Войницкий. Оставь меня!
Астров. С большим удовольствием, мне давно уже нужно уехать отсюда, но, повторяю, я не уеду, пока ты не возвратишь того, что взял у меня.
Войницкий. Я у тебя ничего не брал.
Астров. Серьезно говорю — не задерживай. Мне давно уже пора ехать.
Войницкий. Ничего я у тебя не брал.
Оба садятся.
Астров. Да? Что ж, погожу еще немного, а потом, извини, придется употребить насилие. Свяжем тебя и обыщем. Говорю это совершенно серьезно.
Войницкий. Как угодно.
Пауза.
Разыграть такого дурака: стрелять два раза и ни разу не попасть! Этого я себе никогда не прощу!
Астров. Пришла охота стрелять, ну, и палил бы в лоб себе самому.
Войницкий (пожав плечами). Странно. Я покушался на убийство, а меня не арестовывают, не отдают под суд. Значит, считают меня сумасшедшим. (Злой смех.) Я — сумасшедший, а не сумасшедшие те, которые под личиной профессора, ученого мага, прячут свою бездарность, тупость, свое вопиющее бессердечие. Не сумасшедшие те, которые выходят за стариков и потом у всех на глазах обманывают их. Я видел, видел, как ты обнимал ее!
Астров. Да-с, обнимал-с, а тебе вот. (Делает нос.)
Войницкий (глядя на дверь). Нет, сумасшедшая земля, которая еще держит вас!
Астров. Ну, и глупо.
Войницкий. Что ж, я — сумасшедший, невменяем, я имею право говорить глупости.
Астров. Стара штука. Ты не сумасшедший, а просто чудак. Шут гороховый. Прежде и я всякого чудака считал больным, ненормальным, а теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека — это быть чудаком. Ты вполне нормален.
Войницкий (закрывает лицо руками). Стыдно! Если бы ты знал, как мне стыдно! Это острое чувство стыда не может сравниться ни с какою болью. (С тоской.) Невыносимо! (Склоняется к столу.) Что мне делать? Что мне делать?
Астров. Ничего.
Войницкий. Дай мне чего-нибудь! О, боже мой... Мне сорок семь лет; если, положим, я проживу до шестидесяти, то мне остается еще тринадцать. Долго! Как я проживу эти тринадцать лет? Что буду делать, чем наполню их? О, понимаешь... (судорожно жмет Астрову руку) понимаешь, если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому. Проснуться бы в ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что все прошлое забыто, рассеялось, как дым. (Плачет.) Начать новую жизнь... Подскажи мне, как начать... с чего начать...
Астров (с досадой). Э, ну тебя! Какая еще там новая жизнь! Наше положение, твое и мое, безнадежно.
Войницкий. Да?
Астров. Я убежден в этом.
Войницкий. Дай мне чего-нибудь... (Показывая на сердце.) Жжет здесь.
Астров (кричит сердито). Перестань! (Смягчившись.) Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, — те, быть может, найдут средство, как быть счастливыми, а мы... У нас с тобою только одна надежда и есть. Надежда, что когда мы будем почивать в своих гробах, то нас посетят видения, быть может, даже приятные. (Вздохнув.) Да, брат. Во всем уезде было только два порядочных, интеллигентных человека: я да ты. Но в какие-нибудь десять лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас; она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, как все. (Живо.) Но ты мне зубов не заговаривай, однако. Ты отдай то, что взял у меня.
Войницкий. Я у тебя ничего не брал.
Астров. Ты взял у меня из дорожной аптеки баночку с морфием.
Пауза.
Послушай, если тебе, во что бы то ни стало, хочется покончить с собою, то ступай в лес и застрелись там. Морфий же отдай, а то пойдут разговоры, догадки, подумают, что это я тебе дал... С меня же довольно и того, что мне придется вскрывать тебя... Ты думаешь, это интересно?
Входит Соня.
Войницкий. Оставь меня.
Астров (Соне). Софья Александровна, ваш дядя утащил из моей аптеки баночку с морфием и не отдает. Скажите ему, что это... не умно, наконец. Да и некогда мне. Мне пора ехать.
Соня. Дядя Ваня, ты взял морфий?
Пауза.
Астров. Он взял. Я в этом уверен.
Соня. Отдай. Зачем ты нас пугаешь? (Нежно.) Отдай, дядя Ваня! Я, быть может, несчастна не меньше твоего, однако же не прихожу в отчаяние. Я терплю и буду терпеть, пока жизнь моя не окончится сама собою... Терпи и ты.
Пауза.
Отдай! (Целует ему руки.) Дорогой, славный дядя, милый, отдай! (Плачет.) Ты добрый, ты пожалеешь нас и отдашь. Терпи, дядя! Терпи!
Войницкий (достает из стола баночку и подает ее Астрову). На, возьми! (Соне.) Но надо скорее работать, скорее делать что-нибудь, а то не могу... не могу...
Соня. Да, да, работать. Как только проводим наших, сядем работать... (Нервно перебирает на столе бумаги.) У нас все запущено.
Астров (кладет баночку в аптеку и затягивает ремни). Теперь можно и в путь.
Елена Андреевна (входит). Иван Петрович, вы здесь? Мы сейчас уезжаем. Идите к Александру, он хочет что-то сказать вам.
Соня. Иди, дядя Ваня. (Берет Войницкого под руку.) Пойдем. Папа и ты должны помириться. Это необходимо.
Соня и Войницкий уходят.
Елена Андреевна. Я уезжаю. (Подает Астрову руку.) Прощайте.
Астров. Уже?
Елена Андреевна. Лошади уже поданы.
Астров. Прощайте.
Елена Андреевна. Сегодня вы обещали мне, что уедете отсюда.
Астров. Я помню. Сейчас уеду.
Пауза.
Испугались? (Берет ее за руку.) Разве это так страшно?
Елена Андреевна. Да.
Астров. А то остались бы! А? Завтра в лесничестве...
Елена Андреевна. Нет... Уже решено... И потому я гляжу на вас так храбро, что уже решен отъезд... Я об одном вас прошу: думайте обо мне лучше. Мне хочется, чтобы вы меня уважали.
Астров. Э! (Жест нетерпения.) Останьтесь, прошу вас. Сознайтесь, делать вам на этом свете нечего, цели жизни у вас никакой, занять вам своего внимания нечем, и, рано или поздно, все равно поддадитесь чувству — это неизбежно. Так уж лучше это не в Харькове и не где-нибудь в Курске, а здесь, на лоне природы... Поэтично, по крайней мере, даже осень красива... Здесь есть лесничество, полуразрушенные усадьбы во вкусе Тургенева...
Елена Андреевна. Какой вы смешной... Я сердита на вас, но все же... буду вспоминать о вас с удовольствием. Вы интересный, оригинальный человек. Больше мы с вами уже никогда не увидимся, а потому — зачем скрывать? Я даже увлеклась вами немножко. Ну, давайте пожмем друг другу руки и разойдемся друзьями. Не поминайте лихом.
Астров (пожал руку). Да, уезжайте... (В раздумье.) Как будто бы вы и хороший, душевный человек, но как будто бы и что-то странное во всем вашем существе. Вот вы приехали сюда с мужем, и все, которые здесь работали, копошились, создавали что-то, должны были побросать свои дела и все лето заниматься только подагрой вашего мужа и вами. Оба — он и вы — заразили всех нас вашею праздностью. Я увлекся, целый месяц ничего не делал, а в это время люди болели, в лесах моих, лесных порослях, мужики пасли свой скот... Итак, куда бы ни ступили вы и ваш муж, всюду вы вносите разрушение... Я шучу, конечно, но все же... странно, и я убежден, что если бы вы остались, то опустошение произошло бы громадное. И я бы погиб, да и вам бы... не сдобровать. Ну, уезжайте. Finita la comedia!
Елена Андреевна (берет с его стола карандаш и быстро прячет). Этот карандаш я беру себе на память.
Астров. Как-то странно... Были знакомы и вдруг почему-то... никогда уже больше не увидимся. Так и всё на свете... Пока здесь никого нет, пока дядя Ваня не вошел с букетом, позвольте мне... поцеловать вас... На прощанье... Да? (Целует ее в щеку.)Ну, вот... и прекрасно.
Елена Андреевна. Желаю вам всего хорошего. (Оглянувшись.) Куда ни шло, раз в жизни! (Обнимает его порывисто, и оба тотчас же быстро отходят друг от друга.) Надо уезжать.
Астров. Уезжайте поскорее. Если лошади поданы, то отправляйтесь.
Елена Андреевна. Сюда идут, кажется.
Оба прислушиваются.
Астров. Finita!
Входят Серебряков, Войницкий, Мария Васильевна с книгой, Телегин и Соня.
Серебряков (Войницкому). Кто старое помянет, тому глаз вон. После того, что случилось, в эти несколько часов я так много пережил и столько передумал, что, кажется, мог бы написать в назидание потомству целый трактат о том, как надо жить. Я охотно принимаю твои извинения и сам прошу извинить меня. Прощай! (Целуется с Войницким три раза.)
Войницкий. Ты будешь аккуратно получать то же, что получал и раньше. Все будет по-старому.
Елена Андреевна обнимает Соню.
Серебряков (целует у Марии Васильевны руку). Maman...
Мария Васильевна (целуя его). Александр, снимитесь опять и пришлите мне вашу фотографию. Вы знаете, как вы мне дороги.
Телегин. Прощайте, ваше превосходительство! Нас не забывайте!
Серебряков (поцеловав дочь). Прощай... Все прощайте! (Подавая руку Астрову.) Благодарю вас за приятное общество... Я уважаю ваш образ мыслей, ваши увлечения, порывы, но позвольте старику внести в мой прощальный привет только одно замечание: надо, господа, дело делать! Надо дело делать! (Общий поклон.) Всего хорошего! (Уходит; за ним идут Мария Васильевна и Соня.)
Войницкий (крепко целует руку у Елены Андреевны). Прощайте... Простите... Никогда больше не увидимся.
Елена Андреевна (растроганная). Прощайте, голубчик. (Целует его в голову и уходит.)
Астров (Телегину). Скажи там, Вафля, чтобы заодно кстати подавали и мне лошадей.
Телегин. Слушаю, дружочек. (Уходит.)
Остаются только Астров и Войницкий.
Астров (убирает со стола краски и прячет их в чемодан). Что же ты не идешь проводить?
Войницкий. Пусть уезжают, а я... я не могу. Мне тяжело. Надо поскорей занять себя чем-нибудь... Работать, работать! (Роется в бумагах на столе.)
Пауза; слышны звонки.
Астров. Уехали. Профессор рад, небось. Его теперь сюда и калачом не заманишь.
Марина (входит). Уехали. (Садится в кресло и вяжет чулок.)
Соня (входит). Уехали. (Утирает глаза.) Дай бог благополучно. (Дяде.) Ну, дядя Ваня, давай делать что-нибудь.
Войницкий. Работать, работать...
Соня. Давно, давно уже мы не сидели вместе за этим столом. (Зажигает на столе лампу.) Чернил, кажется, нет... (Берет чернильницу, идет к шкапу и наливает чернил.) А мне грустно, что они уехали.
Мария Васильевна (медленно входит). Уехали! (Садится и погружается в чтение.)
Соня (садится за стол и перелистывает конторскую книгу). Напишем, дядя Ваня, прежде всего счета. У нас страшно запущено. Сегодня опять присылали за счетом. Пиши. Ты пиши один счет, я — другой...
Войницкий (пишет). «Счет... господину...»
Оба пишут молча.
Марина (зевает). Баиньки захотелось...
Астров. Тишина. Перья скрипят, сверчок кричит. Тепло, уютно... Не хочется уезжать отсюда.
Слышны бубенчики. Вот подают лошадей... Остается, стало быть, проститься с вами, друзья мои, проститься со своим столом и — айда! (Укладывает картограммы в папку.)
Марина. И чего засуетился? Сидел бы.
Астров. Нельзя.
Войницкий (пишет). «И старого долга осталось два семьдесят пять...»
Входит работник.
Работник. Михаил Львович, лошади поданы.
Астров. Слышал. (Подает ему аптечку, чемодан и папку.) Вот, возьми это. Гляди, чтобы не помять папку.
Работник. Слушаю. (Уходит.)
Астров. Ну-с... (Идет проститься.)
Соня. Когда же мы увидимся?
Астров. Не раньше лета, должно быть. Зимой едва ли... Само собою, если случится что, то дайте знать — приеду. (Пожимает руки.) Спасибо за хлеб, за соль, за ласку... одним словом, за все. (Идет к няне и целует ее в голову.) Прощай, старая.
Марина. Так и уедешь без чаю?
Астров. Не хочу, нянька.
Марина. Может, водочки выпьешь?
Астров (нерешительно). Пожалуй...
Марина уходит.
(После паузы.) Моя пристяжная что-то захромала. Вчера еще заметил, когда Петрушка водил поить.
Войницкий. Перековать надо.
Астров. Придется в Рождественном заехать к кузнецу. Не миновать. (Подходит к карте Африки и смотрит на нее.) А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарища — страшное дело!
Войницкий. Да, вероятно.
Марина (возвращается с подносом, на котором рюмка водки и кусочек хлеба). Кушай.
Астров пьет водку.
На здоровье, батюшка. (Низко кланяется.) А ты бы хлебцем закусил.
Астров. Нет, я и так... Затем, всего хорошего! (Марине.) Не провожай меня, нянька. Не надо.
Он уходит; Соня идет за ним со свечой, чтобы проводить его; Марина садится в свое кресло.
Войницкий (пишет). «Второго февраля масла постного двадцать фунтов... Шестнадцатого февраля опять масла постного двадцать фунтов... Гречневой крупы...»
Пауза. Слышны бубенчики.
Марина. Уехал.
Пауза.
Соня (возвращается, ставит свечу на стол). Уехал...
Войницкий (сосчитал на счетах и записывает). Итого... пятнадцать... двадцать пять...
Соня садится и пишет.
Марина (зевает). Ох, грехи наши...
Телегин входит на цыпочках, садится у двери и тихо настраивает гитару.
Войницкий (Соне, проведя рукой по ее волосам). Дитя мое, как мне тяжело! О, если б ты знала, как мне тяжело!
Соня. Что же делать, надо жить!
Пауза.
Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой — и отдохнем. Я верую, дядя, я верую горячо, страстно...
(Становится перед ним на колени и кладет голову на его руки; утомленным голосом.) Мы отдохнем!
Телегин тихо играет на гитаре.
Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую... (Вытирает ему платком слезы.) Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь... (Сквозь слезы.) Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди... Мы отдохнем... (Обнимает его.) Мы отдохнем!
Стучит сторож.
Телегин тихо наигрывает; Мария Васильевна пишет на полях брошюры; Марина вяжет чулок.
Мы отдохнем!
Занавес медленно опускается
Примечания
- Стр. 71. У Островского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми способностями... — Паратов в «Бесприданнице» А. Н. Островского так представлял себя Карандышеву (д. II, явл. 9). Предыдущие слова Астрова («Где уж... куда уж...») напоминают манеру речи Анфусы Тихоновны из другой пьесы Островского — «Волки и овцы».
- Стр. 83. Она прекрасна, спора нет... — У Пушкина в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» зеркальце отвечает царице: «Ты прекрасна, спору нет».
- Стр. 99. Я пригласил вас, господа ~ едет ревизор. — Слова Городничего в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (д. I, явл. 1).
- ...manet omnes una nox... — Из оды Горация (кн. 1, ода 28).
ДЯДЯ ВАНЯ
Впервые — сборник «Пьесы». СПб., изд. А. С. Суворина, 1897.
С небольшими изменениями вошло в том «Пьесы» марксовского издания — т. VII1 (1901).
С того же стереотипа перепечатано во втором, дополненном издании тома — т. VII2 (1902). Одновременно часть тиража выпущена отдельным изданием: Антон Чехов. Дядя Ваня. Сцены из деревенской жизни. В четырех действиях. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1902 (ценз. разр. 15 марта 1902 г.).
Сохранился лист рукописи (беловой автограф) с текстом заключительной сцены пьесы, со слов: «Соня (возвращается, ставит свечу на стол). Уехал...» (ЦГАЛИ).
Печатается по тексту: Чехов, т. VII2, стр. 203—258.
1
Пьеса возникла в результате коренной переработки комедии «Леший», созданной в 1889—1890 гг. Точная дата начала работы над «Дядей Ваней» неизвестна. В настоящем издании пьеса отнесена к 1896 году — ко времени окончательного завершения авторской работы над ней.
Хотя Чехов написал по существу совершенно новую пьесу, в нее перешли из «Лешего» и основные действующие лица (Войницкий, Серебряков, Соня, Елена Андреевна, Мария Васильевна), и многие сюжетные ситуации, наконец, целые куски первоначального текста.
Внешнее сходство «Дяди Вани» с «Лешим» позволяло современникам характеризовать «Лешего» как «предтечу» «Дяди Вани», как его первоначальный «вариант», его раннюю «версию». Актер Малого театра А. И. Сумбатов (Южин), ознакомившись с только что напечатанным «Дядей Ваней», запрашивал Чехова: «„Дядя Ваня“ — „Леший“?» (май 1897 г. — ГБЛ). Давний почитатель «Лешего» А. И. Урусов с огорчением писал Чехову, прочитав «Дядю Ваню»: «...Вы <...> испортили „Лешего“» (27 января 1899 г. — Слово, стр. 288). М. П. Чехова тоже сближала в своем восприятии обе пьесы и по поводу «Лешего» однажды заметила: «„Леший“, позднее „Дядя Ваня“» (Письма, стр. 179).
В 1901 г. в Обществе русских драматических писателей и оперных композиторов при обсуждении пьес для выдвижения «лучшего оригинального драматического произведения» прошедшего года на Грибоедовскую премию судьи единогласно согласились, что премию надо выдать Чехову за «Дядю Ваню». Однако комитет общества разъяснил, что эта пьеса «рассмотрению не подлежит», поскольку «является переделкой его же драмы „Леший“, рассмотренной уже в тот год, когда она была поставлена в Москве на сцене Шелапутинского театра...» («Новое время», 1901, 24 мая, № 9057).
Это прочно укоренившееся в представлении современников устойчивое сближение и даже идентификация обеих пьес, «Лешего» и «Дяди Вани», первоосновы пьесы и ее окончательной версии, отразилось, видимо, также и на известных замечаниях самого Чехова по поводу датировки «Дяди Вани». В 1898 г. на вопрос корреспондента газеты по поводу «Дяди Вани» он заявил: «Это — очень давно мною написанная вещь, чуть не лет десять» («Новости дня», 1898, 4 августа, № 5452, отд. Театральная хроника). То же Чехов говорил и М. Горькому: «„Дядя Ваня“ написан давно, очень давно» (3 декабря 1898 г.). «Пьеса давняя, она уже устарела...» — повторял он О. Л. Книппер (1 ноября 1899 г.).
На вопрос С. П. Дягилева, просившего указать хронологию произведений, включенных в том «Пьес» издания А. Ф. Маркса, Чехов ответил с видимой определенностью: «В VII томе помещены пьесы: „Иванов“, 1888 г., „Чайка“, 1896, „Дядя Ваня“, 1890» (20 декабря 1901 г.). Однако здесь, видимо, им обозначены не даты создания этих пьес, а лишь хронология их первых публикаций. Ведь «Иванов» написан на самом деле не в 1888 г., а в 1887 г., но первое литографированное издание пьесы вышло в свет действительно в 1888 г. — как указано в письме. «Чайка» создана не в 1896 г., а годом раньше, но завершена и опубликована именно в 1896 г. Ясно, что выставленный под «Дядей Ваней» год тоже должен обозначать дату первой публикации пьесы. В таком случае указанный Чеховым 1890 г. вместо действительного 1897 г. (когда «Дядя Ваня» впервые увидел свет) можно объяснить только тем, что началом работы над «Дядей Ваней» Чехов, как и другие, считал время создания его первоосновы, то есть «Лешего», завершенного и опубликованного как раз в 1890 г., — пьесы, которую он вскоре невзлюбил, всеми силами противился ее перепечатке и которая, однако, послужила затем толчком к написанию «Дяди Вани».
Ряд фактов подтверждает, что Чехов взялся за переделку «Лешего» не ранее середины 90-х гг., вернее всего — осенью 1896 г., когда готовился к изданию сборник «Пьесы», в котором «Дядя Ваня» появился впервые.
Именно для середины, а не для начала 90-х гг. характерен мелкий и прямой почерк Чехова, которым написан единственный сохранившийся лист рукописи «Дяди Вани».
В тексте пьесы использованы записи из дневника и записных книжек Чехова, относящиеся к августу — октябрю 1896 г. Так, ироническая характеристика Серебрякова в отзыве Войницкого из сцены I акта («Жарко, душно, а наш великий ученый в пальто, в калошах, с зонтиком и перчатках») основана на дневниковой записи Чехова, сделанной в Мелихове около 20 августа 1896 г. в связи с приездом М. О. Меньшикова: «М. в сухую погоду ходит в калошах, носит зонтик, чтобы не погибнуть от солнечного удара, боится умываться холодной водой, жалуется на замирание сердца».
Одно из высказываний Астрова в IV акте пьесы («Прежде и я всякого чудака считал больным, ненормальным, а теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека — быть чудаком») почти дословно совпадает с другой записью Чехова, сделанной в сентябре 1896 г. («Чудаки ему прежде казались больными. А теперь он считает нормальным, что люди чудаки» — Зап. кн. II, стр. 44) и, особенно, с видоизмененной редакцией той же записи, которую Чехов вписал приблизительно в октябре 1896 г. в Записную книжку I (стр. 69), куда он переносил только те записи, которые к тому времени не были еще им использованы: «Чудаки казались ему прежде больными, а теперь он считает, что это нормальное состояние у человека быть чудаком» (см. т. XVII Сочинений; ср. также в кн.: В. Лакшин. Толстой и Чехов. М., 1963, стр. 208—209).
Сама форма драматического повествования в «Дяде Ване» — без членения текста на явления — также указывает на то, что пьеса эта написана в середине 90-х гг., во всяком случае — после 1892 г. Во всех ранее созданных пьесах, включая «Лешего», вплоть до «Юбилея», опубликованного в 1892 г., Чехов неизменно придерживался традиционного способа подачи драматического текста — с обозначением каждого явления и действующих лиц, участвующих в нем. Этот принцип твердо соблюден Чеховым в сборнике «Пьесы» в текстах всех ранее написанных им произведений. И лишь две пьесы были оформлены в нем по-новому: «Чайка» и напечатанный вслед за ней «Дядя Ваня».
В письмах Чехова за 1895 г., когда уже была создана «Чайка», еще нет никаких упоминаний о «Дяде Ване». 21 ноября 1895 г. он известил А. И. Урусова, что накануне «кончил новую пьесу» (то есть «Чайку») и просил «взять на себя труд прочесть» ее. В том же письме, отвечая на просьбу Урусова разрешить перепечатку «Лешего», он объяснял, что прежде должен «добыть» и «прочесть» эту пьесу. Если бы к этому времени «Дядя Ваня» был написан, Чехов вряд ли мог умолчать об уже переработанной редакции «Лешего» — пьесы, к которой Урусов был неравнодушен и которую всегда ставил высоко. Очевидно, другой «новой пьесы», помимо «Чайки», тогда еще просто не существовало.
В то же время сохранилось свидетельство очевидца, что Чехов перерабатывал «Лешего» годом позже — в 1896 г. Рассказывая о своей встрече с Чеховым в Мелихове весной 1897 г. и беседах о его последних произведениях, И. Л. Леонтьев (Щеглов) упоминает о создании «Дяди Вани» как событии, совершившемся как раз незадолго до того: «Кстати сказать, около этого времени А. П. перерабатывал своего неудачного „Лешего“, из каковой переработки, как известно, получилась его лучшая драматическая вещь „Дядя Ваня“...» (Ив. Щеглов. Из воспоминаний об Антоне Чехове. — «Нива». Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения, 1905, № 7, стлб. 402; Чехов в воспоминаниях, 1954, стр. 171).
Между «Лешим» и «Дядей Ваней», по воспоминанию другого мемуариста, прошло по крайней мере несколько лет. М. П. Чехов в связи с постановкой «Лешего» на сцене театра Абрамовой (декабрь 1889 г. — январь 1890 г.) писал: «Брат Антон тогда же снял „Лешего“ с репертуара, долго держал его в столе, не разрешая его ставить нигде, и только несколько лет спустя переделал его до неузнаваемости, дав ему совершенно другую структуру и заглавие. Получился „Дядя Ваня“» (Вокруг Чехова, стр. 200). В другой работе тот же автор, говоря о пьесе «Леший», опять-таки утверждал, что Чехов «долго держал ее под спудом» (Михаил Чехов. Об А. П. Чехове. — «Журнал для всех», 1906, № 7, стр. 412).
Наиболее вероятно, таким образом, что «Дядя Ваня» написан в конце 1896 г. — после завершения «Чайки», но до ее премьеры, состоявшейся 17 октября 1896 г. Под свежим впечатлением от ее провала Чехов не мог, конечно, приняться за новую пьесу. Он говорил тогда с чувством досады и огорчения: «Ах, зачем я писал пьесы, а не повести! Пропали сюжеты, пропали зря, со скандалом, непроизводительно» (А. С. Суворину, 7 декабря 1896 г.). Даже получив утешительные письма по поводу «Чайки» и работая над корректурой сборника «Пьесы», он снова повторял в письме к Суворину: «Вы и Кони доставили мне письмами немало хороших минут, но все же душа моя точно луженая, я не чувствую к своим пьесам ничего, кроме отвращения, и через силу читаю корректуру» (14 декабря 1896 г.).
В литературе о Чехове датировка «Дяди Вани» 1896-м годом может считаться традиционной. Большинство исследователей склоняется к выводу, что пьеса создана именно в это время: «по некоторым догадкам, уже после окончания „Чайки“» (Н. Эфрос. Забытая пьеса Чехова. — «Рампа и жизнь», 1910, № 51 от 19 декабря, стр. 833); «после написания „Чайки“ <...> но до постановки ее на Александринской сцене» (С. Балухатый. Этюды по истории текста и композиции чеховских пьес. — В сб.: «Поэтика». Л., 1926, стр. 148); «вероятно, в 1896» (комментарий А. Дермана в кн.: Переписка с Книппер, т. 1, стр. 104); «в августе-сентябре 1896 года» (В. Лакшин. Толстой и Чехов. М., 1963, стр. 209); «не ранее 1895 года, а скорее всего в 1896 году» (Г. Бердников. Чехов-драматург. М., 1972, стр. 170). Отмечалось также, что и по своим «идейно-художественным особенностям» «Дядя Ваня» «стоит ближе к произведениям не начала, а середины девяностых годов» (там же).
Н. И. Гитович сначала тоже датировала пьесу концом 1896 г. (см.: А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. 16. М., 1949, стр. 549), однако затем высказала предположение, что Чехов приступил к переделке «Лешего» не в 1896 г., а сразу после его завершения, то есть «в марте-апреле 1890 г.» (Летопись, стр. 282) или скорее даже «не ранее апреля» (Н. Гитович. Когда же был написан «Дядя Ваня»? — «Вопросы литературы», 1965, № 7, стр. 136).
Одним из доводов в пользу такой передатировки послужило обнаруженное письмо П. М. Свободина от 9 апреля 1890 г., в котором он, отвечая собирающемуся ехать на Сахалин Чехову (его письмо не сохранилось), сообщал: «...Погожев мне сказал, что для принятия и постановки на сцену „имеющих быть“ написанными пиес по дороге на Сахалин достаточно будет простого письма ко мне, и бланок (условий) подписывать не нужно. В письме, которое Вы можете написать и до отъезда, Вы скажете, что такую-то пьесу (оставьте место для вписания названия) Вы доверяете подать в Комитет <...> такому-то — вот и все. Для пущего успеха можете написать два-три таких письма на случай, если напишутся две-три пьесы. Впрочем, может быть, я и вышлю Вам эти самые бланки, если уж Вам так хочется» (Записки ГБЛ, вып. 16, стр. 219).
Однако если бы Чехов действительно задумывал тогда переработку «Лешего», он, разумеется, не стал бы скрывать этого от Свободина, которому ранее на всех этапах работы над этой пьесой доверительно сообщал малейшие подробности. Между тем, в письме «Леший» даже не назван и ни слова не сказано о переделке какой-либо пьесы. В нем речь идет скорее о замысле какой-то новой пьесы или даже «двух-трех» пьес, не имевших еще заглавий, которые Чехов, как понял его Свободин, мог написать «по дороге на Сахалин». И меньше всего это могло относиться к переделке «Лешего» в ближайшее время: ведь в этом случае Чехов, конечно, не стал бы торопиться с публикацией пьесы; однако перед самым отъездом на Сахалин он отдал рукопись «Лешего» С. Ф. Рассохину для литографирования и поставил тем самым точку в работе над пьесой.
Сомнительно также свидетельство Вл. И. Немировича-Данченко, который писал в своих воспоминаниях: «От „Лешего“ до „Чайки“ шесть-семь лет. За это время появился „Дядя Ваня“» (Из прошлого, стр. 48). Мемуарист тут же сам признается, что плохо помнит обстоятельства появления этих пьес Чехова: «Никак не могу вспомнить, когда и как он изъял из обращения одну и когда и где напечатал другую. Помню „Дядю Ваню“ уже в маленьком сборнике пьес. Может быть, это и было первое появление в свет» (там же, стр. 48—49).
Первое упоминание Чехова о «Дяде Ване» содержалось в письме к Суворину 2 декабря 1896 г. и было сделано в связи с подготовкой к печати сборника «Пьесы»: «...остались еще не набранными две большие пьесы: известная Вам „Чайка“ и неизвестный никому в мире „Дядя Ваня“».
За два месяца до этого он сообщал актрисе М. А. Крестовской: «Пьесы свои я печатаю в типографии Суворина, и скоро (через 1—1½ месяца) они выйдут отдельной книжкой» (10 октября 1896 г.). «Дядя Ваня», видимо, тогда еще не был завершен окончательно, так как в типографию сначала были отосланы только первые три пьесы, открывавшие сборник: «Медведь», «Предложение», «Иванов» (в типографию Суворина, октябрь 1896 г.). Текст «Дяди Вани» Чехов отослал позднее, вероятно, в начале декабря. В письме от 7 декабря 1896 г. он просил Суворина распорядиться о наборе этой пьесы и затем добавлял: «Нельзя ли набрать ее всю? Когда прочтешь ее всю, то легче исправлять и можно решить, годится ли она для того, чтобы переделать ее в повесть». Последнюю корректуру «Дяди Вани» Чехов отослал в типографию 18 января 1897 г.
Однако публикация сборника «Пьесы» задержалась. Служивший в типографии К. С. Тычинкин объяснял Чехову через два месяца: «Ваши пьесы давно уже отпечатаны, но дело замешкалось с опубликованием „одобрения“ в „Правительственном вестнике“. Теперь и оно появилось, но почему-то не попала туда одна пьеса, именно „Дядя Ваня“, и я хлопочу выяснить это затруднение» (20 марта 1897 г. — ГБЛ). Сообщая 15 апреля о выходе «Пьес», Тычинкин писал: «...я не сразу сообразил, что надо о „Дяде Ване“ подумать заблаговременно, вот и вышла путаница. Теперь все кончилось благополучно, и одобрение получено...» (там же).
При подготовке издания сочинений Чехов внес в текст «Дяди Вани» небольшие изменения: было исключено упоминание о вегетарианстве Астрова («Он и мяса не ест» и т. д.); смягчен отзыв о Серебрякове как «ученой вобле»; в сцене последнего свидания Астрова с Еленой Андреевной кульминационный прощальный поцелуй передвинут на самый конец эпизода.
В персонажах «Дяди Вани» современники узнавали реальных лиц, являвшихся их прототипами. А. Епифанский указывал при этом на лиц, с которыми Чехов встречался летом 1889 г. и 1890 г. во время пребывания на Луке в усадьбе Линтваревых: «В Сумах вам могут указать на героев Чехова... Назовут Соню, профессора Серебрякова, Вафлю...» (А. Епифанский. А. П. Чехов в Харьковской губернии (Странички из воспоминаний о Чехове). — «Солнце России», 1911, № 35 (37), июль, стр. 3).
М. П. Чехов в Соне усматривал сходство с сестрой Марией Павловной. В одном из писем к ней он замечал по поводу «Дяди Вани»: «Ах, какая это превосходная пьеса! Насколько не люблю „Иванова“, настолько мне нравится „Ваня“. Какой великолепный конец! И как в этой пьесе я увидел нашу милую, бедную, самоотверженную Машету!» (22 ноября 1899 г. — в кн.: С. М. Чехов. О семье Чеховых. Ярославль, 1970, стр. 174).
По мнению А. И. Сувориной, в пьесе отразились отношения, сложившиеся в ее семье. После одного из спектаклей «Дяди Вани» в Петербурге на гастролях Художественного театра она писала Чехову: «Знаю его наизусть и хохочу постоянно, у людей это вызывает раздумье и меланхолию, а у меня смех, так как много-много моих близких вижу и слышу» (апрель 1903 г. — ГБЛ).
Прототипом Серебрякова мог послужить, по предположению В. Я. Лакшина, известный педант-прогрессист, народник С. Н. Южаков (указ. соч., изд. 2, стр. 411).
2
Первоначально Чехов предполагал поставить «Дядю Ваню» на сцене московского Малого театра. Эту мысль подал ему А. И. Сумбатов (Южин), в мае 1897 г. ознакомившийся с пьесой и обещавший свою поддержку: «Слушай, надо непременно добиться постановки у нас или „Чайки“ или „Дяди Вани“. Напиши несколько строчек Пчельникову (Павел Михайлович, Контора моск<овских> и<мператорских> т<еатров>, его п<ревосходительст>во). Я поддержу всеми силами» (ГБЛ). Поэтому когда осенью 1897 г. к Чехову обратился Ф. А. Корш с просьбой дать «Дядю Ваню» в его театр, Чехов отказал ему (М. П. Чеховой, 4 октября 1897 г.).
В декабре 1898 г., сразу же после успеха «Чайки» на сцене Художественного театра, Немирович-Данченко заявил Чехову, что теперь хотел бы поставить и другую его пьесу: «Даешь ли „Дядю Ваню“?» (18—21 декабря 1898 г. — Избранные письма, стр. 148). Об этом он снова напомнил Чехову 3 февраля 1899 г.: «Что же ты не даешь разрешения на „Дядю Ваню“» (Ежегодник МХТ, стр. 116). Чехов ответил, что уже «словесно обещал его Малому театру» и просил «навести справку» и выяснить: «намерен ли Малый театр поставить в будущем сезоне „Дядю Ваню“?» (8 февраля 1899 г.).
Видимо, прямым и несколько неожиданным результатом разузнаваний Немировича-Данченко явилось официальное обращение к Чехову режиссера Малого театра А. М. Кондратьева, который писал ему около 16 февраля 1899 г.: «Дирекция императорских московских театров поручила мне как исправляющему, за болезнью С. А. Черневского, должность главного режиссера, обратиться к Вам с покорнейшей просьбою разрешить поставить в будущем сезоне Вашу пьесу „Дядя Ваня“ на сцене Малого театра <...> К просьбе дирекции я имею поручение присоединить и просьбу всех артистов нашего Малого театра: доверить им исполнение Вашей пьесы» (письмо без даты — ГБЛ). На это письмо Чехов ответил согласием: «Пьесу свою „Дядя Ваня“ отдаю в Ваше распоряжение. Так как она не читалась еще в Театрально-литературном комитете, то прошу взять на себя труд послать в комитет два экземпляра и попросить прочесть» (20 февраля 1899 г.; см. также письма М. П. Чеховой, 19 февраля; И. И. Орлову, 22 февраля; В. И. Соболевскому, 5 марта; А. С. Суворину, 8 марта 1899 г.).
Читка пьесы состоялась 1 марта 1899 г. на квартире управляющего Московской конторой императорских театров В. А. Теляковского в присутствии режиссера Кондратьева и ведущих артистов Малого театра: О. А. Правдина, К. Н. Рыбакова, М. П. Садовского, Сумбатова (Южина), М. Н. Ермоловой, Е. К. Лешковской и О. О. Садовской. Чехов находился в это время в Ялте. По воспоминанию Теляковского, «пьеса понравилась, и решено было включить ее в репертуар будущего года, предварительно направив ее на рассмотрение, согласно правилам, в Театрально-литературный комитет» (В. А. Теляковский. Воспоминания. Л. — М., 1965, стр. 94; см. также его дневниковую запись от 1 марта 1899 г. — ЛН, т. 68, стр. 512).
Однако Театрально-литературный комитет (в составе профессоров Н. И. Стороженко, Алексея Н. Веселовского, И. И. Иванова) безусловного согласия на постановку пьесы не дал. В его решении говорилось: «По обсуждении пьесы, московское отделение Театрально-литературного комитета большинством голосов признало ее заслуживающей постановки на сцене императорских театров под условием незначительных сокращений и переделок, согласно указаний отделения Комитета, и вторичного представления в Комитет» («Выписка из протокола заседания московского отделения Театрально-литературного комитета» от 20 марта 1899 г. — ЦГИА, ф. 497, оп. 10, ед. хр. 655, л. 7). Подобные оговорки о «сокращениях» и «переделках» фактически означали, что пьеса была Комитетом забракована.
В неопубликованном тексте воспоминаний Теляковского сообщались подробности голосования в Комитете: «Веселовский и Иванов были против, Стороженко за, и если бы присутствовал В. И. Немирович, то пьеса бы прошла, ибо у председателя Стороженко было два голоса — но он не пришел, и пьеса не прошла» (ГЦТМ, ф. 280, ед. хр. 1328, л. 101).
Немирович-Данченко действительно уже ряд лет официально числился членом Театрально-литературного комитета, однако, став директором открывшегося осенью 1898 г. Художественного театра, посчитал невозможным оставаться в его составе, и на заседание 20 марта 1899 г. не пришел. По этому поводу он писал вскоре известному театральному критику С. В. Флерову-Васильеву: «Из Театрально-литературного комитета я просился уже два года, фактически вышел еще в октябре <1898>, т. е. не присутствовал ни на одном заседании и не брал причитающегося мне гонорара...» (письмо без даты, за 1899 г.; Т. М. Ельницкая. Неопубликованные письма и рецензии Вл. И. Немировича-Данченко (из материалов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина). — В сб.: Научно-теоретическая конференция о наследии Вл. И. Немировича-Данченко. М., 1960, стр.162).
12 апреля 1899 г. Чехов приехал из Ялты в Москву и неофициально получил копию Протокола заседания Театрально-литературного комитета от 8 апреля. В этом пространном документе говорилось, в частности, о пьесе: «...сценическая ее сторона представляет известные неровности, или пробелы. До третьего акта дядя Ваня и Астров как бы сливаются в один тип неудачника, лишнего человека, который вообще удачно обрисовывается в произведениях г. Чехова. Ничто не подготовляет нас к тому сильному взрыву страсти, который происходит во время разговора с Еленой <...> Несколькими подготовительными штрихами можно было бы отнять у признания Астрова слишком резкую внезапность <...> Что Войницкий мог невзлюбить профессора как мужа Елены, понятно; что его поучения и мораль его раздражают, также естественно, но разочарование в научном величии Серебрякова, к тому же именно историка искусства, несколько странно <...> это еще не поводы к тому, чтоб преследовать его пистолетными выстрелами, гоняться за ним в состоянии невменяемости. Если зритель свяжет это состояние с тем похмельем, в котором автор почему-то слишком часто показывает и дядю Ваню и Астрова, неприятное и неожиданное введение этих двух выстрелов в ход пьесы получит совсем особую и нежелательную окраску. — Характер Елены нуждался бы в несколько большем выяснении <...> На сцене, быть может, главное женское лицо, причина стольких тревог и драм, наделенное „нудным“ характером, не вызовет интереса в зрителе. В пьесе встречаются длинноты; в литературном отношении это часто очень тонко выполненные детали, на сцене же они затянут действие без пользы для него. Таково, например, в первом действии пространное, распределенное между Соней и Астровым, восхваление лесов и объяснение астровской теории лесоразведения, таково объяснение картограммы, таково даже прекрасно придуманное изображение затишья после отъезда Елены с мужем, в конце пьесы, и последние мечтания Сони. В этой заключительной сцене, наступающей после того как главный драматический интерес исчерпан, контраст следовало бы свести к краткому, существенно необходимому и оттого еще сильнее действующему размеру» (ГЦТМ, ф. 280, ед. хр. 1169, Приложение 17; ср. также: В. А. Теляковский. Воспоминания. Л. — М., 1965, стр. 94—96. Другой экземпляр Протокола, направленный в Дирекцию императорских театров 30 мая 1899 г., сохранился в ЦГИА — ф. 497, оп. 10. ед. хр. 618, лл. 58—61).
13 апреля 1899 г. Чехов получил от Теляковского письмо с приглашением зайти и «переговорить» о пьесе (ГБЛ). Из записей в дневнике Теляковского видно, что Чехов был у него 21 апреля 1899 г. (ГЦТМ, ф. 280, ед. хр. 1276, л. 120 об.; ср. ЛН, т. 68, стр. 512). В своих «Воспоминаниях» он также рассказал об этом посещении: «21-го апреля А. П. Чехов зашел ко мне в контору и лично передал мне копию с упомянутого протокола, на котором его рукой были сделаны несколько пометок и виде вопросительных знаков и подчеркнутых фраз — смысл которых обратил его внимание1. Я был очень взволнован, говорил, что надо что-нибудь предпринять, чтобы выйти из этого глупого положения, извинялся за ученый комитет наш. Чехов был совершенно хладнокровен. Передавая в мое полное распоряжение копию протокола <...> он просил меня не поднимать шума из-за факта забракования его пьесы, сказал, что конечно ничего переделывать в пьесе не будет — ибо она уже издана 5 лет тому назад и ее многие в этой редакции читали, и чтобы меня успокоить — дал мне слово написать специально для Малого театра новую пьесу к осени» (там же, ед. хр. 1328, лл. 104—105).
«Дядю Ваню» Чехов отдал после этого Художественному театру. М. П. Чехова сообщала ему о предложении Немировича-Данченко: «Так как Художественный театр был огорчен, что пьеса пойдет на Малой сцене, то Немирович и решил так: переделывать ты пьесу не станешь, а он в своем театре поставит ее без переделки, потому что находит ее великолепной и т. д. Станиславскому она нравится больше „Чайки“» (26 марта 1899 г. — Письма М. Чеховой, стр. 114—115; см. ответное письмо Чехова от 29 марта 1899 г.). 9 мая о своем решении Чехов официально уведомил секретаря Общества русских драматических писателей и оперных композиторов: «...пьесу свою „Дядя Ваня“ я отдал Вл. Ив. Немировичу-Данченко для Художественного общедоступного театра (сезон 1899—1900)».
Работа над спектаклем началась в Художественном театре сразу же — весной 1899 г. Читка пьесы состоялась у Немировича-Данченко в начале мая (до 7-го), о чем он известил Чехова запиской без даты (Летопись, стр. 566). В следующем письме от середины мая он сообщал: «„Дядю Ваню“ мы всё еще читаем. Произошла перетасовка ролей. Алексеев и Вишневский поменялись» (Ежегодник МХТ, стр. 117). Об этом эпизоде Станиславский впоследствии замечал: «...<роль Астрова> я не любил вначале и не хотел играть, так как всегда мечтал о другой роли — самого дяди Вани. Однако Владимиру Ивановичу удалось сломить мое упрямство и заставить полюбить Астрова» («Моя жизнь в искусстве». — Станиславский, т. 1, стр. 231).
Репетиция 24 мая 1899 г. состоялась в присутствии Чехова, который писал прямо с репетиции хорошо знакомому врачу П. И. Куркину, служившему в губернском санитарном бюро московского земства: «...в третьем акте понадобится картограмма. Будьте добры, подберите подходящую и дайте на подержание или пообещайте дать подходящую, когда найдется таковая среди ненужных Вам». На этом письме Куркин позднее сделал запись: «Картограмма, о которой писал Ант. П., была изготовлена на бланковых картах Серпуховского уезда (с селом Мелиховым в центре). Она понравилась А. П. и фигурировала на представлениях „Дяди Вани“» (ГБЛ).
О своем впечатлении от этой репетиции Чехов вскоре сообщал в Таганрог: «Я видел на репетиции два акта, идет замечательно» (Г. М. Чехову, 2 июня 1899 г.).
Станиславский впоследствии вспоминал, как актеры старались получить от Чехова различные указания об исполнении его пьесы: «Мы, конечно, пользовались каждым случаем, чтобы говорить о „Дяде Ване“, но на наши вопросы А. П. отвечал коротко:
— Там же все написано.
Однако один раз он высказался определенно. Кто-то говорил о виденном в провинции спектакле „Дяди Вани“. Там исполнитель заглавной роли играл его опустившимся помещиком, в смазных сапогах и в мужицкой рубахе. Так всегда изображают русских помещиков на сцене.
Боже, что сделалось с А. П. от этой пошлости!
— Нельзя же так, послушайте. У меня же написано: он носит чудесные галстуки. Чудесные! Поймите, помещики лучше нас с вами одеваются.
И тут дело было не в галстуке, а в главной идее пьесы. Самородок Астров и поэтически нежный дядя Ваня глохнут в захолустье, а тупица профессор блаженствует в С.-Петербурге и вместе с себе подобными правит Россией.
Вот затаенный смысл ремарки о галстуке...» («А. П. Чехов в Художественном театре. Воспоминания». — Станиславский, т. 5, стр. 338).
К 27 мая 1899 г. Станиславский закончил составление режиссерского плана «Дяди Вани» (о работе над режиссерской партитурой пьесы см. в кн.: М. Строева. Чехов и Художественный театр. М., 1955, стр. 64—78). Репетиции возобновились в театре уже в начале следующего сезона и продолжались в сентябре-октябре 1899 г.
20 октября 1899 г. состоялась первая генеральная репетиция, о которой Немирович-Данченко сообщал Чехову: «Работа у нас действительно идет горячая. Всего было. И спорили и даже немножко ссорились <...> При всем том настроение у всех бодрое и уверенность в успехе, пожалуй, даже излишняя <...> Играли 20-го так: первым номером шел Алексеев, по верности и легкости тона. Он забивал всех простотой и отчетливостью. Надо тебе заметить, что я с ним проходил Астрова, как с юным актером. Он решил отдаться мне в этой роли и послушно принимал все указания <...> Рисуем Астрова материалистом в хорошем смысле слова, не способным любить, относящимся к женщинам с элегантной циничностью, едва уловимой циничностью. Чувственность есть, но страстности настоящей нет» (23 октября 1899 г. — Избранные письма, стр. 179—180).
О той же репетиции Чехову сообщал и В. Э. Мейерхольд: «Пьеса поставлена изумительно хорошо. Прежде всего отмечаю художественную меру в общей постановке, которая (художественная мера) выдержана от начала до конца. Впервые два режиссера слились вполне: один — режиссер-актер с большой фантазией, хотя и склонный к некоторым резкостям в постановках, другой — режиссер-литератор, стоящий на страже интересов автора. И кажется, последний заметно доминирует над первым. Рампа (обстановка) не заслоняет собою картины. Идейная существенная сторона последней не только бережно сохранена, то есть не завалена ненужными внешними деталями, но даже как-то ловко отчеканена <...> Пьесе, которая поставлена еще старательнее „Чайки“, предсказываю громадный успех» (23 октября 1899 г. — ГБЛ; ЛН, т. 68, стр. 436).
Премьера «Дяди Вани» на сцене Художественного театра состоялась 26 октября 1899 г. В ролях были заняты: В. В. Лужский (Серебряков), О. Л. Книппер (Елена Андреевна), М. П. Лилина (Соня), Е. М. Раевская (Мария Васильевна), А. Л. Вишневский (Войницкий), К. С. Станиславский (Астров), А. Р. Артем (Телегин), М. А. Самарова (Марина). Художник — В. А. Симов.
После окончания спектакля Немирович-Данченко послал Чехову в Ялту приветственную телеграмму, подписанную всеми участниками: «Вызовов очень много. 4 после первого действия, потом всё сильнее, по окончании без конца. После третьего на заявление, что тебя в театре нет, публика просит послать тебе телеграмму. Все крепко тебя обнимаем» (ГБЛ). Другая телеграмма была от группы близких знакомых Чехова (В. М. Соболевского, С. И. Шаховского и его жены Л. В. Лепешкиной, В. Е. Ермилова, Е. З. Коновицера и Кондратьева): «Вернувшись из театра, мы, почитатели Вашего таланта, сердечно приветствуем Вас с блестящим успехом „Дяди Вани“» (там же).
П. И. Куркин, присутствовавший на премьере вместе с семьей И. П. Чехова, сообщал в Ялту на следующий день: «...мы были свидетелями почти беспрерывно продолжавшегося весь вечер триумфа — Вашего и артистов Художественного театра. Мне кажется, что уже первое действие определило успех спектакля <...> Публика была заинтересована, и, несмотря на то, что это была московская публика первых представлений, строгая, требовательная, интеллигентная Москва, первый акт закончился уже при горячих аплодисментах» (27 октября 1899 г. — ГБЛ).
Однако самих участников спектакля и более искушенных зрителей премьера «Дяди Вани» удовлетворила не совсем. Припоминая триумфальный успех «Чайки» — первого чеховского спектакля в Художественном театре, — Книппер впоследствии писала: «С „Дядей Ваней“ не так было благополучно. Первое представление похоже было почти на неуспех. В чем же причина? Думаю, что в нас. Играть пьесы Чехова очень трудно: мало быть хорошим актером и с мастерством играть свою роль. Надо любить, чувствовать Чехова, надо уметь проникнуться всей атмосферой данной полосы жизни, а главное — надо любить человека, как любил его Чехов, и жить жизнью его людей <...> В „Дяде Ване“ не все мы сразу овладели образами, но чем дальше, тем сильнее и глубже вживались в суть пьесы, и „Дядя Ваня“ на многие-многие годы сделался любимой пьесой нашего репертуара. Вообще пьесы Чехова не вызывали сразу шумного восторга, но медленно, шаг за шагом внедрялись глубоко и прочно в души актеров и зрителей и обволакивали сердца своим обаянием» («Об А. П. Чехове». — Книппер-Чехова, т. 1, стр. 53—54).
Н. Е. Эфрос тоже потом вспоминал, что «Дядя Ваня» «по началу большого успеха не имел»; «первый спектакль отнюдь не был триумфом А. П. Чехова»; «публика была не то холодная, не то сдержанная» (Н. Эфрос. Детство Художественного театра (Из воспоминаний и бесед). — В кн.: Московский Художественный театр. Исторический очерк его жизни и деятельности, т. 1. М., 1913, стр. 30).
Неудовлетворенность первым спектаклем ощущалась и в письме Чехову Немировича-Данченко, отметившего «досадные недочеты» в исполнении: «...мы взвинтились в наших ожиданиях фурора и в наших требованиях к себе до неосуществимости, и эта неосуществимость портит нам настроение» (27 октября 1899 г. — Избранные письма, стр. 180—181).
Успех «Дяди Вани» нарастал от спектакля к спектаклю. После второго представления Немирович-Данченко телеграфировал: «Пьеса слушается и понимается изумительно. Играют теперь великолепно. Прием — лучшего не надо желать. Сегодня я совершенно удовлетворен» (30 октября 1899 г. — там же, стр. 183).
Сопоставляя второй спектакль с днем премьеры, Вишневский рассказывал Чехову в письме 30 октября 1899 г.: «Публика принимала нас вчера великолепно. Относительно же первого спектакля я сказать этого не могу, хотя публика принимала пьесу и нас очень и очень хорошо; но мы сами были неудовлетворены, и произошло все это от слишком страшного волнения, и лично я так изнервничался и переволновался, что к концу главного моего третьего акта нервы окончательно меня оставили и я играл исключительно на технике. — Повторяю, вчера в нашем театре был спектакль из выдающихся, и я от души жалею, что печать вчера отсутствовала, а судила нас всех по первому спектаклю, когда все артисты находились в обморочном состоянии» (ГБЛ).
О все возраставшем интересе публики к «Дяде Ване» сообщала Чехову также сестра Мария Павловна: «Одним словом, успех огромный. На третье представление, т. е. на сегодняшнее, билетов уже ни одного. Только и говорят везде о твоей пьесе» (31 октября); «Бываю часто в театре. „Дядя Ваня“, чем дальше там играют, тем все лучше и лучше <...> Я пьесу смотрела уже три раза и еще пойду! Немирович доволен теперь очень» (5 ноября 1899 г. — Письма М. Чеховой, стр. 128, 130). После шестого спектакля (10 ноября 1899 г.) Вишневский говорил уже о необычайном, выдающемся успехе пьесы: «Играли мы сегодня удивительно!!! Театр переполнен. Такого приема еще не было ни разу <...> В театре стоял стон и крик! Выходили мы раз 15-ть <...> Говорят очень и очень много теперь в Москве о „Дяде Ване“» (ГБЛ).
В январе 1900 г. на спектакле «Дядя Ваня» в Художественном театре был М. Горький вместе с петербургским журналистом В. А. Поссе. который писал Чехову 16 января: «Вчера я приехал из Москвы; видел там Горького, и мы оба видели Вашего „Дядю Ваню“. Хотели послать Вам телеграмму, да не сумели выразить свои чувства настоящим образом. Удивительная вещь этот „Дядя Вани“; меня только смущает второй выстрел» (ГБЛ).
Через несколько дней М. Горький вновь смотрел пьесу и о своем впечатлении рассказывал Чехову: «Я не считаю ее перлом, но вижу в ней больше содержания, чем другие видят; содержание в ней огромное, символистическое, и по форме она вещь совершенно оригинальная, бесподобная вещь <...> Вообще этот театр произвел на меня впечатление солидного, серьезного, большого дела <...> Я, знаете, даже представить себе не мог такой игры и обстановки. Хорошо! Мне даже жаль, что я живу не в Москве — так бы все и ходил в этот чудесный театр» (21—22 января 1900 г. — Горький и Чехов, стр. 63—65).
В апреле 1900 г. во время гастролей театра в Севастополе и Ялте «Дядя Ваня» был показан Чехову, который из всех своих пьес в исполнении Художественного театра предпочтение отдавал «Дяде Ване» и находил в сценической интерпретации этой пьесы наибольшую близость авторскому замыслу: «Мне в Художественном театре только „Дядя Ваня» моим и показался. Особенно второй акт» (А. Федоров. А. П. Чехов. — «Южные записки», 1904, № 32 от 18 июля, стр. 10; сб. «О Чехове». М., 1910, стр. 286).
О целях поездки Художественного театра в Крым Эфрос говорил позднее: «Поездка была предпринята главным образом для того, чтобы показать отрезанному болезнью от Москвы Чехову Художественный театр, показать ему „Дядю Ваню“ и тем притянуть его к драматургии, окончательно завоевать Чехова для драматургии <...>
— Эта пьеса, — рассказывал мне Станиславский, — не только произвела на Чехова большое впечатление, но сыграла и большую роль, так как заставила его поверить, что писать для театра можно и стоит» (Н. Эфрос. Детство Художественного театра (Из воспоминаний и бесед). — Указ. соч., стр. 32).
По воспоминаниям Станиславского, появление Чехова на сцене Севастопольского драматического театра во время спектакля 10 апреля 1900 г. «вызвало неистовые овации». После этого за кулисами «он впервые высказался о спектакле.
— Послушайте, это прекрасно. У вас же талантливые и интеллигентные люди.
Каждому из нас он сделал по замечанию, вроде той шарады о галстуке. Так, например, мне он сказал только о последнем акте.
— Он же ее целует так (тут он коротким поцелуем приложился к своей руке). Астров же не уважает Елену. Потом же, слушайте, Астров свистит, уезжая.
И эту шараду я разгадал не скоро, но она дала совершенно иное, несравненно более интересное толкование роли.
Астров циник, он им сделался от презрения к окружающей пошлости. Он не сентиментален и не раскисает. Он человек идейного дела. Его не удивишь прозой жизни, которую он хорошо изучил. Раскисая к концу, он отнимает лиризм финала дяди Вани и Сони. Он уезжает по-своему. Он мужественно переносит жизнь.
Надо быть специалистом, чтоб оценить филигранную тонкость этих замечаний» («А. П. Чехов в Художественном театре. Воспоминания». — Станиславский, т. 5, стр. 618—619. О спектаклях «Дяди Вани» в Севастополе см. также: М. Энгель. Чехов в Севастополе. — «Русское слово», 1904, 15 июля, № 195).
16 и 20 апреля 1900 г. Художественный театр показал «Дядю Ваню» также в Ялте. О пребывании там труппы театра М. П. Чехова вспоминала впоследствии: «Трудно рассказать о радости тех прекрасных весенних дней 1900 года. У Антона Павловича подъем был необычайный. Он был веселым, довольным, остроумным. Почти все артисты театра с утра до вечера находились на нашей даче <...> В саду нашей дачи остались качели и скамейка из декораций „Дяди Вани“, напоминая о чудесных, самых жизнерадостных днях из всей ялтинской жизни брата» (Письма М. Чеховой, стр. 155—156).
Гастроли в Петербурге весной 1901 г. были открыты (в Панаевском театре) «Дядей Ваней». После первого представления 19 февраля Немирович-Данченко послал Чехову телеграмму: «Успех громадный. По окончании овации московского характера. Потребовали послать тебе телеграмму такого текста: „Публика первого представления „Дяди Вани“ шлет любимому русскому писателю привет и сердечное спасибо“» (Ежегодник МХТ, стр. 136). 22 февраля о своих зрительских впечатлениях Чехову сообщал академик Н. П. Кондаков: «Пишу к Вам под напором восторженных чувств, одолевших меня на вчерашнем представлении „Дяди Вани“ труппою Станиславского <...> Публика „шалела“ и волновалась. Я воспринимал, с наслаждением, всю художественную реальность пьесы и игры, как будто через открытую стену, в жизни» (ГБЛ). О «самом большом», «колоссальном», «небывалом» успехе пьесы сообщали также М. П. Чехова (24 февраля) и Вишневский (28 февраля и 18 марта 1901 г. — ГБЛ).
Громадное впечатление произвел «Дядя Ваня» тогда на М. Г. Савину. 17 марта 1901 г. она известила Немировича-Данченко: «Мне можно выехать сегодня (я <...> только вчера встала с постели), и я непременно хочу видеть „Дядю Ваню“ <...> Ведь я понятия не имею о Вашем театре и два года стремлюсь в него...» (Избранные письма, стр. 473). В тот же день она смотрела спектакль, после которого поехала к известному артисту и педагогу Ю. Э. Озаровскому. По словам встретившей ее там В. Л. Юреневой, она, не снимая шубы, молча дошла до середины гостиной, села на пол и, охваченная только что виденным на сцене, сказала: «Я дура! Я ничего не понимала, дура! Как я играла всю жизнь! Вот это театр!» (Вера Юренева. Записки актрисы. М. — Л., 1946, стр. 101). Через год она снова повторяла, что из всех виденных ею тогда пьес «наиболее понравился „Дядя Ваня“» (И. Шнейдерман. М. Г. Савина. М. — Л., 1956, стр. 263). О петербургских спектаклях «Дяди Вани» тепло отзывались в письмах к Чехову также И. Е. Репин (29 апреля), А. Ф. Кони, И. Л. Леонтьев-Щеглов (29 мая 1901 г. — ГБЛ).
Вместе с М. Горьким, Е. Н. Чириковым и их женами Чехов смотрел «Дядю Ваню» в Художественном театре 27 октября 1900 г. Об этом посещении позднее Чириков рассказывал: «Впечатление от „Дяди Вани“ стушевало все уже виденное. Наши жены плакали, я не отставал от них. Душа жила и страдала вместе с героями пьесы. В антрактах посматривали на Чехова, и хотелось броситься к нему, обнять его, целовать ему руки, сказать ему что-то особенное, но не было таких слов... А Антон Павлович скромно прятался от публики, и не было в нем никакой торжествующей авторской гордости, словно вовсе не он и написал эту пьесу, до дна всколыхнувшую наши сердца... Когда мы вошли в ложу, в публике увидели Чехова, раздались вызовы: „автора“. Он словно испугался, нырнул из двери и спрятался в директорской ложе. И все-таки его насильно вытащили на сцену. Вот он перед публикой. Все та же застенчивая скромность, смущение. Точно провинившаяся девушка» (Е. Чириков. Как я сделался драматургом. — В кн.: Артисты Московского Художественного театра за рубежом. Прага, 1922, стр. 43—44).
Одним из наиболее памятных для Чехова был спектакль «Дяди Вани», сыгранный в Художественном театре 11 января 1902 г. для участников проходившего тогда в Москве VIII Пироговского съезда врачей. Чехов придавал этому спектаклю общественно-важное значение, настаивал на участии в нем основного состава исполнителей, просил в письмах к Книппер «играть получше», сообщать, «как шла пьеса, как держали себя доктора и проч. и проч.» (письма 2, 7, 9 и 11 января 1902 г.). Перед спектаклем зрители-врачи послали Чехову приветственную телеграмму: «горячо любимому автору, своему дорогому товарищу» (ГБЛ). Другая телеграмма послана от имени «земских врачей глухих углов России» (там же; см. отклики на них Чехова в письмах М. П. Чеховой, 12 января; Куркину, 13 января; Книппер-Чеховой, 15 января 1902 г.). В антракте труппе театра от зрителей был преподнесен портрет Чехова с надписью «Художникам — врачи. На память о спектакле для врачей, приехавших на VIII Пироговский съезд, 11.I.1902 г.» — об этом известил Чехова Станиславский, сообщивший также в письме от 14 января, что «спектакль был интересный и, кажется, произвел большое впечатление» (Станиславский, т. 7, стр. 225, 687). Доктор М. А. Членов, принимавший участие в организации этого вечера, писал Чехову по окончании работы съезда: «...в общем все вышло превосходно. Играли „Дядю Ваню“ невероятно хорошо; я был несколько раз за сценой и видел по артистам, что им самим приятно играть перед такой редкой публикой...» (26 января — ГБЛ).
С новым успехом «Дядя Ваня» был показан на петербургских гастролях Художественного театра в апреле 1903 г. (в помещении Суворинского театра). На следующий день после первого показа Немирович-Данченко телеграфировал Чехову: «Вчера сыграли „Дядю Ваню“ с большим подъемом духа и истинным наслаждением. Несмотря на трудность полутонов в огромном театре, успех был полный и превосходный. Первом действии очаровательная новая декорация Симова. Весь вечер испытывали истинно художественную радость» (9 апреля 1903 г. — Ежегодник МХТ, стр. 169, с ошибочной датой: 1904 г.). О новой декорации рассказывала Чехову в тот же день Книппер: «Подобной красоты я еще не видывала. Ты понимаешь — я оторваться не могла! Подумай — нет боковых кулис, а просто идет сад, деревья, даль. Это удивительно. Легкость необычайная. Все деревья живые, золотистые, стволы как сделаны! Ты в восторг придешь. Решили для тебя ставить, как приедешь, чтоб ты мог полюбоваться. Я ахнула, как увидела. Молодчина Симов!» (Книппер-Чехова, ч. 1, стр. 258; ср. также отзыв Немировича-Данченко от 8 апреля 1903 г. — Избранные письма, стр. 241; см. письмо Чехова 28 марта 1903 г.).
В телеграмме Станиславского и М. П. Лилиной от 9 апреля 1903 г. также упоминалось об «огромном успехе» пьесы и новой «изумительной» декорации (Станиславский, т. 7, стр. 256). Книппер каждый день сообщала Чехову об успехе «Дяди Вани»: «Все отдыхают, говорят о чеховской поэзии, о его лиризме. Я счастлива <...> Во всех газетах говорят о Чехове, о „Дяде Ване“» (10 апреля); «Приехали сюда с „Дном“ и выезжаем на „Дяде Ване“, на который спрос огромный. Всё идет на „Дядю Ваню“ <...> Везде говорят о Чехове, точно новую пьесу привезли» (11 апреля 1903 г. — Указ. соч., стр. 260, 262).
Сохранившейся свежести спектакля даже после четырех лет его исполнения удивлялся в письме Чехову 17 ноября 1903 г. Л. А. Сулержицкий: «Смотрел „Дядю Ваню“. Уж бог знает который раз играют, но сыграли отлично, — живо, тепло. Публика отлично чувствовала и принимала. И артисты с удовольствием играли. Многие места играют иначе, чем раньше — и лучше» (ГБЛ).
Сохранились воспоминания о посещении В. И. Лениным спектакля «Дядя Ваня» в Художественном театре 9 марта 1919 г. Спектакль шел в помещении Первой студии МХТ на Советской площади, в десятый раз по его возобновлении с 4 декабря 1918 г., почти с теми же исполнителями, что и прежде, и попал тогда «под особенно ожесточенный обстрел представителей „левых“ течений» (Сим. Дрейден. В зрительном зале — Владимир Ильич. М., 1967, стр. 259). Ленин решительно разошелся во мнении о спектакле с «левыми» критиками.
Н. К. Крупская, присутствовавшая вместе с Лениным в театре, вспоминала потом: «Ему понравилось» («Что нравилось Ильичу из художественной литературы». — «Ленин. Революция. Театр. Документы и воспоминания». Л., 1970, стр. 88). Актер Художественного театра Н. А. Подгорный рассказывал впоследствии, что после спектакля он проводил Ленина до машины, и ему удалось поговорить тогда с Лениным: «Сначала я даже немного сконфузился и растерялся от сознания, что Владимир Ильич пришел к нам в театр на „Дядю Ваню“, на спектакль, который многие считали ненужным советскому зрителю. Но Ленин как-то по особенному взглянул на меня, и напряженность сразу исчезла. Я подошел, поздоровался, назвал себя. Затем немного погодя спросил:
— Владимир Ильич, не скучно ли вам смотреть спектакль?
— Скучно? — отвечал он. — Нет, что вы! Замечательный автор, замечательные слова, замечательные артисты» (Н. Подгорный. Неизгладимые воспоминания. — «Горьковец», 1941, 21 января, № 2 (126); см. также: Сим.Дрейден. Указ. соч., стр. 230).
3
Еще до постановки «Дяди Вани» в Художественном театре пьеса с успехом ставилась на многих провинциальных сценах (например, в Казани — 17 октября 1897 г.). Чехов писал Суворину 13 марта 1898 г.: «...в эту зиму в провинции шли мои пьесы, как никогда, даже „Дядя Ваня“ шел». Через некоторое время обозначился несомненный успех этой пьесы, которая с тех пор прочно укрепилась в репертуаре провинциальной сцены. Такая популярность «Дяди Вани» оказалась неожиданной для Чехова, и он с удивлением отмечал: «Мой „Дядя Ваня“ ходит по всей провинции и всюду успех. Вот, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Совсем я не рассчитывал на сию пьесу» (М. П. Чехову, 26 октября 1898 г.). «По всей России идет „Дядя Ваня“», — снова повторял он через несколько месяцев (М. П. Чеховой, 17 декабря 1898 г.; см. также его письма Суворину 27 октября и М. Горькому 3 декабря 1898 г.).
По поводу постановки пьесы в Павловском театре под Петербургом летом 1898 г. к Чехову обратился актер М. М. Дольский-Михайлович. Он рекомендовал себя «недурным исполнителем и толкователем типов, Вами выводимых, как например, Иванов, Астров и Треплев», и просил разрешить постановку «Дяди Вани» в его бенефис: «Мне сказали, что без особого Вашего разрешения мы Вашу пьесу играть не можем» (письмо без даты — ГБЛ).
Спектакль труппы товарищества русских актеров под руководством К. П. Ларина состоялся в Павловске 30 июля 1898 г. Леонтьев (Щеглов) прислал Чехову программу этого спектакля, написав на ней: «Полный успех!!!». К фамилии артистки Л. Н. Карениной, исполнявшей роль Сони, он приписал: «Очень хороша и нежна в последнем монологе», а к фамилии Дольского, исполнителя роли Астрова, — «Очень хорош!!!» (ГБЛ; см. ответ Чехова в письме 7 августа 1898 г.; фото — на стр. 65).
Осенью 1898 г. «Дядя Ваня» ставился драматической труппой под управлением Н. Н. Соловцова (первый спектакль в Одессе — 1 сентября; в октябре и ноябре — в Киеве). В спектакле участвовали Е. Я. Неделин (режиссер спектакля и исполнитель роли Астрова), Варв. И. Немирович (Елена Андреевна), А. А. Пасхалова (Соня), Н. П. Рощин-Инсаров (Войницкий). Актер Малого театра М. Ф. Ленин в своих воспоминаниях рассказывал, что в 1902 г. познакомился с Чеховым, который говорил ему о постановке «Дяди Вани» в «Театре Соловцова». «Антон Павлович видел этот спектакль и сказал, что играли блестяще» (М. Ф. Ленин. Пятьдесят лет в театре. Театральные мемуары. М., 1957, стр. 15—16).
Тогда же пьеса была поставлена в серпуховском собрании любителей драматического искусства. Один из участников, И. М. Сериков, сообщал Чехову 11 августа 1898 г.: «Мы были бы очень благодарны, если бы сделали хотя какие-нибудь указания по существу: можно ли ее поставить у нас или нельзя; и, по Вашему мнению, будет ли она иметь успех; мне в чтении очень она понравилась. Если пойдет эта пьеса у нас, очень бы хотелось видеть Вас на репетициях и на спектакле...» (ГБЛ). После постановки Чехову телеграфировали режиссер А. Тихомиров, С. Трутовский и И. Сериков: «Мы полны жизненностью типов, выведенных в „Дяде Ване“ и счастливы их исполнить. Простите любителям дерзость постановки такой пьесы. Мы воспитались на ней и заставили публику задуматься» (24 декабря 1898 г. — ГБЛ; С. М. Сериков впоследствии вспоминал, будто Чехов сам читал любителям пьесу и сделал несколько указаний исполнителям, а ко дню спектакля, 22 октября, прислал телеграмму: «Желаю успеха. Сообщите результат. А. Чехов» — С. М. Сериков. Мои воспоминания о знакомстве с Антоном Павловичем Чеховым. Рукопись ЦГАЛИ; ср. письма Чехова его брату И. М. Серикову 13 августа и 28 декабря 1898 г.).
О предстоящем спектакле «Дяди Вани» в таганрогском театре Чехова известили Г. М. Чехов (17 сентября 1898 г. — ГБЛ) и А. Б. Тараховский (28 сентября 1898 г. — там же). После спектакля, состоявшегося 19 ноября, Г. М. Чехов писал, что пьеса прошла «с особенным большим успехом» (20 ноября), а Тараховский отметил, что хотя «она привлекла в театр не очень много публики», но «те, кто был в театре, много толковали о пьесе, и, очевидно, она произвела сильное впечатление» (24 ноября). Под впечатлением спектакля в Ростове-на-Дону, где труппа под управлением Н. Н. Синельникова играла 6 и 16 ноября, Чехову телеграфировали ростовские учащиеся, передавали ему «искренние приветы и пожелания здоровья» (7 ноября 1898 г. — ГБЛ; рецензия: «Приазовский край», 1898, 8 ноября, № 295).
В ноябре 1898 г. М. Горький сообщил Чехову о постановке «Дяди Вани» в городском театре Н. Новгорода (антреприза Н. И. Собольщикова-Самарина; спектакли 20 октября и 6 ноября): «На днях смотрел „Дядю Ваню“, смотрел и — плакал как баба, хотя я человек далеко не нервный, пришел домой оглушенный, измятый вашей пьесой, написал вам длинное письмо и — порвал его. Не скажешь хорошо и ясно того, что вызывает эта пьеса в душе, но я чувствовал, глядя на ее героев: как-будто меня перепиливают тупой пилой» (Горький и Чехов, стр. 24—25).
30 апреля 1899 г. пьеса была поставлена в Тифлисе обществом харьковских драматических артистов под управлением И. П. Соловьева с участием С. М. Строевой-Сокольской (Елена Андреевна), М. И. Велизарий (Соня), И. М. Шувалова (Войницкий) и М. М. Петипа (Астров). Об этом спектакле уведомил Чехова в мае 1899 г. опять-таки М. Горький и прибавлял, что получил письмо от «одного учителя», который «был страшно тронут» пьесой (там же, стр. 44).
До премьеры в Художественном театре «Дядя Ваня» ставился также в Ярославле, Казани, Саратове, Харькове и других городах. Интерес в провинции к пьесе Чехова еще более усилился после постановки ее Художественным театром.
«Я в поездку в этом году везу и „Чайку“ и „Дядю Ваню“», — писала Чехову в ноябре 1900 г. В. Ф. Комиссаржевская (ГБЛ). Каждый год, выезжая на гастроли в крупные города на Украину, Поволжье, Кавказ, она неизменно включала в репертуар «Дядю Ваню», играя в пьесе роль Сони (о ее выступлениях в Вильне, ее игре в «Дяде Ване» см. в воспоминаниях: А. Я. Бруштейн. Страницы прошлого. М., 1956, стр. 107—108).
Из Новочеркасска Чехов получил письмо от И. А. Ростовцева, который извещал его 5 декабря 1900 г.: «...Ваша пьеса „Дядя Ваня“ идет здесь каждый сезон, делает сборы. В нынешнем сезоне — уже прошла два раза при полных сборах и хорошем очень исполнении <...> Достаточно сказать, что на последнем спектакле „Дядя Ваня“ 19-го октября — исполнители: дяди Вани (Каширин), Сони (Андронова), няни (Рассказова) — в последнем акте — в финале — плакали настоящими слезами. Это факт. Успех небывалый в публике. Уж слишком близко сердцу труженика-актера жизнь беспросветная!» (ГБЛ).
О постановке пьесы в Харькове с участием П. В. Самойлова (Астров) и И. М. Шувалова (Войницкий) рассказывал Чехову в августе 1901 г. артист В. Бежин, с которым познакомил его тогда П. Н. Орленев (ПавелОрленев. Мои встречи с Чеховым. Из воспоминаний. — «Искусство», 1929, № 5—6, стр. 31). В Харькове же несколькими месяцами раньше (май 1901 г.) проходили гастроли Комиссаржевской, вместе с которой в «Дяде Ване» в заглавной роли выступал В. П. Далматов.
В сентябре 1902 г. пьеса была сыграна в Херсоне труппой русских драматических артистов под управлением А. С. Кошеверова и В. Э. Мейерхольда (премьера — 26 сентября). О гастролях этой труппы на следующий сезон в Севастополе (тогда труппа называлась уже «Товариществом новой драмы») Чехову рассказал Б. А. Лазаревский в письме 17 апреля 1903 г.: «„Дядя Ваня“ так сошел, что и всякой труппе столичной пожелать можно <...> Хочешь не хочешь, а думаешь о жизни и внутреннем мире таких людей, как профессор, Астров и дядя Ваня. Лучшего Астрова, чем Мейерхольд, и желать трудно <...> Я не умею давать рефератов, но, зная Вас и Ваши требования к искусству, знаю наверное, что и Вы бы Мейерхольдом остались довольны» (ГБЛ). В честь 25-летия литературной деятельности Чехова пьеса была поставлена 25 октября 1903 г. в Таганроге силами местной труппы (письмо В. М. Чехова от 30 октября 1903 г. — там же). Об этом спектакле Чехову сообщил также А. Б. Тараховский 5 ноября: «У нас хорошая труппа, и „Дядю Ваню“ она исполнила отлично» (там же).
Многократно и с успехом ставился «Дядя Ваня» также на любительской сцене. Об одной из постановок — полулюбительской труппы петербургского «Общества художественного чтения и музыки» — рассказывал Чехову в 1900 г. И. Н. Потапенко: «Имеется здесь недавно учредившееся „Общество художественного чтения“, состоящее наполовину из актеров, наполовину из учителей и других граждан. Учредили его В. Н. Давыдов и В. П. Острогорский. Молодые александринские актеры задумали на своей маленькой сцене поставить твоего „Дядю Ваню“, и поставили. 8-го января было это событие. Играли добросовестно, а кой-где даже и хорошо. Спектакль был кружковой — без афиш и без объявлений в газетах» (10 января 1900 г. — ГБЛ).
О любительском спектакле «Дяди Вани» в Нижнем Новгороде известил Чехова М. Горький в начале февраля 1900 г.: «Сейчас эту пьесу здесь репетируют любители. Очень хороша будет Соня и весьма недурен Астров» (Горький и Чехов, стр. 67).
6 августа 1900 г. «Дядя Ваня» был показан в пензенском народном театре. В письме одного из зрителей говорилось о пьесе: «Много я слышал о ней перед этим, много толков предшествовало ее постановке нашими любителями, ее громкая известность окружала ее ореолом уважения, — все это уже заранее настраивало на известный лад, но едва раздались со сцены первые слова, как все это было уже забыто мною и, наверное, другими, и все отдались лишь непосредственному чувству восхищения» (7 августа 1900 г. — ГБЛ. Подпись: Н.).
В октябре 1900 г. К. И. Дестомб сообщила Чехову, что В. П. Далматов поставил пьесу в Петербурге с учащимися Введенской гимназии и сам принял участие в спектакле (6 октября 1900 г. — там же).
Хотя в 1899 г. «Дядя Ваня» был забракован Театрально-литературным комитетом для постановки на императорских сценах, Александринский театр делал попытки обойти это решение. Однако при жизни Чехова постановка пьесы на столичной петербургской сцене осуществлена не была.
Главный режиссер Александринского театра Е. П. Карпов, ставивший «Чайку» в 1896 г., телеграфировал Чехову 5 сентября 1899 г.: «Жажду поставить „Дядю Ваню“ Александринском театре. Разрешите сделать незначительные купюры с Вашего ведения» (ГБЛ). Переговорив о пьесе с новым директором императорских театров С. М. Волконским, он писал вскоре, что добился согласия «на ее постановку без вторичного представления в Комитет» (17 сентября 1899 г. — там же).
Чехов ответил 22 сентября своим согласием, послал Карпову экземпляр «Дяди Вани» и выразил желание, «чтобы Соню взяла В. Ф. Комиссаржевская», роль Астрова исполнил бы П. В. Самойлов, который, по слухам, «прекрасно играл» его в провинции, Войницкого — Ф. П. Горев, Серебрякова — Н. Ф. Сазонов, Телегина — В. Н. Давыдов.
Постановка пьесы была уже запланирована в Александринском театре на ноябрь 1900 г. для бенефиса Горева, однако Художественный театр, сам намеревавшийся ехать в Петербург с «Дядей Ваней», воспрепятствовал этому. 28 марта 1900 г. Карпов сообщил Чехову о своем разговоре с Волконским: «Он сказал мне, что получил письмо от В. И. Немировича-Данченко, в котором тот пишет, что Вы передали ему право на постановку пьесы в Петербурге и в Москве и что поэтому пьеса „Дядя Ваня“ не может быть поставлена на императорской сцене в Петербурге». И далее Карпов добавлял с сожалением: «Я так мечтал поставить эту пьесу, у нас в труппе есть такие чудные исполнители, как Комиссаржевская, Давыдов, Варламов, Самойлов, Горев и др. Ведь такой Сони, как Вера Федоровна, Вы никогда не увидите!..» (ГБЛ; см. также письма Чехова Карпову 27 ноября и Немировичу-Данченко 3 декабря 1899 г.).
Несмотря на письма Горева (3 марта 1900 г. — ГБЛ) и Комиссаржевской (9 апреля 1900 г. — там же), просивших Чехова согласиться на постановку «Дяди Вани», и новое обращение к нему Карпова (2 мая 1900 г. — там же), Немирович-Данченко, от которого зависело разрешение, оставался тогда непреклонен (см. письмо Чехова Карпову 20 апреля 1900 г.).
После гастролей Художественного театра в Петербурге весной 1901 г. положение изменилось. Когда к Немировичу-Данченко с просьбой о разрешении обратилась Е. И. Левкеева, он дал положительный ответ П. П. Гнедичу, новому управляющему труппой Александринского театра: «Ничего не имею против того, чтобы „Дядя Ваня“ шел на Александринском театре. Мои товарищи по дирекции Художественного театра также не хотят препятствовать этому». Напомнив, что в свое время «Комитет потребовал переделок, на которые Чехов не согласен», он объяснял далее «монополию» Художественного театра на пьесы Чехова: «Суть нашего исключительного права на драмы Чехова не столько в материальных интересах, сколько именно в защите его художественных интересов» (ноябрь 1901 г. — Избранные письма, стр. 209—210).
Осенью 1902 г. «Дядя Ваня» был все же поставлен в Петербурге, но только на ученической сцене императорского Театрального училища (класс Ю. Э. Озаровского). 4 октября 1902 г. Теляковский, ставший к этому времени директором императорских театров, записал в дневнике: «Вечером я присутствовал в Театральном училище на ученическом спектакле III курса. Давали „Дядю Ваню“ Чехова. Пьеса в общем была поставлена весьма удовлетворительно. Хорошо исполняли роли Жданов — профессора, Сони — Нелидова, дядю Ваню — Лось, врача — Булгаков. После спектакля обсуждали протокол. Из артистов были Дюжикова, Стрельская, Петров, Дарский, Санин и Гнедич. С протоколом все согласны — просили лишь обратить большее внимание на грим» (ГЦТМ, ф. 280, ед. хр. 1276, л. 2813).
Вскоре после этого спектакля Гнедич замечал в письме Н. С. Худекову: «Вот „Дядя Ваня“ лежит неизгладимым пятном на совести дирекции 90-х годов. Надо было московских профессоров, забраковавших пьесу, немедленно повесить, так как ни на что иное они не годны. Но „Дядя Ваня“ в будущем сезоне войдет в наш основной репертуар» (21 октября 1902 г. — «Театр», 1960, № 1, стр. 162).
Ставя перед собой задачу обновления репертуара Александринского театра, Гнедич писал тогда Чехову о его пьесах: «Необходимо ввести и „Дядю Ваню“, так как решение московского Комитета признано директором недействительным. Без восстановления ваших пьес в репертуар нельзя положить строгого основания делу, которое только что только начинает формироваться» (16 декабря 1902 г. — ГБЛ). Однако поставлена пьеса на сцене Александринского театра была лишь в 1909 г.
4
Пьеса «Дядя Ваня» и особенно ее постановка Художественным театром вызвали целый поток писем к Чехову, множество отзывов, оценок и откликов.
Немирович-Данченко придавал постановке «Дяди Вани» принципиальное значение и подчеркивал ее важную роль для художественного развития театра и утверждения сценического реализма: «Теперь мы ставим (уже срепетовали) „Смерть Грозного“ и „Дядю Ваню“ Чехова — из русских пьес. Как первая — в историческом жанре, так вторая в современном, — сильно двинут вперед реальную постановку пьес. И Чехов тем удобен и приятен для постановки, что у него нет шаблонов, что он не писал для Малого театра и специально для его артистов. Я бы так выразился, что мне приятнее ставить на сцене повесть талантливого беллетриста, чем сценичную пьесу профессионального драматурга, лишенного своего писательского колорита» (П. Д. Боборыкину, июнь-июль 1899 г. — Избранные письма, стр. 158).
На следующий день после премьеры он писал Чехову: «Для меня, старой театральной крысы, несомненно, что пьеса твоя — большое явление в нашей театральной жизни <...> Для меня постановка „Дяди Вани“ имеет громаднейшее значение, касающееся существования всего театра. С этим у меня связаны важнейшие вопросы художественного и декорационно-бутафорского и административного характера. Поэтому я смотрел спектакль даже не как режиссер, а как основатель театра, озабоченный его будущим» (там же, стр. 181—182). И позднее он причислял «Дядю Ваню» к тем немногим спектаклям Художественного театра, которые отличались особой «художественной стройностью» и где «исполнение было особенно талантливо» («Записка членам товарищества МХТ», июль 1902 г. — там же, стр. 219).
Глубокое понимание особенностей драматургического дарования Чехова было высказано по поводу «Дяди Вани» М. Горьким, который говорил ему об этой пьесе в конце ноября 1898 г.: «Для меня — это страшная вещь, ваш „Дядя Ваня“, это совершенно новый вид драматического искусства, молот, которым вы бьете по пустым башкам публики <...> Будете вы еще писать драмы? Удивительно вы это делаете!» (Горький и Чехов, стр. 25). В ответ на замечание Чехова, что он «давно отстал от театра и писать для театра уже не хочется» (3 декабря 1898 г.), Горький с горячностью возразил ему: «Ваше заявление о том, что вам не хочется писать для театра, заставляет меня сказать вам несколько слов о том, как понимающая публика относится к вашим пьесам. Говорят, например, что „Дядя Ваня“ и „Чайка“ — новый род драматического искусства, в котором реализм возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа. Я нахожу, что это очень верно говорят. Слушая вашу пьесу, думал я о жизни, принесенной в жертву идолу, о вторжении красоты в нищенскую жизнь людей, и о многом другом, коренном и важном. Другие драмы не отвлекают человека от реальностей до философских обобщений — ваши делают это» (декабрь 1898 г. — там же, стр. 28).
И Горький, и Немирович-Данченко одни из первых заговорили о Чехове как зачинателе нового этапа в развитии не только русской, но и мировой драматургии.
Редактор «Русских ведомостей» В. М. Соболевский рассказывал Чехову об огромном общественном воздействии его пьесы, о беседах и собраниях «самоучащейся молодежи», посвященных обсуждению «Дяди Вани» и «Чайки»: «Эти две вещи продолжают господствовать в репертуаре не только театра, но вообще умственного обихода интеллигенции. На них упражняются, учатся думать, разбираться в жизни, искать выхода и т. д. Вот что значит — затронуть самую суть и самые наболевшие струны» (28 марта 1900 г. — Записки ГБЛ, вып. VIII, стр. 61).
Во многих отзывах о пьесе прежде всего подчеркивалась ее трагическая основа, драматизм положения и гнетущее воздействие провинциальной действительности на русского человека. Особенно впечатляющее действие производила при этом на читателей и зрителей финальная сцена пьесы.
Рассказывая о спектакле, виденном им в Нижнем Новгороде в 1898 г., Горький говорил Чехову: «В последнем акте „Вани“, когда доктор, после долгой паузы, говорит о жаре в Африке, — я задрожал от восхищения перед вашим талантом и от страха за людей, за нашу бесцветную нищенскую жизнь» (Горький и Чехов, стр. 25).
Врач П. И. Куркин писал о «Дяде Ване» после первого спектакля в Художественном театре: «Перед нами с чрезвычайною живостью встала деревенская глушь с туземными и пришлыми элементами, с тоскою и скукою, охватывающими одинаково всех, как торжествующих в жизни, так и униженных <...> Наконец — последняя сцена. Ах — эта последняя сцена. Как хороша она. Как глубоко задумана <...> Мне очень хотелось бы разобраться, в чем именно секреты этого очарования последней сцены, — после которой хочется плакать — плакать без конца. Конечно, дело не в морали, которую формулирует Соня. Совсем напротив. Многих, быть может, оттолкнет эта мораль в наши дни, у некоторых она, вероятно, даже ослабит впечатление. Дело, мне кажется, в трагизме положения этих людей, — в трагизме этих будней, которые возвращаются теперь на свое место, возвращаются навсегда и навсегда сковывают этих людей <...> я готов утверждать, что последняя сцена „Дяди Вани“ одно из самых сильных и выразительных мест в нашей драматической литературе» (27 октября 1899 г. — ГБЛ; далее все письма — из того же архива).
Сходное впечатление сложилось от пьесы у М. С. Малкиель: «должна сознаться, как не боязно мне это, Вы меня победили, сразили, уничтожили! Пьеса Ваша — прелесть; но и тяжело же на душе после нее...» (27 октября). О восприятии финала зрителями Таганрога сообщал Г. М. Чехов: «Картина последнего акта была необыкновенно грустна и тяжела, она оставила на всех зрителей впечатление тяжелее всяких трагических сцен» (20 ноября 1898 г.). Тем же настроением проникнуто и письмо М. Т. Дроздовой: «Была я на третьем представлении наверху, там-то разговору, бывает интересно! Впечатление произвело на меня сильное, только уж больно грустно бывает от Ваших вещей, так грустно, так погано, что не знаешь, куда деться дня три; многие не хотят идти, чтобы не расстраивать нервы» (декабрь 1899 г.).
После двадцатого спектакля «Дяди Вани» актер и режиссер Художественного театра А. А. Санин писал Чехову: «Я все еще брежу этой истинной трагедией всеславянского духа... Жалею лишь, что при многих достоинствах постановки и исполнения у нас Вашей пьесы так сильно пострадал общественный элемент пьесы, та самая сторона, которая в моих глазах подымается до значения истинно эпического» (начало января 1900 г.). Как трагедию мировой скорби воспринял пьесу Чехова И. В. Кривенко: «После М. Горького с его „Дном“ я попал на „Дядю Ваню“ и, сознаюсь Вам, я, 22-летний человек, плакал. Плакал я и страдал не только за дядю Ваню, за Астрова, но главным образом за Вас. Боже, как Вы одиноки и как мало у Вас личного счастья. Ноты мировой скорби Астрова покрываются тяжким аккордом недостатка любви, счастья, личного счастья. Везде я вижу Вас. Вы там стоите на сцене и заставляете меня переживать все страдания <...> Я жил — Вашей жизнью. Я видел весь ужас одиночества и скуки» (14 апреля 1903 г.).
В другой части отзывов яснее звучала неудовлетворенность неясностью выраженных в пьесе утверждающих идеалов. Этот внутренний протест заметен, например, в письме учительницы одной из фабричных школ Ф. И. Кореневой, нашедшей счастье в своей деятельности и сожалевшей, что у героев чеховских произведений нет «веры» и «у них ничего не остается»: «Жизнь бесконечно мрачна кругом, и мрак этот кажется беспросветным... „Нигде не видно огонька“... И не один доктор его не видит <...> ни энтузиазма, ни увлечения идеей... все так бесцветно, серо, буднично <...> Да, мрачна жизнь — и в Ваших произведениях она безысходна. И знаете — мне пришло в голову — я не могу отделить автора от его произведения — жить такими образами, „без единой светлой точки“... как можно так жить!» (12 февраля 1900 г.).
Еще определеннее та же мысль выражена в письме Н. Кончевской, с дочерью которой Чехов мельком встречался в Севастополе, где вскоре состоялся спектакль Художественного театра: «...все мы, конечно, ушли со вчерашнего представления потрясенные до глубины души, но... но — сегодня нам стало не легче жить, а — еще тяжелее. Дайте же нам что-нибудь такое, в чем была бы хоть одна светлая точка и что хоть сколько-нибудь ободряло бы и примиряло с жизнью. Вы — самый крупный талант нашего времени, и если бы Вы только захотели интенсивно сосредоточить свои силы на отыскании этой светлой точки в жизни — Вы бы ее нашли и — произвели чудеса <...> Смысл жизни потерян, а воли и интенсивного, страстного желания вновь его найти — нет; вообще нет ни бессознательного, ни сознательного желания жить. И вот его-то и надобно будить. Конечно, каждый творит по-своему, и польза такой вещи, как „Дядя Ваня“ — громадна, но ведь есть же в жизни и другие стороны? <...> Дайте же нам такой тип, который бы мог повести за собой молодежь по какому-нибудь светлому пути, не приводящему неминуемо к бездне отчаяния» (11 апреля 1900 г.).
Но были и такие читатели и зрители, для которых сама жизненная правда пьесы и служила ободрявшей их «светлой точкой». Один из них описывал свое впечатление от спектакля «Дяди Вани»: «В исполнении умных артистов Московского Художественного театра жизненная правда этой драмы произвела у нас в Петербурге громадное впечатление, и не один человек плакал. В душе тех, которых засосало великое болото пошлости и глупости, именуемое морем житейским, должны были снова зашевелиться лучшие честные чувства, забытые с юности <...> И должен в этих сумерках засиять яркий источник света, — чтобы человек очнулся от своей спячки, очнулся сердцем и умом и заплакал слезами стыда и раскаяния, и вспомнил давно забытые слова: добро, истина, красота... Так светишь ты и греешь застывающих от холода жизни людей, будишь засыпающую мысль, поднимаешь упавшую бодрость духа...» (20 февраля 1901 г. Подпись: «Хмурый человек»).
В русской девушке, обучавшейся в Париже, пьеса Чехова пробудила острое чувство ответственности перед обществом и родиной. После спектакля «Дяди Вани» в исполнении русских любителей она записала в дневнике 4 января 1902 г.: «Что за пьеса! что за впечатление! Говорят — пьеса эта скучна. Скучна наша провинциальная жизнь — и со сцены пьеса кажется так же невыразимо скучной. Но здесь, на ярком, пестром фоне парижской жизни — эта картина русской жизни выделялась так резко, производила такое сильное впечатление <...> И казалось мне, что среди парижского веселья, шума, — расслышала я один звук, проникший прямо в сердце, — голос с родины, отзвук ее жизни <...> За это время — я забыла обо всем на свете, забыла о России и о том, что у меня, как у всякого, есть долг по отношению к родине, что, живя за границей, не должна терять времени, что всякая минута должна быть употребляема с пользой... и я должна дать в ней как бы нравственный отчет обществу» («Дневник Елизаветы Дьяконовой. 1886—1902». Изд. 4-е, М., 1912, стр. 704—705).
Немало споров вызывал образ Серебрякова и пародийно-гротескное его изображение в спектакле Художественного театра. Немирович-Данченко после второй генеральной репетиции писал Чехову, что В. В. Лужский (Калужский) в роли Серебрякова «дал великолепный грим, но такой портрет Веселовского, что пришлось отменить и выдумывать другой» (23 октября 1899 г. — Избранные письма, стр. 180). После премьеры он писал об исполнении этой роли: «Калужский возбудил споры и у многих негодование, но это ты как автор и я как твой истолкователь принимаем смело на свою грудь. Поклонники Серебряковых разозлились, что профессор выводится в таком виде. Впрочем, кое-какие красочки следует посбавить у Калужского. Но чуть-чуть, немного» (27 октября 1899 г. — там же, стр. 181—182). Через некоторое время Немирович-Данченко снова возвратился к вопросу о трактовке образа Серебрякова: «...когда Серебряков говорит в последнем акте: „Надо, господа, дело делать“, зала заметно ухмыляется, что служит к чести нашей залы. Этого тебе Серебряковы никогда не простят». В том же письме он рассказывал о резко отрицательных отзывах о пьесе и «любопытном по невероятному упрямству отношении к „Дяде Ване“ профессоров Моск<овского> отд<еления> Театр<ально>-лит<ературного> комитета» — Стороженко, Веселовского и Иванова — в свое время забаллотировавших пьесу (28 ноября 1899 г. — там же, стр. 183—184). О своем отношении к несколько карикатурному исполнению роли Серебрякова М. П. Чехова писала: «Не особенно хорош, по-моему, Лужский. Он неприятен, противного профессора играет. Большинство с ним согласны» (31 октября 1899 г. — Письма М. Чеховой, стр. 128). О несогласии со сценической трактовкой образа Серебрякова говорилось также в письме М. Т. Дроздовой: «Не знаю, хотели ли Вы настолько изобразить карикатурно профессора, что даже странно, как такой неглупый человек, как дядя Ваня, был таким, смешно как-то и слишком глупо работать на такую карикатуру» (декабрь 1899 г.).
М. О. Меньшиков, во внешнем облике которого Чехов когда-то уловил частицу сходства с портретом Серебрякова («М., в сухую погоду ходит в калошах, носит зонтик...» и т. д.), как ни странно, с удовлетворением воспринял близкое к сатирическому толкование этого образа на сцене: «Очень благодарен Вам за профессора — давно пора вывести этот тип» (20 марта 1901 г.).
Сумбатов (Южин) в своем письме к Чехову сопоставлял обличение мещанства в его пьесах и пьесах Горького: «И по-моему, уж если говорить о борьбе с мещанством, то ты более простыми, но гораздо более сильными приемами гонишь его из жизни. Так заклеймить научное мещанство, как ты это сделал в „Дяде Ване“, как ты это делаешь повсюду, вряд ли удастся теми приемами, которые практикует Горький» (21 марта 1903 г.). Театральный критик Эфрос передавал ходившие «тогда в московских и петербургских литературных кругах» слухи, что подлинную причину неприятия Театрально-литературным комитетом «Дяди Вани» «нужно искать в фигуре профессора Серебрякова, осмеянного Чеховым. В Серебрякове будто бы узнал себя один московский популярный профессор — историк литературы, вознегодовал, что выставили его на публичное осмеяние, другие за него обиделись» (Ник. Эфрос. Московский Художественный театр. М., 1924, стр. 439).
В отдельных письмах затрагивались вопросы трактовки тех или иных образов пьесы и давались ее сопоставления с другими пьесами Чехова. М. Ф. Победимская, одна из корреспонденток, сама исполнявшая на любительской сцене роль Елены Андреевны и понимавшая ее иначе, чем режиссер, запрашивала Чехова: «Елена Андреевна, жена профессора, — тип средней интеллигентной женщины мыслящей и порядочной или же это женщина апатичная, ленивая, не способная ни мыслить, ни даже любить? <...> Я не могу примириться со вторым мнением режиссера и смею надеяться, что мое понимание этой женщины как человека разумного, мыслящего и даже несчастного от неудовлетворения своей настоящей жизнью — правильно» (30 января 1903 г.). Чехов ответил ей: «Быть может, Елена Андреевна и кажется неспособной мыслить, ни даже любить, но когда я писал „Дядю Ваню“, я имел в виду совершенно другое» (5 февраля 1903 г.).
Читатель Б. А. Петровский из Москвы заявлял в своем письме о несогласии с рецензиями на «Чайку» и «Дядю Ваню», «в которых проводятся параллели и сравнения между действующими лицами и разбираются характеры героев той и другой пьесы <...> Начав разбирать слова, действия, характеры и всю жизнь показавшихся мне схожих действующих лиц, я пришел к заключению, что Треплев, дядя Ваня и Сорин по существу своей натуры и характера суть один и тот же человек, в юношеском, среднем и старческом возрастах. Далее мне кажется, что схожими, хоть и не столь сильно, являются Нина Заречная и Елена Андреевна...» (декабрь 1899 г.).
Сравнение «Чайки» с «Дядей Ваней» содержалось и в письме Н. И. Коробова, который писал Чехову 17 января 1900 г.: «Я видел „Дядю Ваню“, по моему мнению, это лучшая русская пиэса за последние 20 лет, я поставлю ее много выше „Чайки“; мне она кажется даже чем-то совсем особенным; в „Чайке“ чувствуешь театр, сцену, а в „Ване“ сама жизнь, и оттого сначала как-то даже дико и странно. А потом как вглядишься, чувствуешь трепетание живой жизни».
Но были также критические отзывы, спорившие с пьесой, отвергавшие ее или указывавшие на отдельные недостатки. Отношение к ней Л. Н. Толстого может служить ярким примером полемического отталкивания от чеховских драматургических принципов и вместе с тем творческого соперничества с Чеховым — в драме «Живой труп», написанной по следам «Дяди Вани».
В начале января 1900 г. Соболевский известил Чехова о желании Толстого увидеть «Дядю Ваню» на сцене: «Л. Н. Толстой, здоровье которого поправляется, изъявил непременное намерение идти в Общедоступный театр на „Чайку“ и „Дядю Ваню“ — и просит своих близких устроить ему эту возможность» (4 января 1900 г.).
24 января 1900 г. Толстой поехал в Художественный театр и через несколько дней записал в дневнике: «Ездил смотреть „Дядю Ваню“ и возмутился» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 54. М., 1935, стр. 10).
О посещении спектакля Толстым рассказывала Чехову на следующий день сестра Мария Павловна: «Переполох в театре был страшный. Очумели все. Шенберг прибегал ко мне два раза сообщать об этом. Немирович тоже был встревожен. Вишневский кланялся все время в ложу Толстого» (25 января 1900 г. — Письма М. Чеховой, стр. 146). Немирович-Данченко описывал Чехову свой разговор с Толстым во время спектакля: «Он очень горячий твой поклонник — это ты знаешь. Очень метко рисует качества твоею таланта. Но пьес не понимает. Впрочем, может быть, не понимал, потому что я старался уяснить ему тот центр, которого он ищет и не видит. Говорит, что в „Дяде Ване“ есть блестящие места, но нет трагизма положения. А на мое замечание ответил: „Да помилуйте, гитара, сверчок — все это так хорошо, что зачем искать от этого чего-то другого?“ <...> И вообще Толстой показался мне чуть-чуть легкомысленным в своих кое-каких суждениях. Вот какую ересь произношу я!» (февраль 1900 г. — Избранные письма, стр. 188).
Особенно раздосадован замечаниями Толстого был Санин (Шенберг) и в своем пространном письме жаловался Чехову и возмущался: «Толстому не понравился мой любимейший „Дядя Ваня“, хотя он очень чтит и ценит Вас как писателя. „Где драма?!“, вопил гениальный писатель, „в чем она“, „пьеса топчется на одном месте!“... Вот за это спасибо! За этот синтез благодарю Толстого!.. Он как раз говорит о том, что мне в „Дяде Ване“ дороже всего, что я считаю эпически важным, глубоким и драматическим <...> Затем Толстой заявил, что Астров и дядя Ваня — дрянь люди, бездельники, бегущие от дела и деревни, как места спасения... На эту тему он говорил много... Говорил еще о том, что „Астрову нужно взять Алену, а дяде Ване — Матрену и что приставать к Серебряковой нехорошо и безнравственно...“ И знаете, что я Вам скажу. Я ждал приезда Толстого к нам в театр как какого-то откровения. И боже мой, как я разочаровался!.. Толстой, тот, прежний, вдруг показался мне постаревшим, отставшим от жизни, людей, молодости...» (12 марта 1900 г. — ГБЛ; ср. ЛН, т. 68, стр. 873. Об отношении Толстого к «Дяде Ване» см. также дневник Д. П. Маковицкого — там же, стр. 874; Н. Телешов. Избр. сочинения, т. 3. М., 1956, стр. 90; В. Лакшин. Толстой и Чехов. М., 1975, стр. 381—400).
Не мог примириться с переделкой «Лешего» в «Дядю Ваню» А. И. Урусов, пристрастный поклонник ранней пьесы, который писал Чехову 27 января 1899 г.: «Я внимательно перечел „Дядю Ваню“ и с грустью должен сказать Вам, что Вы, по моему мнению, испортили „Лешего“. Вы его окромсали, свели к конспекту и обезличили. У Вас был великолепный комический негодяй: он исчез, а он был нужен для внутренней симметрии, да и шелопаи этого пошиба, с пышным и ярким оперением, у Вас выходят особенно удачно. Для пьесы он был дорог, внося юмористическую нотку. Второй, по-моему, еще более тяжкий грех: изменение хода пьесы. Самоубийство в 3-м и ночная сцена у реки с чайным столом в 4-м, возвращение жены к доктору — все это было новее, смелее, интереснее, чем теперешний конец. Когда я рассказывал французам „Лешего“, они были поражены именно этим: герой убит, а жизнь идет себе. Актеры, с которыми я говорил, того же мнения. Конечно, и „Ваня“ хорош, лучше всего, что теперь пишется — но „Леший“ лучше был...» (Слово, стр. 288).
О недостаточной четкости образа Войницкого упоминалось в письме жены профессора хирургии Л. Дьяконовой, которая считала, что «эту пьесу скорее бы можно назвать „Доктор Астров“, так как личность доктора гораздо более рельефна, активные и пассивные стороны ее ясно и понятно обоснованы общественными условиями» (2 ноября 1899 г.).
Немирович-Данченко сразу после премьеры «Дяди Вани» в Художественном театре указывал Чехову на «некоторые грехи пьесы», заключавшиеся «в некоторой сценической тягучести 2½ актов», а также «в неясности психологии самого Ивана Петровича и особенно — в „некрепкой мотивировке его отношения к профессору. То и другое зала чувствовала, и это вносило известную долю охлаждения» (27 октября 1899 г. — Избранные письма, стр. 181).
Значительно позднее, разрабатывая новые принципы «театра живого человека» и припоминая первую постановку «Дяди Вани», Немирович-Данченко отметил в ней некоторые недостатки также и со стороны режиссуры. Он считал, что Художественный театр тогда «где-то, может быть, впадал и в преувеличения. Так, в чеховском спектакле „Дядя Ваня“ казалось, что театр обращал больше внимания на занавеску, которая колышется от ветра, на звуки дождя и грома, на стук падающего от ветра горшка с цветами, чем на глубинную простоту чеховской лирики. Разумеется, он не был исключительно натуралистичен; разумеется, он сливался с настроением чеховской поэзии, в особенности позже, от спектакля к спектаклю, когда все актеры сливались в общей атмосфере чеховской лирики. Но, желая утверждать жизненность всех мелочей, он, может быть, отдавал больше внимания житейским, бытовым мелочам, чем, скажем, той тоске по лучшей жизни, которой проникнуты драмы Чехова» (Вл. И. Немирович-Данченко. Статьи. Речи. Беседы. Письма, т. 1. М., 1952, стр. 192—193).
5
По выходе сборника «Пьесы» (1897), где впервые был напечатан «Дядя Ваня» (из «больших» пьес туда вошли также «Иванов» и «Чайка»), критика оценила творчество Чехова-драматурга ниже его беллетристических произведений. Один из рецензентов отмечал тогда, что «за шумом, возбужденным „Мужиками“, сборник драматических сочинений г. Чехова прошел почти незамеченным» и что «пьесы его в художественном отношении стоят ниже повестей и рассказов» (Тихон Полнер. Драматические произведения А. П. Чехова. Пьесы, СПб., 1897. — «Русские ведомости», 1897, 3 октября, № 273). В другом отзыве подчеркивалось, что, «по общему приговору театральных рецензентов, в Чехове мало драматического таланта. Его пьесы местами растянуты, местами в них ведутся совершенно ненужные разговоры <...> вообще же в них слишком мало действия, а то действие, которое есть, происходит где-то за кулисами» (<Е. А. Соловьев-Андреевич>. Литературная хроника. Пьесы г. Чехова. — «Новости и Биржевая газета», 1897, 10 июля, № 187. Подпись: Скриба).
«Дядя Ваня» был встречен в печати как «полуновинка», и о нем говорилось тоже не совсем одобрительно: «Лет семь-восемь назад та же пьеса, только под названием „Леший“, шла на одной из частных московских сцен, но публике, по-видимому, не понравилась, прошла небольшое число раз и совсем исчезла из репертуара русских сцен. Теперь драма или, как скромно зовет ее сам автор, „сцены из деревенской жизни“, значительно переделана <...> В чтении пьеса производит впечатление очень большое и очень тяжелое, удручающее. Предсказать ее судьбу на сцене — мудрено. Вряд ли и после переделки ждет ее успех у среднего зрителя... Многое очерчено неясно, все действие пьесы точно окутано туманом, быть может — даже умышленным. Нужно долго вдумываться, чтобы понять мотивы поступков героев и оценить всю их правду. А зритель любит ясность, точность, определенность, контуры твердые и даже резкие. Так называемое „настроение“ (а его в пьесе бездна!) ценится в зрительном зале очень мало» («Новости дня», 1897, 5 июня, № 5029, отд. Театральная хроника).
В одном из первых печатных отзывов об Астрове говорилось как о наиболее значительном лице пьесы и в то же время как ярком примере «положительного типа» в творчестве Чехова: в нем «нет ничего титанического, ничего такого, что делало бы нашего доктора „героем“», он — «такой же простой смертный, как и все окружающие его», однако он «видит многое и думает над многим», «не довольствуется тем, что рисует карту вырождения уезда, но и старается, по мере своих сил, бороться с этим вырождением, старается противодействовать ему» (Я. Абрамов. Наша жизнь в произведениях Чехова. — «Книжки Недели», 1898, № 6, стр. 158—160).
В рецензии на спектакль, сыгранный в Павловске, А. Р. Кугель рассматривал пьесу как «картину нравственного разброда русского общества», находил, что «Чехов в „Дяде Ване“ проще, естественнее и понятнее», чем в «Чайке», называл IV акт пьесы «сценическим шедевром», «самым ярким сценическим произведением последних лет» («Дядя Ваня». — «Театр и искусство», 1898, № 31 от 2 августа, стр. 553. Подпись: H<omo> nov<us>).
В мае 1899 г. М. Горький переслал Чехову полученный им из Тифлиса печатный отзыв о пьесе. Рецензент писал о «Дяде Ване» как «драме будничной жизни», где «истинно по-чеховски, то есть с тонкой наблюдательностью и глубоким психологическим анализом», рассказано о людях «умных, талантливых, образованных, которые всю свою жизнь тратят на пустяки и прозябают в бессознательном квиетизме, занимаясь делом недостойным их, постепенно втягиваясь в пошлую обывательскую жизнь, существуя без всякой пользы для других и для себя...» («Кавказ», 1899, 2 мая, № 114, отд. Театр и музыка. Подпись: Н. М.). По поводу этой заметки М. Горький от себя добавлял: «Мелко, по-моему, плавает этот рецензент и плохо понял, очень уж внешне. Может быть, вам все-таки интересно» (Горький и Чехов, стр. 44).
Вскоре М. Горький обратил внимание Чехова на другой отзыв — «статью Соловьева» и находил, что о «Дяде Ване» автор написал «недурно», хотя «все это не то, что надо» (конец августа 1899 г. — там же, стр. 52). Автор статьи считал «Дядю Ваню» лучшей из включенных в сборник 1897 г. пьес — «по богатству и разнообразию содержания, по глубине затронутых психологических мотивов»: в ней «лучше, чем в какой-нибудь другой его пьесе, отразилась вся растерянность миросозерцания породившей его эпохи, вся глубина ее тоскливого пессимизма и неверия, вся испуганность перед действительностью...» Сцену ссоры Войницкого с Серебряковым из III акта он считал «центральной сценой всей пьесы» и «одной из лучших и сильнейших современного драматического репертуара» (Андреевич. Антон Павлович Чехов. — «Жизнь», 1899, № 8, стр. 182, 184, 187).
Значительному большинству критиков драматургическое новаторство Чехова открылось лишь после постановки его пьесы в Художественном театре. Тогда вся печать заговорила о «Дяде Ване» как о самой интересной пьесе текущего репертуара, о «новом слове», сказанном Чеховым-драматургом.
В «Русских ведомостях» говорилось: «Из театральных новинок настоящего сезона возбуждает наибольший интерес и имеет очень большой успех пьеса г. Чехова „Дядя Ваня“. Впечатление, производимое ею на сцене „Художественно-общедоступного“ театра, может быть сравнимо только с тем настроением, которым заражала зрителей исполненная в том же театре пьеса того же автора „Чайка“» (И. Игнатов. Семья Обломовых. По поводу «Дяди Вани» А. П. Чехова. — «Русские ведомости», 1899, 24 ноября, № 325).
Петербургский рецензент, побывавший на втором представлении «Дяди Вани» в Художественном театре, писал: «Своеобразность дарования А. П. Чехова как драматурга заключается, как мне кажется, именно в том, что он, вопреки обычной драматургической мании, изображает на сцене не исключительные явления, не исключительные образы, а самые подлинные человеческие будни с заурядными фигурками и с заурядными фактами <...> Дело в том, что А. П. Чехов несомненно пришел на сцену с „новым словом“, которого давно и тщетно разыскивали многие из наших современных драматургов. Я оставляю здесь в стороне, хорошо или худо это чеховское „новое слово“, я утверждаю лишь, что оно им произнесено <...> До последнего времени драматурги всех стран и эпох писали для сцены драмы, комедии и водевили. Для этих писаний имелись определенные формы, определенные требования, имелась, казавшаяся незыблемой, традиция <...> Мы несомненно присутствуем и ныне при борьбе нового направления драматического творчества с давно установившимися формами, и Антон Чехов идет во главе движения <...> „Дядя Ваня“, это, разумеется, не комедия, это тем более не драма, несомненно это и не водевиль, — это, именно, „настроение в четырех актах“» (<Н. О. Ракшанин>. Из Москвы. Очерки и снимки. — «Новости и Биржевая газета», 1899, 6 ноября, № 306. Подпись: Н. Рок).
О «Дяде Ване» теперь говорилось как «боевой пьесе сезона», «драме первоклассных достоинств, трепещущей правдою и сверкающей талантом» («Новости дня», 1899, 26 октября, № 5898, отд. Театральная хроника).
В письме от 28 ноября 1899 г. Немирович-Данченко указывал Чехову на ряд статей о его пьесе, появившихся в газетах «Московские ведомости», «Русские ведомости», «Новости», «Курьер», в журналах «Русская мысль» и «Театр и искусство». В статье Эфроса, которую Немирович-Данченко считал «хорошей статьей», говорилось, что пьеса является «событием большой художественной важности», «гвоздем сезона»; автор возражал тем, кто сводил ее значение к «карикатуре на дутую самовлюбленную ученость» Серебряковых и намечал точки соприкосновения между «Дядей Ваней» и другими пьесами Чехова — «Ивановым» и «Чайкой», находил в них «единство основного мотива, колорита и настроения» — «серые, сумеречные будни», «унылая опошлившаяся жизнь, мучительные, неумелые и, конечно, бесплодные усилия, протест, выродившийся в ней в брюзжание, и оригинальность — в чудачество...» Отвечая критикам, которые ставили в вину Чехову, что «поступки его персонажей лишены достаточных оснований, не мотивированы, непоследовательны», Эфрос подчеркивал: «а в этой атмосфере только такие поступки и возможны, только так они и совершаются».
Отличительной особенностью драматургической «манеры» Чехова Эфрос считал то, что «драмы Чехова — пьесы настроения прежде всего». Разъясняя это определение, он отмечал, что Чехов при этом «далек от ухищрений декадентов и символистов <...> он остается верным учеником своих великих учителей-реалистов <...> Но он умеет выбирать детали, умеет группировать их так, что они дают требуемое душевное состояние. Для чего другим приходится прибегать <...> к приемам, позаимствованным у музыки, — того Чехов достигает при помощи обычных средств художественного слова» («Из Москвы». — «Театр и искусство», 1899, № 44 от 31 октября, стр. 776—778. Подпись: Старик. Его же перу принадлежали статьи о «Дяде Ване», напечатанные в «Новостях дня» — 26 октября, № 5898, без подписи; 27 октября, № 5899, без подписи; 31 октября, № 5903, с подписью: — ф —).
В числе немногих прочитанных Чеховым печатных отзывов на «Дядю Ваню» были рецензии, помещенные в газетах «Курьер» и «Новости и Биржевая газета» (см. письмо Чехова Немировичу-Данченко 3 декабря 1899 г.). В рецензии «Курьера», принадлежавшей Я. А. Фейгину, говорилось, что пьеса производит впечатление «глубокого недоумения» и «мучительной загадки», что драма, переживаемая действующими лицами, не мотивирована и зрителю остается «принять на веру это внезапное, необъясненное нам крушение веры в гений полубога <...> Автор дал мало, слишком мало рисунка в изображении отставного профессора Серебрякова». Сам рецензент полагал, что «гневные, безумные речи дяди Вани», «бешеная злоба на профессора» вызваны «только болезненным сознанием того, что любимая им женщина принадлежит не ему, Ивану Войницкому, а этому полубогу» («„Дядя Ваня“. Сцены из деревенской жизни, в 4-х действ. Антона Чехова...» — «Курьер», 1899, 29 октября, № 299. Подпись: — ин).
В более поздней статье того же автора, которую Немирович-Данченко назвал «недурной», утверждалось, что не следует переоценивать «значение любовного аффекта дяди Вани» и что «не на нем зиждется идейный интерес драмы», а «на разрушительной силе» Серебрякова. «Но разрушительная мощь Серебрякова автором не доказана, и в этом-то заключается слабая сторона» пьесы. «Несмотря, однако, на этот основной недостаток, пьеса полна таких жизненных сцен, рисует нам так художественно-просто глухую жизнь „нудных“ людей, что мы готовы забыть об этом недостатке и искренно восхищаемся отдельными картинами, написанными сильной, уверенной рукой художника» («Письма о современном искусстве. II». — «Русская мысль», 1899, № 11, стр. 209. Подпись: — ин).
Ракшанин, автор другой рецензии, упомянутой Чеховым (о ней см. выше), писал, что в пьесе «вырисовывается томящая и безотрадная скука существования заурядного современного человека». При этом он видел своеобразие дарования Чехова-драматурга в «поэтическом символизме»: «Если же задачей драматурга является не коллизия драматических и комических положений, а передача зрителю известного рода настроения, то не может быть вопроса и о значении фигуры, поставленной в центре произведения. Тут, вообще, отдельные образы и даже взаимные отношения в значительной мере стушевываются — на первом плане общая мелодия существования, если можно так выразиться, тот своеобразный „лейтмотив“, который звучит, доминируя во всей их жизни, и является, по мысли автора, торжествующим мотивом в современном существовании вообще».
В статье «Русских ведомостей» отмечалось сходство людей «переутомленного сердца» — дяди Вани, доктора Астрова и литератора Тригорина — с литературным типом Обломова: «Обломовские черты сквозят в каждом шаге действующих лиц, в выраженных ими желаниях, в мечтах, в бесконечно унылом сознании, что жизнь могла бы быть лучше и что сами они выше того недостойного существования, которое ведут». По мнению автора, в этих трех лицах «проявились три стадии обломовского существования» — безобидная «хрустальная душа», «сознание безнадежности своего положения» и способность «давить и обижать других» (И. Игнатов. Семья Обломовых. По поводу «Дяди Вани» А. П. Чехова. — «Русские ведомости», 1899, 24 ноября, № 325). Об этой статье Чехов упоминал в письме Немировичу-Данченко 3 декабря: «В „Русских вед.“ видел статью насчет „Обломова“, но не читал; мне противно это высасывание из пальца, пристегивание к „Обломову“, к „Отцам и детям“ и т. п. Пристегнуть всякую пьесу можно к чему угодно...»
В рецензии Кугеля говорилось, что «не в содержании, не в интриге дело, а в том духе, которым пьеса проникнута, в настроении, которое она источает, в колорите, которым она замечательна». Главнейшим свойством всех чеховских героев рецензент считал «эпизодичность существования»; «эпизодичность» же является, по его мысли, «основным свойством фантазии и художественного мироощущения г. Чехова». «Г. Чехов чувствует, мыслит и воспринимает жизнь эпизодами, частностями, ее разбродом, и, если можно выразиться, бесконечными параллелями, нигде не пересекающимися, по крайней мере, в видимой плоскости» («Театральные заметки». — «Театр и искусство», 1900, № 8 от 20 февраля, стр. 168—169. Подпись: А. К—ель).
Петербургские критики, писавшие о «Дяде Ване» в связи с гастролями Художественного театра, чаще подчеркивали недостатки пьесы и выступали с защитой традиционных форм драмы. Критик «Нового времени» вообще не видел в пьесах Чехова «каких-либо особых новаторских приемов», находил, что «в них именно мало действия, т. е. весьма мало драматического элемента» и считал пьесу «Дядя Ваня» «еще более неудовлетворительной». По его мнению, все действие пьесы заключено в «одном драматическом эпизоде в третьем акте», а «все остальные части ее наполнены разговорами», которые «не находятся решительно ни в какой генетической или органической связи с самой драмою». Он утверждал, что «в пьесах Чехова можно искать всего: сатиры, сарказма, насмешки, иронии, даже злобы, личного настроения автора и его отрицательного отношения к жизни, но нельзя найти в них ровно никакой драмы» (<Одарченко.> Три драмы А. П. Чехова. — «Новое время», 1901, 27 марта, № 9008. Подпись: Ченко). Отвечая этому критику, П. П. Перцов доказывал, что «сатира всегда — взгляд со стороны: это, так сказать, объективная лирика», а пьесы Чехова есть истинные «излияния души» и их ирония — «спутница их скептицизма», что «между Ан. Чеховым и „чеховцами“ нет никакой заклятой черты», «это и есть настоящая драма — лирическая форма театра» (П. Перцов. Сатира или драма? — «Новое время», 1901, 29 марта, № 9010).
Д. В. Философов в своей статье полагал, что «Чехов, а вместе с ним и Художественный театр совершенно порвали с недавно еще царившими в театре традициями» и «создали драму без героев, „драму среды“ <...> со всеми присущими ей органическими достоинствами и недостатками». В «Дяде Ване» он видел «болезненное, фотографически точное воспроизведение нашего вырождения», «истинно декадентскую утонченность» и призывал «поскорее пройти через мучительную фазу „театра иллюзии“, поскорее отделаться от одуряющего и полного губительных соблазнов эстетизма Чехова, чтоб идти дальше, от вырождения к возрождению» (Д. Философов. «Дядя Ваня»... — «Мир искусства», 1901, № 2—3, стр. 104—106). В «Критических заметках» А. И. Богдановича отмечалось, что в пьесе при чтении «не чувствуется непосредственной правды, а что-то надуманное и тяжелое», и что «зависит это от недостатка в ней художественной правды: все главные лица не живые люди, а аллегории, которые должны выяснять основную мысль автора. В особенности это заметно в центральном лице пьесы, дяди Вани, и в профессоре, которые не имеют ни одной живой черты». Далее автор останавливался на «метаморфозе», которую пережила пьеса при ее переходе на подмостки сцены. По его мнению, «только постановка пьесы московской труппой дает ей ту художественную оболочку, которой пьеса сама по себе не имеет» («Московский Художественный театр...» — «Мир божий», 1901, № 4, стр. 1—5; рубрика: Критические заметки. Подпись: А. Б.).
В рецензии «Пермского края», которую Чехов читал (см. письмо к Книппер от 17 декабря 1902 г.), говорилось, что прошедший 6 декабря в городском театре спектакль «Дядя Ваня» был «один из наиболее удачных в нынешнем сезоне. Серая, монотонная, бессодержательная жизнь захолустья была прекрасно передана исполнителями, которым удалось воплотить „серые пятна“ чеховской драмы». Рецензент писал далее: «Очень трудно ставить и выполнять такие драмы, как „Дядя Ваня“, и особенно последний акт ее, когда ясно видишь, что жизнь засасывает и дядю Ваню, и Соню, и доктора, и если эта драма прошла так хорошо, как в пятницу, — это должно быть поставлено в актив труппе г. Никулина» («Пермский край», 1902, 8 декабря, № 544, отд. Театр и музыка. Подпись: Вл. Тр.).
При жизни Чехова пьеса была переведена на немецкий и чешский языки.
1 марта 1900 г. И. И. Левитан сообщал Чехову о желании одного немецкого переводчика перевести пьесу и поставить ее в Мюнхене (ГБЛ; «И. И. Левитан. Письма. Документы. Воспоминания». М., 1956, стр. 10). 5 марта 1900 г. известный немецкий поэт Р.-М. Рильке извещал о своем намерении перевести «Дядю Ваню» и просил выслать ему экземпляр «Пьес» (Записки ГБЛ, вып. VIII, стр. 56). Е. Цабель просил разрешить перевод пьесы для ее постановки в Берлинском театре (7 марта 1900 г. — ГБЛ). Чешский переводчик Б. Прусик 16/29 мая 1900 г. сообщил о сделанном им переводе пьесы, который был заказан дирекцией Национального театра в Праге. 15/28 сентября он писал, что пьеса принята театром к постановке, а 5/18 ноября 1900 г. выслал Чехову экземпляр издания «Дяди Вани» на чешском языке. Премьера пьесы в Праге состоялась 7/20 апреля 1901 г. (постановщик и исполнитель роли Серебрякова — И. Шмага). 17 апреля Чехов оповестил Книппер: «Сейчас получил большую афишу: мой „Дядя Ваня“ прошел в Праге с необыкновенным треском». Прусик выслал Чехову также номер журнала «Meziaktí» («Антракт») от 20 апреля 1901 г. с программой спектакля и своей статьей «Антон Павлович Чехов и его „Дядя Ваня“» (см. ЛН, т. 68, стр. 753 и 761). 3 декабря Чехов известил его о получении еще двух афиш в связи с постановкой «Дяди Вани» в Чаславе и Нимбурке на любительских сценах (о постановках пьесы в Чехии в 1901 г. и отзывах критики см. в статье: Ш. Ш. Богатырев. Чехов в Чехословакии. — ЛН, т. 68, стр. 755—757). С предложением перевести «Дядю Ваню» к Чехову обращались также д-р М. Буцци (Buzzi) — на итальянский язык (5/18 августа 1902 г.), О. Р. Васильева — на английский (февраль 1901 г.; см. письмо к ней Чехова 24 января 1901 г.).
11 марта 1903 г. Книппер сообщала о разговоре с приехавшим в Москву немецким переводчиком А. Шольцем, о его желании переводить Чехова и о постановке «Дяди Вани» в берлинском «Kleines Theater» (Книппер-Чехова, т. 1, стр. 240).
Сноски из примечаний
1 В частности, к фразе: «Ничто не подготовляет нас к тому сильному взрыву страсти, который происходит во время разговора с Еленой» — рукой Чехова сделана пометка: «у кого?». Смысл этого замечания проясняется из письма Чехова к Книппер от 30 сентября 1899 г., в котором он также указывает на ошибочное толкование ею сцены последнего свидания Астрова с Еленой: «Вы пишете, что Астров в этой сцене обращается к Елене как самый горячий влюбленный, „хватается за свое чувство, как утопающий за соломинку“. Но это неверно, совсем неверно! Елена нравится Астрову, она захватывает его своей красотой, но в последнем акте он уже знает, что ничего не выйдет, что Елена исчезает для него навсегда — и он говорит с ней в этой сцене таким же тоном, как о жаре в Африке, и целует ее просто так, от нечего делать. Если Астров поведет эту сцену буйно, то пропадет все настроение IV акта — тихого и вялого».