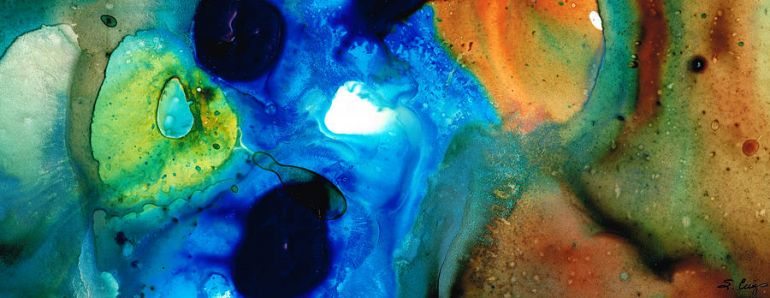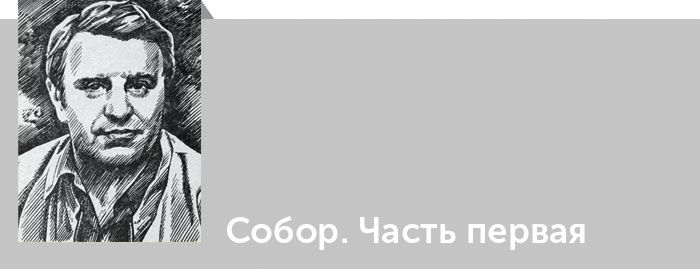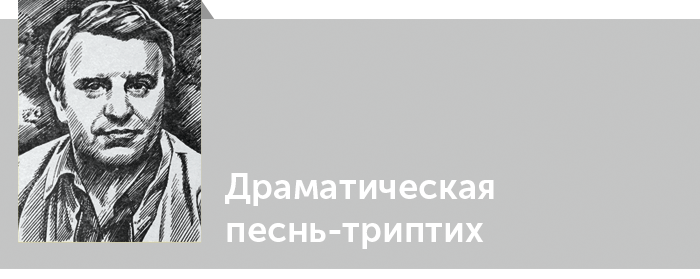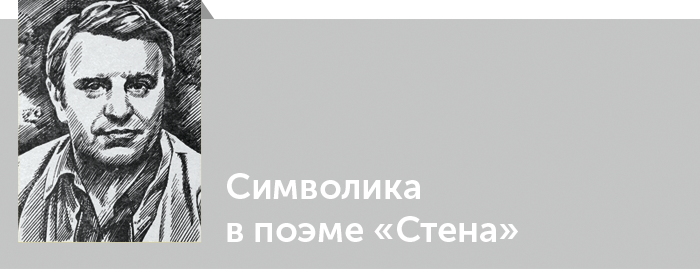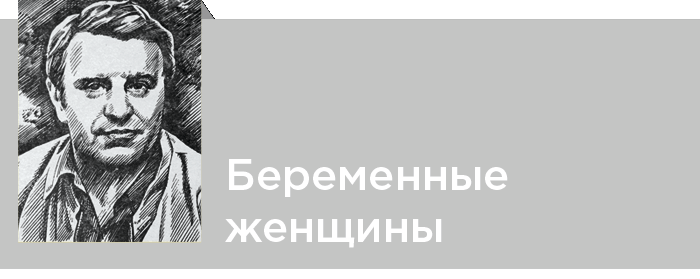Сосна, которая смеялась. Часть первая
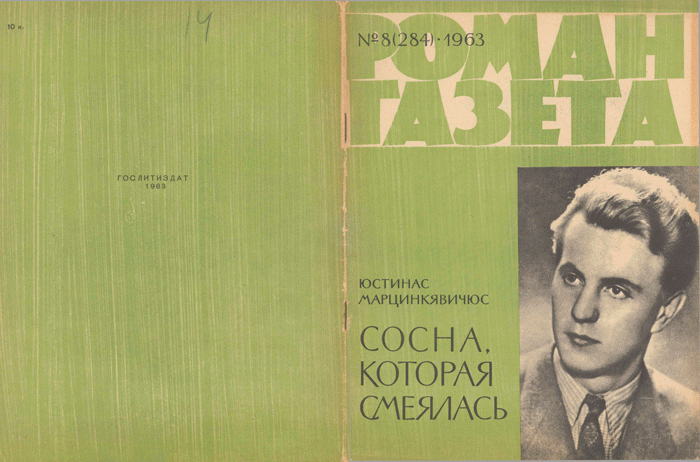
ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧЮС
СОСНА, КОТОРАЯ СМЕЯЛАСЬ
ПОВЕСТЬ
Часть первая
1
Просыпаясь, я всегда слышу музыку. Она возникает где-то далеко-далеко, наверное, там, откуда я возвращаюсь в свой новый день. Вначале слабая, чуть слышная — не столько слышна, сколько угадывается, — она все нарастает, захлестывает меня... И вот я уже не просто слышу эту нездешнюю музыку, я воспринимаю ее всем пробуждающимся от сна телом. Кажется, вибрирует каждый мускул, каждая жилка. Кто-то прикасается к ним молодыми пальцами, перебирает одну за другой — как струны арфы. Затем вступают духовые, начиная грозную тему рока. Какое-то время — если мгновение можно назвать временем — во мне бушует вечная симфония жизни и смерти, радости и страдания. Охваченный трепетом, я вот-вот, кажется, постигну сокровенный смысл титанической борьбы этих двух стихий, как вдруг откуда-то врывается бравурный треск барабанов, визгливый, металлический хохот тарелок — и я открываю глаза.
Была ли музыка? Наверное, была. Какую-то долю секунды я еще слышу, как резонируют комната и все предметы — книжная полка, стол, стул, мольберт с недописанным полотном, небрежно брошенная палитра, кисти, картины на стенах, груда эскизов в углу и даже трехлапая люстра под потолком. Я подозрительно смотрю на вещи. «Неужели это они звучат?» Но вещи молчат. Мне еще ни разу не удалось застичь их раньше, чем они отыграют музыку пробуждения.
Чувствую, как часто и гулко колотится сердце, взбудораженное предчувствием великого озарения: казалось, еще какой-то миг — и я все-все постигну. Почему всегда все заканчивается раньше? Кто этот дирижер, который властным жестом очерчивает дьявольски заманчивый круг познания и неизменно замыкает его в том месте, с которого, вероятно, и началось бы полное знание? Он представляется мне демонически суровым и неумолимым, как рок: ни одной липшей тысячной такта! Он издевается надо мной, насмехается над каждой клеточкой. О, конечно, это не ново для него. Миллионы лет он повторяет все тот же мотив, который начинается там, где кончается, и кончается там, где начинается. Ни на что другое он и не способен. «Достопочтенные слушатели, в моей партитуре больше ничего нет. Я не волен убавить или прибавить что-либо. Возможно, среди вас найдется автор?..»
Люди, почему мы молчим? Разве не мы авторы этого злосчастного мотива? А может... может быть, и мы сами, и все, что мы имеем, — это лишь инструменты одного огромного оркестра? Инструменты... Черт побери!
Если есть инструменты, есть партитура и дирижер, то должен быть и автор. Мой дед назвал бы его создателем, отец — судьбой, а я никак не называю и никому не молюсь. Я хочу быть автором.
Я все еще лежу, закинув руки за голову, и наблюдаю битву за вещи. Свет побеждает. Одну за другой он выхватывает предметы из массы разжиженного сумрака, придавая им истинную форму и цвет, и ставит на место. Форма предметов и определяет их место. Сегодня моя голова полна мыслей. Я хочу сказать: все, что имеет место, не может не иметь содержания. Существую, следовательно, наполнен содержанием. Вот вам блестящая формула, защищающая формализм в любых его формах. Разумеется, если у вас появится желание его защищать.
Я протянул руку, нащупал на подоконнике шнур и поднял штору. Человек должен помогать свету творить вещи, так же как свет помогает человеку. Мое окно выходит на запад, и комната никогда не видит встающего солнца. В конце концов, какая разница? Можете ли вы сказать, когда солнце встает, а когда садится? Лично я не берусь, и солнце, насколько мне известно, тоже.
Я сегодня «в форме». Отдохнувшее тело жаждет движения, чувствую, что могу управлять каждым мускулом, могу приказать, и мускул подчинится. Я еще не пробовал, но твердо знаю: стоит мне захотеть, и заставлю мысль подняться в те выси, с которых открывается головокружительная бездна знания и незнания. Ах, раскинуть руки и упасть в нее, как падаешь во сне! И либо проснуться с неистово бьющимся сердцем, либо... либо не проснуться.
В доме еще тихо/ И наша уличка тиха. Автобусы и грузовики почти не ездят по ней. Город бурлит дальше, за целый квартал отсюда. «Тихая заводь» называют приятели нашу квартиру. И соседи у нас тоже тихие. Всегда учтиво здороваются, справляются об отце. Отец живет здесь давно, его знает и уважает вся улица — наш профессор! Для меня он никакой не профессор, а старый, больной и, по-моему, совсем не интересный человек. Пока преподавал в университете — еще держался. Вернее сказать, его поддерживали работа и постоянное общение с молодыми. В позапрошлом году отец ушел на пенсию и буквально за неделю состарился, обмяк и притих. За стеной слышны его кашель, грузные шаги, и я словно вижу, как он медленно подходит к стеллажам, вижу, как его непослушное тело с трудом тянется за какой-то книгой. Потом шорох нетерпеливо перелистываемых страниц, и снова тяжелое шарканье. Я мог бы зайти, подать нужную книгу. Но мне почему-то неловко за слабость отца. Мне кажется, что и ему было бы неловко. Сочувствие — пища слабых.
А мне недавно исполнилось двадцать два, и в целом мрре нет сильнее меня!..
В другой комнате стукнула оконная рама, и вот уже по полу рассыпаются мелкие, дробные шаги — Юле делает зарядку. Ее пышные черные волосы свободно струятся по шее и плечам, большие, всегда широко раскрытые глаза удивленно смотрят на белый свет. Юле девятнадцать, в этом году она кончает школу. Отлично играет и мечтает поступить в консерваторию.
Прежде, услышав шаги Юле, я вскочил бы с постели и побежал делать зарядку вместе. У нее просторно, посреди комнаты — большой старый ковер: прыгай, кувыркайся, ходи на голове. Юле всегда кончает зарядку первой. Тут же садится к пианино — размять пальцы, как она говорит, — и несколько минут кряду гонит темпераментные пассажи, марши. Это как бы аккомпанемент к моей зарядке. Что может быть лучше! Потом Юле бежит в ванную, а я включаю электробритву.
Но теперь я не могу ворваться к Юле в одних трусах. Я знаю. А Юле ничего не знает и, наверное, ждет меня. Философы говорят, что знание освобождает человека. Черта с два. Свободны только дети и дураки, потому что они ничего не знают.
Услышав, что Юле захлопнула крышку пианино и вприпрыжку побежала в ванную, я быстро натянул пижаму и тихонько открыл дверь. Сегодня я хочу сам взять газеты и письма, если они будут. А одно-то уж наверняка должно быть. Я торопливо отпираю почтовый ящик, вытаскиваю газеты и скорее слышу, чем вижу, как шлепается на пол розоватый конверт с видом Паланги. Тот самый конверт, что я опустил вчера в большой полированный ящик на центральном почтамте. И вот я снова держу его в руках. Как быть? Еще не поздно. Еще не поздно уничтожить письмо. Думай, болван, думай! Но глаза по-идиотски уставились на электрический счетчик. «Тысяча двести тридцать семь, тысяча двести тридцать семь, тысяча двести тридцать семь, — выстукивает в голове. — Весна — электричества уходит меньше... отец будет доволен... тысяча двести тридцать семь...»
Со мной вечно так. Когда нужно что-нибудь решить быстро и наверняка, я могу думать о чем угодно, только не о деле. «Тысяча двести тридцать семь...»
Из ванной, напевая, выходит Юле. Черные волосы, перехваченные широкой белой лентой, блестят после воды и гребня. Я даже не пытаюсь спрятать руку с письмом.
— Доброе утро, Ромас! — ласково говорит она.
Но я молчу, и она спрашивает:
— Тебе письмо?
Я протягиваю розоватый конверт и отвечаю:
— Нет. Письмо тебе... — не смею добавить: «Юле!»
— Мне? О, господи... — Она быстро вытирает руки о пестрый халатик, хотя они совершенно чистые, и осторожно берет письмо. Теперь и я вытираю вспотевшие ладони.
Даже не глянув на конверт, Юле тут же, в коридоре, нетерпеливо вскрывает его и принимается читать.
Я вижу, как ее большие глаза становятся еще больше, в них мелькает удивление, потом радость, потом стыд и испуг. Затем все лицо заливается краской — она растекается по белой шее и, затопив небольшой вырез халата, выплескивается на грудь. Юле, должно быть, покраснела вся — с головы до пят. Я понимаю, что ей не по себе. И тут происходит самое неожиданное: я тоже начинаю краснеть. Только этого не хватало. Буркнув что-то, спешу прошмыгнуть мимо ошеломленной Юле и захлопываю дверь своей комнаты.
Слышно, как Юле садится на тахту.
Я стою в своей комнате и думаю, сколько же все-таки показывает счетчик? Никак не могу вспомнить, то ли тысяча двести тридцать семь, то ли тысяча двести семьдесят три. Чуть было не вышел посмотреть, но вовремя сообразил, что все это выглядит чертовски глупо. Главное, не выглядеть глупо. Насвистывая, включаю электробритву. Весна, электричества расходуется гораздо меньше...
Тут-то я и спохватился: отец!
Надо поговорить с отцом.
2
Я постучал в дверь кабинета. Отец не позволяет входить без стука. «Меня пугает внезапно открытая дверь, — грустно шутит он. — Всякий раз я думаю: не явился ли тот последний гость, которого я не звал, но знаю, что он обязательно придет. Придет, не постучавшись, и уведет с собой...» — «Не надо, папочка!» — просит в таких случаях Юле и по-детски прижимается к нему.
Отец сидит за письменным столом, спиной к двери, и я не вижу его лица. Уткнулся в какую-то книгу и даже не обернулся, когда я вошел, —'уже одно это отбивает охоту говорить с ним. Я давно вышел из того возраста, когда, привстав на цыпочки, тянутся поцеловать занятого работой отца. Поэтому стою у двери и жду. Наконец, все еще не отрываясь от книги, он спрашивает:
— В чем дело, Ромас? Ты, кажется, не сказал мне «доброе утро»?
— Сказал.
Будто нет на свете ничего важнее утреннего приветствия!
— Тогда садись. Минутку — я закончу абзац...
Я взял стул и сел напротив. Теперь я видел склоненный над книгой высокий лоб отца, который то собирался морщинами, то снова разглаживался. «Это бродит мысль», — таинственно шепнула бы Юле. Рука, зажавшая неизменную, надоевшую всем, кроме отца, янтарную ручку, дрожала так сильно, что казалось, перо вот-вот вонзится в стол. Шерстяной свитер с высоким воротом плотно облегал исхудалую фигуру. Отец любит тесную одежду. «В ней я лучше чувствую свое тело», — говорит он.
Мне стало жаль этого маленького, сгорбленного, сухого человека, и, стыдясь своей жалости, я принялся разглядывать стол. Как всегда, он завален книгами, из которых торчат разноцветные закладки. Посредине, прямо передо мной, стоит рабочая картотека — несколько продолговатых ящиков со множеством карточек. Отец заканчивает, как он сам говорит, «последний свой труд» — словарь синонимов литовского языка. Он уже лет десять, если не больше, собирает материал. Я осторожно вытянул шею, чтобы прочесть карточку, лежавшую на столе. На карточке жирным, крупным шрифтом был написан и подчеркнут глагол «брать». Мне вдруг пришло в голову, что отцу, должно быть, неинтересно и грустно корпеть над этим словом. В его годы не так уж много остается брать. Да и всю его жизнь можно определить совсем другим словом, оно тоже четко выведено, аккуратно подчеркнуто и лежит со всеми своими синонимами в картотеке — словом «давать». Брать и давать. Когда-нибудь, на досуге, я еще подумаю над этим.
— Так в чем же дело, Ромас? Деньги?
Я вздрогнул. Оказывается, отец уже отодвинул книгу и положил ручку. Теперь он сидел на краю стула, откинувшись на спинку. Руки отдыхали на столе, как усталые птицы.
Наверно, я снова покраснел от стыда и досады. Скажите, кто из вас не подумывает о деньгах, особенно если вы молоды и к тому же учитесь? Однако вовсе не обязательно, чтобы всякий раз, как только вы начинаете мысленно похрустывать банкнотами, вас одергивали: молодой человек, вы думаете о деньгах!
А самое обидное, что на этот раз я, как ни странно, пришел совсем по другому делу. Можно биться об заклад: отец нарочно швырнул это металлическое слово, чтобы я съежился, почувствовал всю свою никчемность и замкнулся в себе. И так каждый раз. То он обидит меня, то я наговорю ему гадостей, и хоть плачь потом...
Я посмотрел отцу прямо в глаза и, как можно спокойнее, сказал:
— Я пришел поговорить о Юле.
Он вроде бы удивился:
— О Юле? А что с ней?
Начало разговора не сулило ничего доброго. Я решил идти напролом. Напролом —- всегда проще.
— Позавчера ты вдруг ни с того ни с сего заявил, что Юле вовсе не сестра мне...
— Да, и надеюсь, ты еще не проговорился об этом. Я, кажется, сказал, что не хочу срывать ей экзамены.
— Однако я требую...
— Во-первых, — отчеканил отец, — я слишком стар, чтобы от меня требовали, а во-вторых, я как-никак твой отец.
— Ладно, тогда прошу...
Отец тяжело поднялся. Я видел, что его раздражает и мое раннее появление — обычно мы встречались за завтраком, — и настойчивый тон. Он сделал несколько больших шагов по кабинету, поднял голову и взглянул на меня, будто желая убедиться, что я все еще тут. Потом остановился посреди комнаты, словно отыскал наконец нужную точку, и сказал тихо, так тихо, что я едва расслышал:
— Никогда не предполагал, что у тебя достанет наглости судить меня...
Хуже всего, что он говорил не со мной. Он сказал это книжному шкафу. Я был всего-навсего статистом, и отец не упустил случая подчеркнуть это. Мы оба ждали, что ответит книжный шкаф. Но шкаф молчал, и отец снова заговорил:
— Ты пришел вступиться за права матери, матери, которой даже не видел... которую ты... — Он внезапно повернулся ко мне. — Неправда, что твоя мать умерла от рака, когда ты был еще маленьким. Она умерла, родив тебя. Не было и нет человека, который бы любил и уважал, да, и уважал твою мать, как я. В твоем сердце она не занимает никакого места. Судьба обидела, больно обидела тебя. Но гораздо больнее обидела меня. Ты еще не знаешь, что такое любить, быть вместе — и потерять. Дай бог и не знать тебе этого... Я надеялся, что ты полюбишь ее хотя бы по моим рассказам. Очевидно, это невозможно, как невозможно любить портрет... А я любил твою мать, любил! И ты не заменил мне ее. Некоторое время я обманывался, старался внушить себе... Но чем дальше, тем яснее становилось, как непохож ты на нее. Прости меня, сын, за эти резкие, но, мне кажется, справедливые слова... Поверь, я не посмел бы произнести их, если бы... если бы ты был хоть чуточку похож на свою мать.
Тут отец снова отвернулся к шкафу, выпрямился во весь рост и сказал:
— Мне уже недолго осталось... В моем возрасте не лгут, даже если очень хочется. Клянусь, с того дня, как встретил твою мать, я не знал другой женщины, хотя, может быть... может быть, имел на это право.
Я видел, что отец необычайно взволнован. Он чуть ли не бегом подбежал к столу и с силой оперся на него.
— Тебе, конечно, этого мало. Ты хочешь знать, откуда в нашем доме появилась Юле. Не было ли тут любовной интрижки, которую завел твой отец? Да если бы Юле и в самом деле была плодом моей незаконной любви, все равно я... чист перед тобой, и не тебе судить меня, слышишь?
Я все слышал и честно старался понять. Но все время мешала одна и та же мысль, сколько же все-таки накрутило на счетчике: тысяча двести тридцать семь или тысяча двести семьдесят три? Последнее время меня назойливо преследуют цифры — я обдумываю свою дипломную работу, которая будет называться «Триптих чисел» или что-нибудь в этом роде.
Отец устало опустился на стул, потом выдвинул средний ящик стола, не глядя, нашел связку ключей, нащупал нужный, отпер правую дверку и двумя руками вынул железную шкатулку.
Открыв ее, отец долго перебирал кипу пожелтевших писем, фотографий, документов и лишь на самом дне нашел то, что искал. Обеими руками, как святыню, перенес шкатулку на другую сторону стола, нетерпеливо отодвинув локтем раскрытую книгу. И только после этого протянул мне небольшой белый конверт, Пока я доставал из конверта старый паспорт, по серой обложке которого во весь опор скакал витязь 1, и потертую метрику с хищно растопырившим крылья немецким орлом, отец, откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди, молча смотрел на меня. Он глубоко вздохнул, как человек, которому сразу полегчало.
С паспорта на меня глянуло лицо женщины, молодое, энергичное. Казалось, она шла по жизни, широко улыбаясь, и фотограф с трудом заставил ее принять серьезный вид, приличе-
1 Герб буржуазной Литвы.
ствующий случаю. И все равно затаенная улыбка играла в глазах, в чуть приподнятых уголках губ, в неестественно сведенных бровях. Эта маленькая фотография ровным счетом ничего не говорила мне. Ниже черной тушью были четко заполнены все графы: Баранаускене, Ева, дочь Симонаса, год рождения тысяча девятьсот десятый, литовка и т. д. Я полистал паспорт — ничего примечательного. Осторожно развернул метрику, и сразу все стало ясно: Баранаускайте, Юлия, дочь Антанаса, родилась 10 марта 1941 года в Павильнисе. Родители...
Дальше я не читал. Подняв голову, я искал взгляд отца, но он стоял у окна и смотрел на улицу, и лицо у него было хорошее. Мне тоже было хорошо, хотя и чуточку неловко, оттого что отец расстроился. Я встал со стула, но отец жестом усадил меня.
— Мы жили недалеко от вокзала, — отец снова говорил обычным, только потеплевшим голосом, словно сказку рассказывал, — и каждый день видели, как мимо гнали толпы несчастных, измученных людей, слышали выстрелы. Прижавшись к подворотне, мы старались улучить момент, чтобы передать кусок хлеба, бутылку молока. Ничтожная была помощь... сам понимаю... Моя сестра Юзе делала это лучше, чем я. В то утро — тебе как раз исполнилось четыре, и ты еще спал — мы услыхали на улице выстрелы, крики. Побежали к воротам...
На вокзал гнали большую колонну людей, если их еще можно было назвать людьми. Юзе, как всегда, ловко сунула двум или трем по ломтю хлеба. И тут я увидел эту женщину. В одной руке она несла небольшой узелок, другой — прижимала к себе завернутого в старый платок ребенка. Она с трудом передвигала ноги. И улыбалась. Возможно, я потому и заметил ее, что она улыбалась. Запинаясь о булыжники мостовой, шатаясь, она подошла к тротуару, прислонилась к молодой липе и медленно-медленно села лицом к солнцу. «Юзе, — сказал я, — передай молоко этой женщине... она с ребенком».
Тем временем колонна прошла, и улыбающаяся женщина осталась одна на тротуаре. Немец, шагавший позади колонны, глазел на витрины и чуть не споткнулся о ее вытянутые ноги. Он что-то крикнул и нетерпеливым жестом приказал встать. Женщина только покачала головой и улыбнулась еще шире. Юзе была уже совсем близко, когда немец выстрелил. Улыбающаяся женщина так и не встала с тротуара. Обернувшись, солдат увидел Юзе, которая протянула ему бутылку молока и взяла с колен женщины ребенка. Оба остались довольны меной.
Дома мы развернули младенца, он заплакал. Ты проснулся и во все глаза смотрел на нового жильца. Как сегодня помню. Юзе сказала: «Ромукас, в день рождения аист, принес тебе сестричку...»
Под платком, на груди ребенка, мы нашли этот паспорт и свидетельство о рождении, завернутые в носовой платок.
Отец повернулся ко мне:
— Ты, разумеется, хочешь спросить (хотя я и не собирался спрашивать)... почему мы не искали родных Юле? Искали. И я, и Юзе. В Павильнисе нашли людей, которые знали отца девочки — железнодорожного рабочего. Зимой сорок второго гитлеровцы расстреляли его и еще нескольких за диверсию на железной дороге. Мать осталась одна с девочкой. Она приютила в своем домике в Павильнисе еврейскую семью. Их всех арестовали...
Теперь мне действительно захотелось спросить:
— Ты сегодня скажешь все Юле?..
Это, собственно, был не вопрос, а просьба.
И я очень обрадовался, что отец все же ответил:
— Скажу. Юле уже не маленькая. Ты не беспокойся, я позабочусь, чтобы в аттестате была ее настоящая фамилия, хотя считаю Юле своей дочерью...
Только этого я и ждал, только об этом и хотел поговорить с отцом. Люди часто сами затрудняют взаимное общение — все усложняют, путают, а потом злятся, нервничают, ссорятся.
Я все еще сидел, и отец сказал:
— Попроси Юле принести мне чаю.
Я уже взялся за дверную ручку, как вдруг меня остановил строгий и непривычно сильный голос отца.
— Надеюсь, ваши отношения не изменятся. Повторяю: я считаю ее своей дочерью.
Я ничего не ответил и толкнул дверь.
3
Юле сидела с ногами на тахте и читала книгу. А может, только делала вид, что читает. Я остановился, повертел на пальце ключ от сарайчика и сказал:
— Отец просит чаю.
Юле вскочила, одернула халатик и, даже не глянув на меня, убежала в кухню. Я еще постоял в коридоре, надеясь, что она сейчас вернется, потом передумал и вышел.
Было славное июньское утро. Я отпер сарайчик и выкатил мотороллер. Солнце тут же вспыхнуло на его никелированных частях. От мотороллера — он был еще совсем новенький — вкусно пахло краской. Завелся легко. Пока грелся мотор, я от нечего делать вытирал пестрой тряпкой несуществующую пыль. Дети, обступив меня, почтительно смотрели на машину. Я разрешил им потрогать кожаное сиденье, запасное колесо. Потом они заспорили, какая мощность мотороллера. Я поспешил убраться, потому что и сам толком не знал, а врать не хотелось. Мне очень трудно врать детям.
В подворотне я едва не наскочил на нашего соседа, молодого учителя музыки Каминскаса. Он испуганно шарахнулся в сторону, но быстро пришел в себя и весело крикнул:
— Доброе утро, метр! Уважайте пешеходов.
Каминскас мне нравился. Всегда в хорошем настроении, интересно и с жаром говорит о музыке. Я замечал, что он ищет более близкого знакомства со мной, — может быть, дружбы. Надо бы пригласить его как-нибудь на чашку кофе, показать этюды.
Я осторожно вырулил на улицу и только тогда откликнулся:
— Доброе утро, маэстро!
Он помахал мне серой шляпой и что-то сказал, но я не расслышал. Нет ничего глупее, чем разговор идущего с едущим. Идущий всегда остается без ответа или сам не успевает ответить. Все его движения, выражение лица и улыбка — без адреса. Это, если хотите, письмо, брошенное на тротуар, а тот, кому бросили, не успел подобрать.
Я быстро окунулся в утренний гомон улицы и растворился в нем. Улица меня всегда немного пугает — человек чувствует себя ничтожно маленьким и никому не нужным. Даже имени твоего никто не знает. Капля. Безыменный, непознанный атом, который должен сам себя открыть. Поэтому я обрадовался, заметив у афишной тумбы знакомого студента, и лихо затормозил.
— Садись, подброшу.
Он неуклюже взгромоздился на заднее сиденье, одной рукой прижал к себе большущую папку с рисунками, а другою крепко ухватился за меня. Я понял, что он куда охотнее потопал бы на своих двоих, да неловко было отказаться.
— Останови-ка у редакции, — попросил он. — Занесу рисунки...
Не успел мотороллер замолчать, как он соскочил, встряхнулся:
— Если через пять минут не вернусь, — езжай.
Я знал, что он не вернется даже через десять минут, поэтому, едва захлопнулась за ним дверь, включил скорость.
Терпеть не могу людей, подбирающих крохи с богатого стола прессы. Было у нас в институте несколько таких типов. С грехом пополам овладев рисунком, они присосались к журналам. Стоит лишь такому почувствовать, что в городе есть люди, которым известна его фамилия, — он немедленно отпускает бороду и повязывает шею пестрой косынкой. Тщеславие имя твое, борода!
Представляю, как они гнут спину в редакции, когда какой-нибудь дилетант, уставясь в потолок, изрекает:
— Мысль, знаете ли, хороша и исполнено хорошо. Особенно удались вам сапоги... Очень жаль, но в этом номере не пойдет...
И они угодливо вторят:
— Не пойдет. Очень жаль.
Не жалеть, а радоваться надо.
Или:
— Надо бы подправить этому человеку лицо... Нам кажется, в нем многовато страдания.
И они повторяют:
— Многовато страдания... Подправить лицо...
Вдумайтесь только — подправить лицо!
Печальнее всего, что эти люди вообще не могут изобразить лицо, а страдание и подавно.
Я поставил мотороллер во дворе института, где уже отдыхали два мотоцикла, несколько велосипедов и даже одна новенькая черная «Волга». Меня просто умилили розовые занавесочки на окнах машины. Вот это да! Мало того, что вы едете и к тому же на очень приличной скорости, главное, никто не видит ни вас, ни вашей довольной физиономии. И не только вас, не видно и того, что вы там везете. Работаете вы всерьез или только халтурите? Да здравствуют розовые занавески!
Громко стуча каблуками по длинным коридорам, я прошел в свою мастерскую. Мастерской мы с моим однокурсником Галюнасом гордо именуем тесный и сырой закут в полуподвале, который отвела нам кафедра.
Галюнас топтался перед мольбертом. Он был чем-то озабочен и, видно, с нетерпением ждал меня.
— Послушай, Ромас! — не здороваясь, пробасил Галюнас. — Была комиссия...
— Ну?
— Мой эскиз зарезали.
Я был настроен философски и поэтому утешил его:
— На то и придуманы комиссии — резать.
— Нет, ты только посмотри...
Я уже видел эскиз Галюнаса, но почему бы не взглянуть еще раз, если человек просит?
Эскиз всегда остается эскизом, однако наметанный глаз видит в нем сильные и слабые стороны лучше, чем на законченном полотне.
Я подошел к мольберту. Галюнас предупредительно повернул его к свету. Света здесь было не так уж много, но я не жаловался, а упорно старался выработать в себе шестое чувство, которое называю светопамятью. Мой руководитель, талантливый художник Навицкас, недавно сказал, что он искренне удивлен моей способностью анализировать свет. А я считаю так: если можешь писать в темноте, то уж на свету и подавно сумеешь.
Прежде всего меня удручали несуразные размеры эскиза Галюнаса. Сам Галюнас был большой, неуклюжий, наивный и, может быть, поэтому добрый. В институте посмеивались над его пристрастием к огромным полотнам, и про человека, который гнался за большим форматом, обычно говорили:
— Он пишет на Галюнасовой простыне.
Эскиз Галюнаса назывался «Сев». Бескрайнее вспаханное поле, и по нему через все двухметровое полотно шагает патриархальный сеятель. Солнце, ясное небо и красные крыши ферм на заднем плане. Что действительно было здорово — это земля. Галюнас сам из деревни, пантеистически любит землю и умеет писать ее во всех временах года. Я понимал, что Галюнаса надо бить его же оружием.
— Послушай, ведь ты сын крестьянина. Как, по-твоему, сколько времени уйдет, пока один человек вручную засеет этакую прорву земли?
Галюнас озадаченно посмотрел сначала на меня, потом на свое творение:
— Поработать, известно, придется... Недельку, а то и с гаком...
— Ну вот. Пожалел бы человека. Предлагаю пашню заодно с холстом урезать наполовину. Ему и так работы за глаза хватит...
Галюнас не понял, шучу я или говорю серьезно. Зато я его понял: сын малоземельного крестьянина, он с материнским молоком всосал вековечное чаяние отцов и братьев иметь как можно больше земли. И вот теперь он щедро наделил этой землей своего сеятеля. У меня пропала всякая охота шутить. Если из Галюнаса когда-нибудь получится серьезный художник, он обязательно будет писать огромные полотна, на которых поместится много земли.
— Комиссия требует, — пожаловался Галюнас, — ввести в пейзаж машины, словом, технику, и добавить людей.
— На редкость умная комиссия. А ты сними все — и машины и людей. Пиши одну землю.
— Мне так хочется написать тематическую картину...
— Тематическую? Пожалуйста.
Я взял палитру Галюнаса, выбрал кисть пожестче.
— Можно?
— Валяй, валяй, все равно уж...
Для начала я попросил перевернуть картину вверх ногами. Теперь земля была сине-голубой, а небо коричневым и бугристым. Несколькими мазками я превратил сеятеля в большую руку, из которой сыплется на голубую землю множество маленьких солнц. А галюнасовское солнце слегка приплюснул, удлинил и насадил его на пшеничный стебель. Все это я набросал быстро, эскизно.
Галюнас посмотрел на изувеченное полотно, помотал головой и перевернул его снова с головы на ноги.
— Я никогда не нарисую синюю землю.
Не посмею. И совесть не позволит. Меня всегда коробит твое вольное, если хочешь знать, даже оскорбительное обращение с натурой. Ты небось и черное солнце мог бы нарисовать?
— Если понадобится, нарисую черное. И запомни: пока ты не перестанешь рабски поклоняться натуре, ничего из тебя не выйдет. Достаточно, что перед нею раболепствуют простые смертные. Творческий процесс — это долгая, мучительная и постоянная борьба с материей.
Я говорю, разумеется, об истинном творчестве.
Да что такое, в конце концов, вся история человечества, как не борьба человека с природой, вещами, явлениями? Художник призван помочь людям победить натуру.
Тут Галюнас сказал то, что я прочел на его картине:
— Я не могу бороться с природой. Я молюсь на нее.
— А разве есть что-нибудь более захватывающее, чем борьба с любимым врагом?
— Нет, у меня в жизни рука не подымется... Все, что я вижу, оглушает меня своими красками, запахами, звуками, своей абсолютностью, и, ей-богу, я чувствую, моей жизни не хватит, чтобы познать малейшую пылинку земли. Сперва познать и — либо поклониться, либо победить.
— Лучший метод познания — борьба. У тебя есть две возможности: выиграть или проиграть. И в том и в другом случае результат один — познание. Человек ничем не рискует.
— Стало быть, если хочешь написать портрет любимой девушки, сперва надо ее убить?
Галюнас поставил меня в тупик своей мужицкой логикой, и я не на шутку разозлился.
— Речь идет не о физической победе, осел!
И эту свою землю ты все равно не взвалишь на плечи и никуда не унесешь — времена Атлантов давно прошли.
— Потому-то я и молюсь на нее, что не в силах поднять, — просто ответил Галюнас. —
А познать хочу. Слушай, Ромас, — вдруг перешел он на другое, — как ты смотришь: мне предлагают съездить летом на целину... Махнуть бы вместе, а? Представляешь, сколько там земли, какой простор... Ничего больше, только земля и человек. Хочу своими глазами увидеть много земли. Хочу писать землю, поедем, а?
— Подумаю, — сказал я, хотя уже заранее знал, что не поеду. Переться за тысячи километров в поисках целинных земель, когда в душе у,каждого лежит такая целина, которую не то что человек, но и сам черт еще не тронул.
— Подумай, Ромас, подумай, — мне бы хотелось. И полезно. В тебе бьет через край такое, чего во мне и с огнем не сыщешь. Ты переполнен. Надо бы перелить кое-что в меня.
Галюнас швырнул в папку какие-то рисунки и, не прощаясь, ушел. Он никогда не здоровается и не прощается, а просто приходит или уходит. А если Галюнас, уходя, пожал кому-либо руку, значит, с той минуты он забыл об этом человеке. Очень просто, забыл, и все. Этот человек для него больше не существует.
Я сел на заляпанную красками табуретку и попробовал сосредоточиться. Но ничего не вышло. В бешеном темпе кружились в голове отец, Юле, Галюнас...
Я нашел на столе чистый лист бумаги и написал Юле второе письмо. Хорошее, длинное письмо. Сначала думал подписаться, но потом решил, что еще рано, и заклеил конверт. Я был уверен, что завтра утром Юле первая побежит к почтовому ящику.
Потом я вспомнил, что на сегодняшний вечер пригласил приятелей послушать мой реферат по натурфилософии культуры. Реферат был уже почти готов, однако некоторые места требовалось уточнить и дополнить. Решил поехать домой и поработать часа два. У двери я ударился локтем об эскиз Галюнаса, выругался и, вспомнив его слова: «Надо бы перелить кое-что в меня», вернулся к столу и написал углем на большом листе: «Приходи ко мне сегодня вечером в восемь».
4
Первым пришел молодой поэт Мешкайтис. Мне всегда доставлял удовольствие вид его сугубо интеллигентного лица с глубокими, странно застывшими глазами. Присутствие Мешкайтиса никогда никого не стесняло. Он приходил, садился и молчал. «Не от мира сего»,— говорила о нем Юле. Время от времени, когда страсти особенно накалялись, не выдерживал и Мешкайтис. Изъяснялся он только призывами, вроде: «Сжечь! Сжечь эту книгу!», «На помойку эту мазню!» или «Разогнать! Разогнать всю редакцию!» Самое примечательное, что, призывая к таким, казалось бы, радикальным мерам, Мешкайтис сам оставался холоден и бесстрастен. Не знаю почему, но в нашем кругу он слыл человеком исключительно умным и начитанным. Дойдя до третьего курса, он бросил университет, пытался устроиться на работу, но нигде подолгу не удерживался. Писал много. Мы считали стихи Мешкайтиса гениальными, но их никто не печатал — гений зреет в тиши. Последнее время поэт экспериментировал, стремясь в совершенстве овладеть настроениями и чувствами читателя. Каждое стихотворение он снабжал точным подзаголовком-характеристикой. Например: «Боль. Настроение автора вызывает у читателей смех». Или: «Осень. Настроение автора вызывает у читателей недовольство».
Я никогда не запоминаю хороших стихов. А если пытаюсь что-либо вспомнить, в голову, как назло, лезут всякие ямбы и хореи. Так что, извините, не смогу прочесть вам ни одного стихотворения Мешкайтиса. Вы, как и я, должно быть, любите настоящую поэзию и, наткнувшись на что-нибудь стоящее, переписываете в толстую тетрадь. При случае я дам вам переписать несколько стихотворений Мешкайтиса. Одно из них мне особенно нравится. В нескольких словах его можно пересказать примерно так: замкнувшись в себе, ищу дверь, чтоб выйти, и не хочу ее найти. Чертовски сильно сказано — ищу дверь и не хочу найти.
Мешкайтис принес двести граммов кофе и тут же сел молоть. Засыпав зерна в мельницу, он порывисто смял пакет, словно рукопись неудавшегося стихотворения, и, протянув мне комок, выдал очередной клич:
— В мусорный ящик!
Нельзя было не внять его призыву.
Затем явился молодой актер Юозенас. Цель его жизни — хоть раз сыграть Гамлета. Он уже успел до того вжиться в роль, что говорил почти сплошь шекспировскими фразами. Недавно в кафе Юозенас прочел знаменитый монолог Гамлета.- За неимением черепа актер держал на ладони лимон. Жаль, не было вас в тот вечер. Должен сказать, зрелище было неповторимое. Закончив монолог, Юозенас рухнул на стол, его плечи вздрагивали, и всем нам дико хотелось плакать. Это был монолог Гамлета нашего века, нашего поколения. Мешкайтис, помню, громче обычного воскликнул:
— На сцену его!
Но тут подоспел администратор, шепнул что-то Юозенасу на ухо. и тот поплелся за ним, как обиженное дитя. Очевидно, не на сцену.
Затем пришли два студента из университета. Фамилии вам все равно ничего не скажут. В нашей компании они держались очень скромно. Слушали, молчали и благоговели. Мы милостиво позволяли им приобщаться к высоким материям и в их присутствии старались блеснуть своими познаниями.
Как всегда, шумно влетел молодой адвокат Аланас Гоцвингерис, человек неистощимой энергии, незаменимый собеседник. Аланас знал тысячу анекдотов, умел бесподобно рассказывать их, а как-то раз признался, что и сам подвизается в этой неблагодарной, как он выразился, области. Неблагодарной потому, что автор обречен на неизвестность и не может претендовать на гонорар. Несколько раз Гоцвингерис приглашал нас на судебные процессы, где он выступал защитником. Посмотрели бы вы, с какой страстью, с какой неподдельной убежденностью и глубоким знанием людей ведет он процесс. Однажды я видел, как не только обвиняемый, но даже заседатели и сам судья были восхищены полуторачасовой речью Аланаса и, уходя, жали ему руку. Каково же было мое удивление, когда судья зачитал приговор и подзащитный Аланаса, какой-то мелкий жулик, получил год принудительных работ. Я слышал, как на прощанье Гоцвингерис сказал своему клиенту:
— Могли отхватить и больше.
Особенно любил Аланас бракоразводные дела. Тут уж, братцы мои, выползают на свет такие психологические нюансы, такие лабиринты подсознательного! Он иногда рассказывал кое-что, смело ведя нас по этим лабиринтам (большинство из нас еще почти не знало, что такое женщина). Рассказывал так, что дух захватывало и кровь бросалась в голову. Только мне иногда казалось, что Аланасу просто доставляет наслаждение рыться в чужом грязном белье. Кому что нравится.
Гоцвингерис бойко болтал по-французски, знал, или, во всяком случае, нам казалось, что знал, французскую литературу. Его лекция-реферат о французских экзистенциалистах словно открыла для нас обетованную землю. Мне особенно запала в память одна цитата: «Нет иного мира, кроме мира человека, субъективного человеческого мира». Только позже я подумал, что такое растворение объекта в субъекте вовсе не ново в истории философии и сильно смахивает на махистский комплекс ощущений. Но, как говорится, ничто не ново под луною.
Пришел Галюнас. Я представил его друзьям, но он, как всегда не поздоровавшись, грузно опустился на стул и вытянул длинные ноги. Кофе был уже готов, и я мог начинать. Подумав, я набрал номер телефона нашего соседа, учителя музыки Каминскаса, и попросил его зайти на чашку кофе. Он был приятно удивлен, охотно согласился и не замедлил явиться.
Мы сидели в комнате Юле. Здесь было просторнее, кроме того, стояло пианино, и я рассчитывал уговорить Каминскаса сыграть нам. Юле, сославшись на усталость, взяла книжку и перебралась в мою комнату. Я видел по ее глазам, что сегодня она много плакала. И еще наплачется.
Я отхлебнул глоток крепкого кофе и, не глядя на своих слушателей, начал:
— Сегодня я хочу познакомить вас с натурфилософией культуры. Именно на ее основе и развился, как вы знаете, выдающийся немецкий философ... если хотите, философ-идеалист, Освальд Бадлер.
Я не сомневался, что мои друзья впервые слышат эту фамилию, тем не менее они закивали с таким видом, будто действительно знают. Мне было приятно, что они не знают.
Верите ли, в этот момент я весьма явственно почувствовал, как вырос в своих собственных глазах и в глазах моих приятелей. О, сладкое, невыразимое словами чувство — чувство превосходства! Ради одного этого стоило вытащить на свет какого-то Бадлера и убить на него несколько вечеров.
Хорошо помню, как я наткнулся на этого философа. Открыл первую попавшуюся страницу и прочитал: «Наш долг — стоять в бессменном карауле, без надежды на,возможность спасения, наш долг — стоять, как стоял тот римский воин, труп которого нашли у ворот Помпеи: он погиб, потому что его забыли снять с поста перед извержением Везувия».
Прочитал, и дух заняло. Боже мой, ничего подобного до сих пор я еще не слышал. Я даже оглянулся: не видит ли кто-нибудь, какое сокровище в моих руках? Нет, никто не видел, и я, как самый настоящий старатель, начал промывать находку и набивать этим богатством всегда пустые и жадно оттопыренные карманы молодого человека.
Жила показалась мне чересчур богатой, чтобы я один мог управиться с нею. Надо было поделиться с приятелями. Что греха таить, мое самолюбие уже тогда приятно щекотала слава первооткрывателя и ореол оригинального мыслителя озарял мою голову. Я представил изумление и восторг приятелей и сказал себе: «Черт побери, Ромас, они еще будут преклоняться перед тобой. Ну, если не перед тобой, то перед твоими знаниями и смелостью, а это в конечном счете одно и то же...»
Вы, должно быть, уже заметили, что я не слишком высоко ценю своих приятелей. Не то чтобы не ценю, нет — я ценю их постольку, поскольку они отражают меня. Понимаете, точно так же, как ценит Солнце планеты своей системы. Когда на Солнце происходит очередная вспышка, ему, пожалуй, довольно приятно наблюдать отражение этой вспышки, скажем, на Луне.
Так появился мой реферат о натурфилософии культуры.
Но это еще не все. Далеко не все. И понял я это гораздо позже, когда Бадлер навалился на меня всей тяжестью, а жизнь, не считаясь с моей философией, больно трахнула по голове.
Не думаю, что вы готовы прослушать весь реферат. Но если когда-нибудь пожелаете, я с удовольствием дам вам почитать. Перепечатанный на отцовской машинке, аккуратно сколотый скрепкой, он и по сей день лежит у меня в столе. В нескольких словах, чтобы не утомлять вас, могу пересказать содержание.
Прежде всего я выделил метод Бадлера, назвав его новым и смелым. Затем изложил взгляды Бадлера на историю и культуру. История слагается из смены культур. А культура, по Бадлеру, — это индивидуальный, развивающийся организм, жизнь которого строго ограничена во времени, то есть заканчивается смертью. До сих пор история знала восемь таких организмов, или культур: египетскую, индийскую, вавилонскую, китайскую, античную, арабскую, западную, то есть нашу, и культуру народности майя в Центральной Америке. Каждая из этих культур — абсолютно самостоятельное, замкнутое и начисто отрезанное от других существо, подчиненное только своим внутренним законам. Так что о какой-либо взаимосвязи культур не может быть и речи.
По правде сказать, это место учения Бадлера казалось мне самым уязвимым, и я взял на себя смелость покритиковать и дополнить его, внеся закон естественного отбора. Если уж рассматривать культуру как биологический организм, то надо быть последовательным до конца.
Как и всякий организм, каждая культура проходит свой жизненный путь, то есть родится, расцветает, созревает, увядает и, исчерпав все свои возможности, умирает. Последняя стадия развития культуры, или период, которым она завершает свою историю и уходит в небытие, называется цивилизацией. Метод Бадлера позволяет с непреложной точностью установить, что ждет, допустим, нашу культуру, которая уже в начале девятнадцатого века вступила в свою последнюю стадию — цивилизацию. Смерть. Небытие. Наша культура доживает последние дни. Наступает закат Европы. Человеку не остается ничего другого, как только подчиниться неумолимому биологическому закону. «Мы должны хотеть либо то, что исторически неизбежно, либо ничего не хотеть» — вот какую альтернативу предлагает Бадлер. В сущности это даже не альтернатива, потому что хотеть исторически неизбежное — значит хотеть собственной смерти.
Я опустил рассуждения Бадлера о сильных личностях, о великих единицах, которые уже после смерти культуры управляют бессильными, выдохшимися массами, как загонщик стадом на бойне. Между нами говоря, все это подозрительно отдает фашизмом.
Заканчивался реферат выводом: художнику надо знать, к чему идет культура, которую он представляет. Художник должен отразить свое время, но отразить через призму представляемой им культуры. Поскольку нынешняя стадия нашей культуры — это закат, то, судите сами, какие краски должны доминировать в вашей палитре.
Признаться, я был доволен, что мне удалось так ловко «присобачить» к Бадлеру теорию отражения.
Я налил третью чашку кофе и пустил по рукам слушателей схему истории культуры, которую начертил по Бадлеру. Это была спираль из трех витков: большой берет начало в бесконечности и обозначает божественный век культуры, средний — героический, а самый маленький — человеческий. Он и завершает спираль истории культуры крестиком и словечком «Finis».
Первым нарушил молчание актер Юозенас, как обычно, словами Шекспира:
— Быть или не быть — вот в чем вопрос!
Он возвел очи к потолку, словно оттуда должен был свалиться ответ.
— В печать! В печать его!
Вы уже догадались, что это изрек поэт Мешкайтис.
Музыкант Каминскас молча приблизился и с чувством пожал мне руку, как будто я и есть сам Бадлер.
Оба студента, не смея моргнуть, смотрели на меня в безмолвном восторге.
Воцарилась тишина. Я прихлебывал кофе и ждал. Проштудировав схему истории культуры, адвокат Аланас Гоцвингерис кашлянул, и все головы повернулись в его сторону.
— Меня в какой-то степени смущают понятия «культура» и «цивилизация». Почему цивилизацией называется последний период развития культуры? На мой взгляд, происходит как раз обратное: цивилизация начинает культуру, а не завершает ее.
Теперь головы обратились ко мне.
— Автор книги не раскрывает содержания терминов. В конечном счете, это не существенно. Нам важно уяснить главное направление развития культуры, тенденцию этого развития, определить период, в который мы живем, и сделать основные выводы. Насколько можно судить, автор характеризует цивилизацию развитием городов, как крупных промышленных центров, словом, цивилизация совпадает с той общественной формацией, которую мы называем капитализмом. Могу процитировать автора: «Цивилизация и культура находятся в том же соотношении, что мумия и тело».
— Выходит, стало быть, что Гомер, Данте, Петрарка, Микеланджело, Пушкин, да и наш Донелайтис были дикарями и, чего доброго, питались человеческим мясом? Не прилагает ли Бадлер таблицы: сколько килограммов человечины съедал за обедом, скажем, Данте? Это очень важно, чтобы определить степень его гениальности.
Такой вопрос мог задать только мой коллега Галюнас. Он и задал его. Оба студента фыркнули, но тут же спохватились и виновато затихли.
Какую-то минуту я раздумывал, стоит ли вообще отвечать на выпад Галюнаса. Видно было, что оба студента с нетерпением ждут ответа. Тогда, глядя на них, а не на Галюнаса, я сказал:
— Еще раз подчеркиваю: это не существенно. Важно уяснить основную тенденцию... Кроме того, товарищ Галюнас, прошу не забывать, что мы не у себя в мастерской, нам тут не до шуточек.
— Ладно, уж извини. А что касается шуточек, то, мне сдается, как раз наоборот: можно шутить где угодно, только не у себя в мастерской, когда стоишь у мольберта.
Тоже замечание, достойное Галюнаса.
Снова водворилась неловкая тишина, которую наконец прервал все тот же Галюнас:
— Что ж, давайте уяснять основную, как ты говоришь, тенденцию. Капитализм является общественной формацией, которая закрывает глаза умирающей культуре и хоронит ее. Стало быть, с капитализмом умирает и культура. Верно я понял?
Я кивнул.
— А ведь это чертовски «глубокая» мысль — воскликнул Галюнас. — Выходит, вот уже сорок с лишним лет мы живем без культуры...
Я понял, куда клонит мой коллега, но промолчал.
— Факт! Думаю, никому не нужно напоминать, когда свершилась Октябрьская революция...
Тут уж я не мог не вмешаться:
— Мы говорим о культуре Европы, а не какого-либо отдельного государства.
— Все равно. Можем говорить хоть бы и о мировой культуре. Сегодня даже подросток знает, что история мира не кончается на капитализме. Это доказано жизнью. Бадлер-то твой жив еще?
Я покачал головой.
— А жаль. Мог бы увидеть, как приговоренная им к смерти культура оживает, а капитализм умирает. Представляю, как старикашка Бадлер смахивает вялым кулачком слезу над могилой своего ненаглядного капитализма, потом плетется домой и пророческой рукою заносит в календарь новую дату кончины культуры... Жаль, правда, жаль, что он додумался лечь в гроб вместе со своим папулей капитализмом. Небось еще и в обнимку. Вот это сыновняя любовь, это привязанность! В наши дни уже не, сыщешь примеров такого самозабвенного чувства... Вы, кажется, поэт? — вдруг обратился он к Мешкайтису.
— Смею называть себя...
— Вот вам шекспировский сюжет! А в общем, старина Бадлер был человек последовательный и поступил как истинный философ, соответственно альтернативе: если не умираешь ты, так умру я. Тихо, мирно, по всем правилам своего метода... Есть какие-нибудь вопросы?
Галюнас взял разговор в свои руки. Это бесило меня, и я решил осадить его:
— Речь идет о культуре, как организме, имеющем собственные, присущие только ему, законы развития. Всякие попытки подчинить процесс культуры законам развития общества и производства есть не что иное, как вульгарный материализм.
— О святая простота! Выходит, это я установил непреложную связь между общественной формацией и культурой? Простите, а что же тогда имеет в виду достопочтенный Бадлер, когда говорит о цивилизации как последней стадии умирания одряхлевшей культуры и тут же характеризует эту стадию развитием городов и крупных промышленных центров? Ты сам только что сказал: цивилизация совпадает с той общественной формацией, которую мы называем капитализмом. Извините, коллега, я люблю честный диспут. В конце концов, что такое вообще культура, что такое цивилизация, этот последний день жизни культуры? Неужели это только литература, изобразительное искусство, музыка? Неужели только мы с вами являемся представителями культуры, ее творцами и, стало быть, единственными культурными, цивилизованными людьми? Извините! Это, по меньшей мере, нескромно. Не вы ли цитировали того же Бадлера, когда говорили о сущности культуры, о ее содержании и подчеркивали, что формы проявления культуры могут быть самыми разными? И тут же причислили к культуре такие общественные явления, как нация, религия, литература, искусство, наука, государственный строй... Меня отнюдь не устраивает такое определение культуры, но, коль уж вы норовите изменить своему учителю, я готов его защищать — где наша не пропадала!..
Черт возьми, никогда бы не подумал, что Галюнас так силен в споре! И вообще, напрасно я пригласил его. Вечер был испорчен. Хуже всего, что никто из моих слушателей так и не раскрыл рта. Либо они ровным счетом ничего не поняли из того, что я говорил, либо, не зная Галюнаса, считали его серьезной силой и не смели схватиться.
А Галюнас знай разорялся:
— Не нравится мне этот запашок. Не для моего носа. Хватит, нанюхался я всякого дерьма в деревне, когда в пастухах ходил...
— Оно и видно! — вызывающе сказал музыкант Каминскас.
Галюнас покраснел.
— Должен вам сказать, уважаемый товарищ, что противнее всего воняет свиное дерьмо. Это, кажется, не мои слова, но позвольте мне тоже цитировать, хоть и другие источники. Так вот, говорю, не нравится мне этот запах смерти, развалин, пожарищ. И твоя схема, Ромас. Приходит культура из бесконечности, как посланная рукой божьей ракета, оборачивается трижды вокруг земли — и пшик! Точка. Крестик.«Finis».
Не хватает только поставить надпись: «Почила в бозе...» и точную дату смерти культуры.
— «Смерть есть форма существования, которую человек принимает самим фактом своего рождения», — процитировал я, хоть и не совсем удачно.
— Так не надо было рождаться. А то ведь не успела бабка перевязать тебе пупок, как ты заорал во все горло, оповещая мир о своем приходе. Нам сейчас по двадцать с хвостиком! Откуда это пресыщение, эта усталость, откуда этот, опять же говоря по-вашему, тотальный пессимизм?..
— «Оптимизм — это трусость», — снова ввернул я из Бадлера.
Мне понемногу становилось жарко, в груди появилась какая-то сладкая и пугающая пустота, которая возникает всякий раз, когда приближаешься к самому главному. А мы приближались, теперь уже неудержимо приближались к самому главному. Если Аланас и попытался свести разговор к выяснению несущественных деталей терминологий, то Галюнас явно унюхал, где пахнет жареным, и, руководствуясь своей тяжелой крестьянской логикой, вынуждал меня одну за другой открывать все свои карты. А у меня на руках были только черные — с одной мастью не очень-то поиграешь. Только черные. Одну из них я и бросил: оптимизм — это трусость. Я знал, знал наверняка, что ставлю себя под удар, но все-таки бросил ее. Люблю риск. Рискуют, как правило, только молодые и смелые.
Спокойный голос Галюнаса немного дрожал:
— Так неужто ты думаешь, что все, кто выдержал на своих плечах историю, были трусы? И Галилей, и Джордано Бруно, и... и... — Мне было приятно, что Галюнас осекся, ему просто не хватило фамилий. Я мог посуфлировать ему, мог бы добрых полчаса перечислять великие имена, щеголяя своими знаниями.
Но Галюнас нашелся:
— Разве те,,кто стоял у Стены коммунаров, кто сражался на фронтах революции и гражданской войны, были трусы? Отвечай: да или нет?
— Не были.
— А оптимистами — были?
Я молчал, и Галюнас ответил за меня:
— Были. Они были самыми большими оптимистами и самыми светлыми людьми. Если бы во всем мире, понимаешь, во всем мире больше никого не было, нам все равно хватило бы их света. Я не хочу говорить красиво. А ты стараешься говорить красиво и, главное, не по-людски. Почему это? — очень искренне спросил Галюнас.
Я стиснул зубы и швырнул последнюю карту.
— Ладно. Разве ты не видишь, у подножия какого Везувия мы живем? И это не наша вина. Не мы выбирали время. Наше поколение, как того римского часового, поставили у подножия действующего вулкана, и мы не знаем, когда начнется извержение.
— А может, не начнется? Но если бы и началось, ты должен грудью задержать пылающую лаву и спасти город. На то тебя и поставили часовым. Ах, ты трусишь, ты хочешь жить во что бы то ни стало, готов любой ценой спасти свою шкуру, и потому не желаешь нести стражу. Не думал я, что ты такой трус, хоть и не оптимист. Хороша смелость: заткнуть уши, зажмуриться и бубнить себе под нос: «Ах, умру, ах, погибну! Точка. Крестик. Finis».
— Задержать! Грудью закрыть жерло Везувия! Неужели ты не понимаешь, что давно прошли времена, когда один солдат мог задержать целую армию? Фермопилы больше никогда не повторятся, как и подвиги Геракла.
— Почему один? Человек никогда не был один, а в наши дни, даже при всем желании, не найти такого места, где можкно быть совсем одному. Нет, ты никогда не будешь один. Есть ты, есть я, а вот есть поэт... Мы хотя бы можем надеяться, что наш подвиг будет воспет. Верно я говорю? — Почему-то он обратился к Мешкайтису. Может, потому, что сидел рядом.
Я заметил, как странно сверкнули глаза моего маленького друга. Не будь Галюнас таким громадным и сильным, а Мешкайтис таким маленьким и слабым (я имею в виду не духовную, а физическую слабость), наш поэт наверняка бы воскликнул:
— В рыло ему! В рыло!
Но Мешкайтис промолчал. Тогда Галюнас встал, подошел ко мне близко, совсем близко и, глядя прямо в глаза, сказал тихо, будто мы с ним были одни в комнате:.
— Ромас, Ромас, хочешь быть оригинальным. Недаром ты в конце реферата задал вопрос — какие краски должны доминировать в вашей палитре. Ты напялил на себя Бадлера с его пессимизмом, как семнадцатилетняя девчонка натягивает черные чулки. Оригинально, смело и. наверно, модно. Только не знаю, надолго ли.
Я знал, что Галюнас непременно доберется до этого пункта. Знал, и все-таки сильно покраснел. Понимаете, я не мог дать ему в рыло и совсем уж не мог признаться, что в чем-то он все же прав. Я упорно гнал эту мысль, отмахивался от нее, и во мне росло странное упрямство. Подумаешь, черные чулки! Палитра, дорогой товарищ, не чулки.
Мы еще посмотрим!
5
Отец раздражен и зол, то и дело проклинает законы и тех, кто их выдумал.
— Бюрократы! Формалисты! А еще культурные люди... Оказывается, не так это просто — вернуть девочке ее настоящую фамилию.
Юле ходит с заплаканными глазами. Сегодня ночью я слышал, как она ворочалась за стеной не в силах заснуть, потом устала, открыла окно и так тяжко вздохнула, что даже мое чуждое сочувствия сердце странно дрогнуло в груди. Я очень хотел подойти к Юле, побыть с нею рядом. Но мы уже не брат и сестра, и ни я, ни она еще не знаем, кем бы мы хотели быть друг для друга.
Странно, не правда ли?
Чуть ли не двадцать лет все было ясно. Брат и сестра. Все легко и просто получалось само собой. Не помню, чтобы я когда-нибудь задумывался, как разговаривать и вести себя с Юле. Еще чего не хватало! Будто не о чем больше думать. А теперь я обязательно должен подумать.
Юле была хорошей сестрой. Душевная, откровенная и неглупая. Не то, что другие девчонки. С нею можно было говорить обо всем. А если она чего-нибудь не понимала, то изо всех сил старалась понять. И это открывало твое сердце.
Юле была единственной женщиной в нашем доме. Только не думайте, что на нее свалили обязанности домашней работницы. Убирать квартиру и варить обеды приходила тетушка Анастасия. Мы так и звали ее — приходящая тетушка. Ужин и завтрак готовили сами. По большей части, разумеется, Юле. Поглядели бы вы на нее за этим занятием!
Юле умудрялась как-то смягчать мои отношения с отцом, которые становились все хуже и хуже. Мы ничего не можем поделать — ни я, ни отец. Воз двинулся, и если мы еще не разругались в пух и в прах, то лишь потому, что была Юле.
Я говорю: была. А разве теперь ее нет?
И есть, и нет. Пока ничего больше не могу сказать.
Мне хочется, чтобы Юле осталась. Осталась — я имею в виду не нашу квартиру и семью, а гораздо больше. Должно быть, поэтому я и написал те два письма. И еще напишу. Я чувствую, что в такой момент ей очень нужны эти письма. Не только ей, но и мне.
Отцу легче. Он всего лишь выполняет небольшую формальность — возвращает человеку его подлинную фамилию, которую все время знал. Восстанавливает, так сказать, законность. Хорошо ему говорить: «Надеюсь, ваши отношения не изменятся».
А они уже изменились. Изменились с того самого мгновения, когда мы всё узнали. Я все реже ловлю взгляд Юле, она теперь стала иной, и голос у нее уже не тот.
Мы плыли по большой реке на одном плоту, и у нас был один мир, он плыл вместе с нами. Вдруг плот раскололся надвое, и мы с бешеной скоростью удаляемся друг от друга. Того, что разбилось, не соединить. Мы должны перебраться на другой плот и познать новый мир,— может быть, еще более прекрасный. Удастся ли перебраться, не подхватит ли одного из нас сильное течение и не унесет ли туда, где нам уже никогда не найти друг друга?
Я закрываю глаза и стараюсь думать о Юле — моей сестре. Вот мы, тайком от отца, бежим в кино, и нам кажется, что мы делаем что-то запретное и потому интересное...Вот я танцую с Юле в школьном зале. Она вся такая легкая, вот-вот, кажется, взлетит... Вот мы валяемся на пляже, и мимо нас плывет ленивая и тяжелая, словно налитая ртутью, река. И солнце так сияет, что нельзя удержаться от смеха. И мы бросаемся в воду — погасить этот смех и еще раз убедиться, что человек может не касаться земли ногами...
Странно, все, что я вижу в прошлом, — это уже не то прошлое, которое было. Освещенное прожектором сегодняшнего знания, оно стало как бы настоящим, приблизилось. Я заново переживаю все, что помню, но переживаю, уже не будучи братом Юле. Мне кажется, что я никогда и не был им... Это только людям было удобнее называть нас братом и сестрой.
Помню, каких-нибудь полгода назад я что-то искал, приоткрыл дверь ванной и тут же снова закрыл ее. В ванне под серебряными лучами душа стояла Юле. Вода, видно, была холодная, и она вздрагивала всем телом, прижимала руки к груди, словно придерживала сердце, чтобы оно не выскочило/ Если вы хотите хотя бы приблизительно представить себе, что я видел, выйдите весною в сад после щедрого и молодого ночного дождя. Выйдите на восходе солнца, привстаньте на цыпочки возле яблоневой ветки и посмотрите на небольшую дождевую каплю в белой чашечке цветка. Хорошенько всмотритесь. Не шевельните ветку и затаите дыхание, иначе дивное видение исчезнет.
То, что я видел, длилось всего мгновенье, но с тех пор я начал внимательнее и дольше поглядывать на Юле.
— Что ты так смотришь? — помню, смутилась однажды Юле.
...........................................................................................................................................................
— Знаешь, ты становишься чертовски хороша, и я завидую тому, кто первым это заметит.
Юле вся зарделась и бросилась колотить меня по спине маленькими кулачками.
Теперь я уже знал, что если когда-нибудь стану писать женщин, то буду писать только Юле.
Юле принесла новый паспорт, который еще раз подтвердил, что она не сестра мне. По этому случаю состоялся семейный обед и распили бутылку вина. Отец выглядел подтянутым и празднично торжественным. Он сказал:
— Помни, девочка, что у тебя есть отец.
Глаза Юле были полны слез, но она держалась и старалась улыбаться.
— Пока не кончишь учебу и не начнешь работать, ты никуда не уйдешь из этого дома.
Юле ничего не сказала, только кивнула головой.
— Я очень хотел заменить тебе отца. Но он был слишком большим, чтобы можно было заменить его.
Мы молчали, отец говорил один:
— Не знаю, правильно ли поступил, сказав правду. Но я не мог умереть, не открыв ее. Вы уже не маленькие и все знаете. Мне можно и уйти.
Отец все чаще вспоминает о смерти. Не скажу, чтобы и я не подумывал о ней на досуге, хоть и знаю, что от этих мыслей ничего не меняется.
Юле собиралась в школу, где предстояла церемония вручения аттестатов. Отцу стало нехорошо после обеда, он попросил меня:
— Пойди с Юле... Понимаешь, такой день — и никого из близких...
Юле надела белое платье и свои первые туфельки на высоких каблуках. Она примеряла их уже вчера вечером — училась ходить. И я еще сказал:
— Тебе ничему не нужно учиться. Все получается само собой. И хорошо получается.
— Вот увидишь, я возьму и споткнусь, когда пойду на сцену. Да еще в такой торжественный момент...
Мне нравится идти с Юле в школу. В ту самую, которую кончил и я. Еще несколько лет назад мы вместе ходили туда. Хорошо помню, как Юле семенила рядом и вечно ойкала:
— Ой, только бы не вызвали сегодня! Ой, только бы вытащить один билет!..
И ее непременно вызывали. И, как нарочно, Юле все знала.
— Знаешь, — говорила Юле по дороге домой, — если очень-очень хочешь чего-нибудь, то надо думать и говорить совсем наоборот: мол, не хочу и боюсь... Хотя в душе ты и хочешь, и ни капельки не боишься. И тогда обязательно выйдет так, как хочешь.
Не могу похвастаться, что хорошо знаю женщин. Я всегда стесняюсь их, ни с того ни с сего краснею и выгляжу гораздо глупее, чем на самом деле. Но по-моему, эта философия Юле «хотеть — не хотеть» — женская до кончиков ногтей.
Сейчас Юле шагала рядом, серьезная, торжественная, и даже не ойкала. В эту минуту ее можно было писать двумя красками: черные волосы, белая лента, белое платье и черные туфельки. Не будь волосы и туфельки черными, казалось бы, что человека вовсе нет. Это смущало меня — я. не чувствовал, что со мной идет Юле.
Если даже много лет спустя войдешь в свою бывшую школу, обязательно найдешь что-нибудь очень дорогое и до слез знакомое. Скажем, пятно на потолке, которое всегда напоминало карту Европы. Не важно, что с тех пор потолок тысячу раз белили и от пятна и следа не осталось. Вы все равно видите его. Я хочу сказать — видите другими глазами, потому что у человека очень много глаз, и только на первый взгляд кажется, что всего два.
Но я был еще молод, не жил воспоминаниями, и поэтому не глазел на потолок в поисках знакомого пятна. В зале было полно народу. Приходилось то и дело здороваться с подругами Юле, с их родителями, так что предаваться школьным воспоминаниям было некогда. Увидев, что другие пришли с цветами, я вовремя спохватился и выскочил еще до начала церемонии.
Не думайте, что так легко раздобыть букет цветов, когда он действительно нужен. Я просто не представлял, где сейчас можно найти цветы. Носился без толку по улицам и уже вконец отчаялся, как вдруг увидел свободное такси, к которому направлялся какой-то старый человек с еще более старым портфелем.
Я сказал:
— Цветы! Мне нужны цветы!
Шофер попался молодой и понял меня. Мы оставили старого человека проклинать молодежь. Видя, что шофер свой парень, я сказал:
— Не люблю стариков. Считают, что я обязан уважать их только за то, что они стары.
Цветы достали быстро — большой букет белой сирени.
Когда, запыхавшись, я вбежал в зал и нашел Юле, она уже держала в руках аттестат. Держала осторожно, боясь испачкать, хотя можете убить меня, но она была сама чистота. Я поздравил Юле, вручил букет; она очень обрадовалась и сразу же окунула в сирень носик, губы и все лицо. Казалось, она забыла про свой аттестат и куда больше радовалась цветам. Сначала я собирался поцеловать Юле, как обычно полагается в таких случаях. Но не смог. То есть, я хочу сказать, что уже не мог.
Юле склонилась к моему уху и, щекоча лицо волосами, зашептала:
— Знаешь, мне сегодня целый день ужасно хотелось цветов. Поэтому, когда мы шли с тобой, я все время твердила про себя: «Ой, как я не люблю цветы! Ой, как я не хочу цветов. Я просто терпеть не могу цветы...» Видишь, зато теперь у меня цветы. Если так говорить, то всегда выходит, как хочешь.
И тихонько засмеялась.
Я подумал, что лучше бы Юле по дороге в школу хоть разочек ойкнула вслух: «Ой, как я не люблю цветы!» Во-первых, моя рубашка сейчас не прилипала бы к спине, во-вторых, тот старый человек не проклинал бы нынешнюю молодежь, в-третьих...
Я тоже тихо засмеялся.
Юле нашла мою руку и крепко пожала.
— Теперь давай слушать, — шепнула она и показала глазами на сцену.
Надеюсь, вы человек образованный, тоже окончили среднюю школу и, следовательно, получали аттестат. Ах, вы морщите лоб и стараетесь вспомнить, что и как говорилось при этом? Напрасно стараетесь. Такие речи, как легкая музыка: слушаешь — вроде приятно, ушел — и забыл. Основную мелодию могу вам напомнить. Звучит она примерно так: вы сегодня входите в жизнь... вам открыты все пути... не сбейтесь с дороги... восходящее солнце озаряет ваши юные лица... не обгорите... у роз есть шипы... не уколитесь... Ну, вот вы и вспомнили. Но почему вы улыбаетесь? Ваше дело, конечно; однако позвольте напомнить, что столько-то лет тому назад, когда все это говорили вам, вы сжимали кулаки и с трудом проглатывали подступавший к горлу комок. Да, да, не спорьте.
Я хотел сказать Юле что-то очень хорошее, но долго не знал что. Наконец решился:
— Ну вот, ты и выходишь...
Черт побери, не хватало, чтобы я еще добавил: в жизнь.
Мы сидели у стены, и оркестр играл «Школьный вальс».
— Не надо, — сказала Юле. — Идем лучше танцевать.
И мы начали «Школьный вальс».
Потом Юле пригласил ее одноклассник — долговязый юноша с очень вытянутым, очень удивленным и очень прыщавым лицом. Винцас, так, кажется, его звали, он несколько раз бывал у Юле. Я решил выйти во двор покурить, но в дверях меня остановила старая учительница английского языка, которая отличалась тем, что до нее все доходило в последнюю очередь. И тут же все забывалось.
— Значит, вы брат Юле?
Я не понял, почему она смотрит на меня так подозрительно, и ответил:
— Нет. Жених.
Англичанка пожала плечами, видимо забыв, о чем спрашивала, и ушла, бормоча: «Жених... Жених». При этом она мечтательно улыбалась.
Я сидел под большим, старым кленом и курил. Был теплый, тихий вечер, над городом подымалось легкое облако дыма и пыли, унося с собой рокот улиц и далекие людские голоса.
Вдруг я услышал голос Юле:
— Винцас, почему ты не подписал свои письма?
— Какие письма? — простодушно удивился Винцас.
Они стояли где-то совсем рядом, а может, вечер был такой тихий, что слышалось хорошо.
— Значит, не ты... — Радость и разочарование услышал я в голосе Юле. А потом она сказала совсем другим тоном: — Пошли лучше в зал.
Я еще немного посидел и пошел следом.
Едва я появился в зале, Юле тут же оставила Винцаса и подбежала ко мне. Мы станцевали два или три раза, потом она предложила:
— Пойдем отсюда, Ромас! Хорошо?
Сирень она взяла с собой.
Мы спустились с горы, и Юле свернула к вокзалу.
— Погуляем, — сказала она.
Я взял Юле под руку, она вздрогнула и вся подобралась. Редкие прохожие смотрели на нас, улыбались и были счастливы, потому что ничего не знали.
Начался привокзальный район, гудки паровозов стали громче, и я почувствовал болезненную тоску по большим дорогам. Ехать, ехать, не важно куда — ехать, и ничего не знать.
Юле мягко освободилась от моей руки и ускорила шаг — теперь она почти бежала. Я ничего не понял. Думал, обернется. Но Юле остановилась, прильнула всем телом к старой липе и осторожно погладила ее ствол. Когда я подошел, она уже сидела на тротуаре, вытянув ноги, прислонившись спиной к липе, и улыбалась.
— Юле, — позвал я, и сильный гудок заглушил мой голос.
— Тсс. — Она приложила палец к губам.
Паровозы молчали, и мне уже никуда не хотелось ехать.
Потом Юле поднялась, сама взяла меня под руку.
— Теперь можно домой.
И мы пошли.
Цветы Юле оставила под липой.
Мы уже поднимались на второй этаж, когда я вдруг сказал:
— Юле, это я написал те два письма... Юле шла впереди, и у меня мелькнула мысль, что она убежит, как только поймет, что я сказал. Но она остановилась и обернулась так резко, что сразу стало ясно: она все время думала об этих письмах. Я перескочил через три ступеньки, и теперь мы стояли рядом.
Глаза Юле были такие большие, что она уже не видела меня. Как слепая, протянула руки, взяла мою голову и долго смотрела, пока не разглядела меня. Тогда я и поцеловал Юле.
Я часто целовал ее по разным поводам, но тут было совсем другое. Юле первая это почувствовала, выпустила мою голову и убежала. Я еще успел увидеть ее большие глаза, радость и испуг.
Потом я спустился во двор и сел на камень. Знаю, вы не поверите, но я слышал музыку. Не такой уж я дурной, чтобы не слышать настоящей музыки.