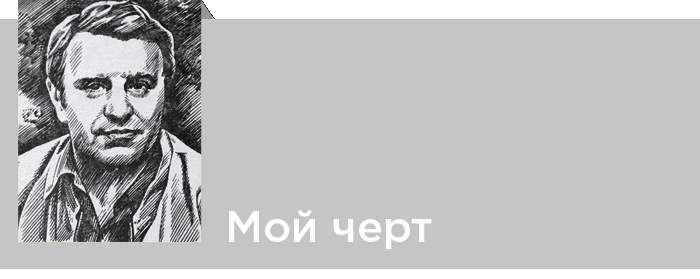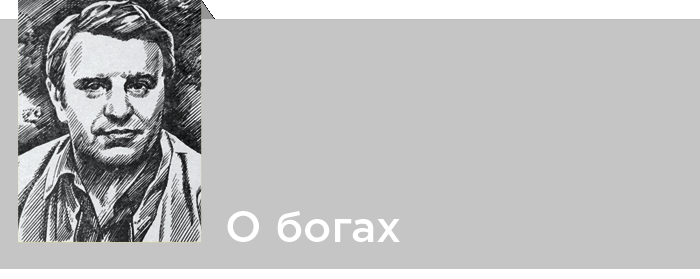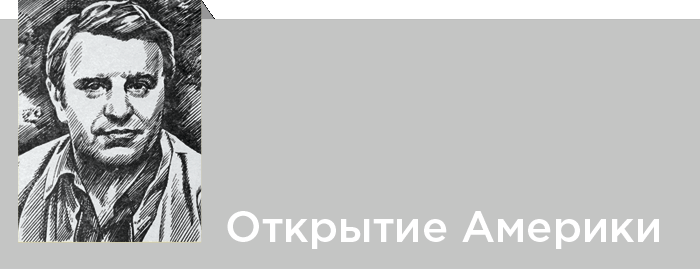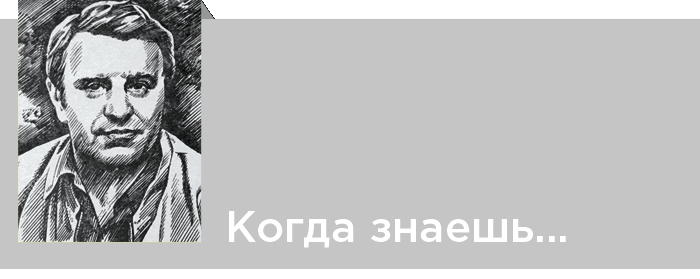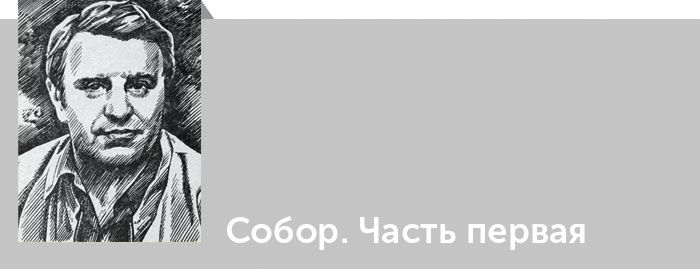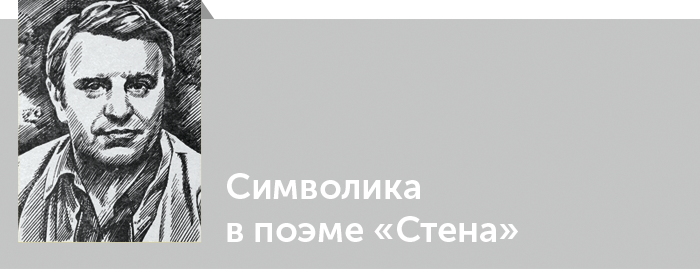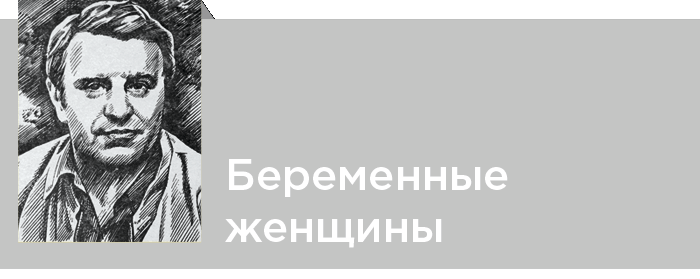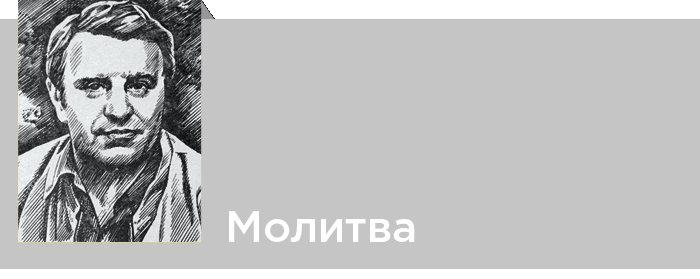Драматическая песнь-триптих Юстинаса Марцинкявичюса
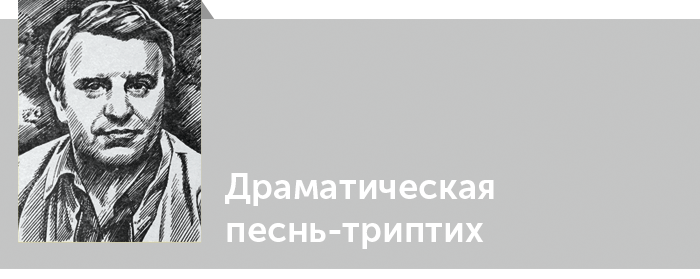
Большая литература. Александр Овчаренко
Подготовленная в литовской литературе предшествующими достижениями В. Креве, В. Миколайтиса-Путинаса, В. Сруоги, С. Нерис, Э. Межелайтиса, Ю. Грушаса, а в творчестве самого Юстинаса Марцинкявичюса его поэмами «Кровь и пепел», «Стена», его работой над переводом произведений А. Мицкевича, А. Пушкина, С. Есенина, национальных эпосов «Калевипоэг», «Калевала», драматургическая трилогия в стихах «Миндаугас» (1968), «Собор» (1970) и «Мажвидас» (1976) внесла свежую струю во всю советскую литературу. Написанная в стиле «высокого искусства», трилогия привлекла к себе внимание читателей, театральных зрителей, литературных критиков широкомасштабностью авторской мысли, монументальностью характеров, остротой конфликтов, размахом философских проблем, стремлением к углубленному диалектическому осмыслению исторических, социальных, нравственных основ человеческого бытия, включая и проблему истинного человеческого счастья. И, конечно же, своим песенным настроем, романтической окрашенностью, эмоциональностью, лиричностью. Впрочем, о чем бы и в каком бы жанре ни писал в прозе или в стихах Юстинас Марцинкявичюс,— повесть, пьесу, поэму ли,— он остается всегда проникновенным поэтом. Это относится и к лучшему его созданию — драматургической трилогии.
Без внимательного изучения этого произведения, его места в развитии советской литературы нельзя правильно прочертить путь ее подъема в конце семидесятых годов к таким высотам, как «Сказание о Юозасе» Ю. Балтушиса, «Берег» и «Выбор» Ю. Бондарева, «Буранный полустанок» Ч. Айтматова... Сам автор для обозначения жанра созданных произведений прибегает к терминам «драма», «драма-поэма», «песнь», но доминирует в них органически переплетающаяся с заражающим лиризмом возвышенно-трагедийная нота, не мешающая автору, однако, при всей приподнятости стиля, погружаться во внутренний мир своих героев, вместе с ними биться над разрешением сложнейших вопросов, определяющих судьбу человека, судьбу народа, судьбы страны и мира. Этими произведениями автор еще раз подтвердил свою репутацию «смелого поэта с богатым воображением», как назвал его один норвежский литератор, поэта глубокой мысли и необычайной образной выразительности, по определению Й. Бродала — другого норвежского литератора1.
Еще в 1974 году, прослеживая творческий путь Юстинаса Марцинкявичюса от первых стихов до драмы-поэмы «Миндаугас» и определяя его место в литовской и всей современной советской литературе, исследователь Е. Бойтар из Института литературы Академии наук Венгрии писал, что «в литовской литературе XX века проявило себя несколько моделей поэзии — классическая, символистская, экспрессионистская, публицистико-риторическая. Поэтическое поколение Ю. Марцинкявичюса, вступившего на литературную арену в начале 50-х годов, отвергло риторическую модель, но не вернулось и к модели экспрессионистской. Поэтический мир этого поколения формировали литовский фольклор, народная фантазия и «большая литература». Ю. Марцинкявичюс выступил как поэт мысли, его главная цель — познание истины. Его занимают не исторические реалии сами по себе, а философское осмысление истории. В поэме «Миндаугас» он ставит один из роковых вопросов нашей эпохи: оправдывает ли цель средства? В его стихотворениях, полных элегических раздумий, утверждаются подлинные ценности жизни и все понятия объединяет в себе живая природа — сообразно ее законам человек оценивает и себя, и свои устремления. Как поэт-лирик, Ю. Марцинкявичюс истинно национален»2
К этому следует добавить то, что сказал мне о Юстинасе Марцинкявичюсе 3 июня 1984 года в Ниде талантливый белорусский прозаик Иван Чигринов: «Он счастливо избег разъедающего скепсиса, захватившего кое-кого из его поколения».
Лучшее доказательство всему этому — драматургическая трилогия поэта.
В отличие от польского писателя Юлиуша Словацкого, изобразившего в пьесе «Миндаугас, король Литвы» главного героя как деспота, не считающегося ни с чем ради поставленной цели, Юстинас Марцинкявичюс, опираясь на реальные исторические факты, почерпнутые главным образом из «Ипатьевской летописи», но не связывая ими художественного воображения, переносит акцент на мысли, чувства, нравственные мучения своего главного героя. «Драматизм «Миндаугаса»,— считает Й. Ланкутис,— заключается не столько в трагической судьбе героя, в его действиях в той или иной ситуации (применение насилия для объединения страны и укрепления власти, противоречие между благородными идеями и средствами воплощения их в жизнь), сколько в совершающемся в душе героя нравственном суде над собой и своим отношением к ближним, в мучительном процессе осмысления и оценки своих поступков, хода истории, судьбы народа и сути бытия. Мучительном потому, что автор воплотил в образе Миндаугаса могучую страсть познания, тоску по большим и непреходящим нравственным ценностям, глубокое, все проникающее ощущение вечности, высокое мужество человека, способного смотреть правде в глаза и постигнуть весь ужас своих ошибок»3
Сам автор так раскрывал свой замысел: «Историческая ситуация, в которую попадает богатая и крупная личность, должна была подчеркнуть более общий характер драмы и, главное, акцентировать трагизм как форму исторического развития»4
Перенося читателя и зрителя пьесы «Миндаугас» в Литву 1219 года, Юстинас Марцинкявичюс на первых же воротах перед нами пишет два емких, как целые миры, слова: «Любовь и насилие», заставляя вместе с двумя летописцами, открывающими повествование в драме-поэме, посмотреть с этих высот на описываемые события, ответить самим себе на вопросы: что главное, а что второстепенное в них, что истинно, а что ложно? На что следует обращать преимущественное внимание — на положительное или на отрицательное в происходящем, на факты, события или на их преломление в судьбах людей, народа? Белый летописец признается:
Мне по ночам
Все время — Время снится:
Пожары, войны, заговоры, письма —
История…5
Но подлинная ли это история? Черный летописец называет такую историю «сонником потомству», на что Белый отвечает, что и сам не ведает, «где правда здесь, где сон», и, развивая свою мысль, утверждает: люди не знают ни того, что такое будущее, ни того, что такое прошлое, как, впрочем, и настоящее:
А значит, мы не знаем даже.
Где прошлое, где будущее.
Посмеиваясь, Черный летописец советует описывать событие за событием, факт за фактом,
А лучше было б, если б ничего
На белом свете не происходило.
Тогда б не надо и писать.
Белый летописец не желает довольствоваться только описанием фактов, резонно замечая:
А человек? А люди?
Что происходит в них и что их мучит?
И почему печалятся они?
Зачем ликуют?
По какой причине
В любом и каждом
Все сплелось в клубок,
И размотать его никто не в силах…
А факты — те же камни у реки:
Их гладила века,
Отшлифовала
История тяжелыми волнами —
Теперь они годятся разве только
Для детских игр —
Чей камень сколько раз
Подпрыгнет на воде…
Нет, наше дело
Куда сложней —
Нам непременно надо
И общее объять, и человека.
Увидеть цель и выяснить причину.
Это отнюдь не означает, будто «выяснить причину» возможно, не опираясь на факты, что и отмечает Черный летописец:
Но человек без фактов и событий
Не человек.
Соглашаясь, Белый летописец предлагает своему оппоненту писать о фактах, а себе забирает людские судьбы, заявляя, что будет служить лишь истине, науке, рассказывать «только правду» потомкам. Черный летописец не без ехидства вопрошает:
А может быть, они не захотят
Знать правды, предпочтя ей ложь?
Кто знает?
Быть может, ложь покажется
им правдой?..
Вот сколько вопросов поставлено перед читателем и зрителем уже в самом начале. Число их в дальнейшем будет возрастать в геометрической прогрессии. Их ставят все герои. Их ставит автор. И решаются все они далеко не однопланово.
Заключив в 1219 году мир с князьями Волыни, литовские князья — братья Дауспрунгас и Миндаугас по-разному видят будущее своей земли. Старший не переносит войны и запаха крови, думает не о войнах, а о мирном труде, о лучшем устройстве мира, любит «размышлять о человеке, травах и деревьях, о цели каждой вещи на земле». Он утверждает, что «даже самый неказистый плуг куда почетней лучшего меча». Миндаугас же считает, что крестоносцы не позволят заняться мирным трудом, попытаются покорить Литву, а чтобы этого не случилось, необходимо объединиться, «привести в порядок свой дом» и отвратить угрозу. Дауспрунгас уступает ему первенство, призывая всех поддерживать словом, делом и мечом каждый шаг Миндаугаса.
Дальше возникают проблемы еще более сложные. Для Миндаугаса существует всего один бог — единая Литва.
Созданию ее он подчиняет все:
Есть Родина —один-единый бог.
Жестокий, и безжалостный,
И… правый...
Я всех заставлю
Почитать как бога
Ее одну —
Хранить, и славословить,
И жертвовать собою для нее,—
заявляет он Морте, единственной женщине, которую любит, но которая выдана против ее воли замуж за другого— горбуна Висмантаса. Он клянется:
Я сделаю Литву.
Я сотворю
Ее из пламени, воды и глины.
Но, Морта, даст ли счастье нам она?
Вот новая высота. С нее отныне читателям и зрителям предстоит рассматривать и оценивать все происходящее, пройдя через ворота, на которых написано: «Слава и мука». Став великим князем, Миндаугас действительно идет к поставленной цели, не считаясь ни с внешними, ни с внутренними препятствиями. В душе он чувствует страх, но не показывает его людям. Он не терпит славословий, величаний, но принимает их:
Ах, люди, люди... люди!
Меня таким увидеть вы хотите,
Каким себя увидеть не хочу.
Так, значит, я таким обязан быть...
Цель оправдывает средства? Черный летописец утверждает, будто Миндаугас честолюбец, человек ловкий и коварный. Белый же летописец, напротив, говорит: «Как благороден он и как страдает»,—вызывая уничтожающую реплику у своего оппонента:
Да разве у владык бывает сердце?
Они понять не в силах боль другого.
Собой всецело заняты всегда.
И только притворяются,
Что время
Проводят в размышлениях о нас.
Правители — всего лишь только троны,
Короны, распри, заговоры, козни
Под маской слое красивых да идей,
Чтобы себе и нам казаться лучше.
Правители — рабы
И потому
Их можно лишь жалеть,
Но было б глупо
Завидовать владыкам и царям.
Мысли, мучающие героев драмы-поэмы, соотносимы с разными этапами жизни на разных этапах исторического развития и в общем знаменателе сводятся к вечному вопросу: приносят ли происходящие события счастье человеку, народу? За двадцать два года правления Миндаугасу удалось создать объединенную Литву, обезопасить восточную границу, выдав силой дочь Рамуне за сына галицкого князя Данилы. Но по стране покатились слухи, что ради достижения главной цели он кого отправил на виселицу, кого изгнал. В беседе с обеспокоенным этими слухами братом Дауспрунгасом великий князь не отрицает их обоснованности, рассказывает о тяжелейшей боли, терзающей его, о том, что он, когда-то добрый, нежный человек, не предполагал, что будет так, но... не может поступать иначе, поскольку
Власть держится
Не на любви —
На страхе.
Вот разберутся и тогда полюбят.
Поймут, что был я прав,
Поймут, что нет
Пути иного и другой любви.
Что получил я?
Ничего, как видишь.
Я по кусочкам собирал Литву.
Между братьями завязывается редкий даже в этом произведении по насыщенности острой мыслью диалог. Дауспрунгас замечает: «Ты кровью их слеплял...», на что Миндаугас отвечает: иного пути не было, никто не желал войти в государство добровольно, теперь же оно существует, способно сопротивляться крестоносцам.
Еще десяток лет — и мы спасем
Себя, потомков.
Брат возражает: «Но какой ценой!» —и слышит в ответ: «Но цену предложил не я...» Брата смущает то, что именем новоявленного бога, именуемого Литвой, убивают, изгоняют, прикрываясь
Святым и чистым именем ее.
Как отличить, где подлинный пророк,
А где ненастоящий? -
Миндаугас.
Я не знаю,
Я ничего не знаю. Замолчи!
В этом решающем разговоре Дауспрунгас указывает брату на его главную ошибку:
Ты
На недоверье создал государство.
Не та основа.
Чтобы избежать ошибок, Миндаугас, страдающий все большей подозрительностью, назначает брага «верховным жрецом» и главным своим советником.
Пройдет немало лет. Миндаугас в 1251 году примет христианство в католическом варианте, будет признан папской курией королем Литвы. Но чем выше поднимается он, тем сильнее терзают, разрывают его душу вопросы: что такое правота иль неправота таких людей, как он? Есть ли хорошие, бескорыстные дела на свете, иль «может, вовсе нет хороших дел?» Иногда он доходит до отчаяния, до утверждения: «Есть ложь, и только ложь». И снова задает в разговорах с самим собой, с собственной совестью вопрос: счастлив ли? О том же спрашивает и Морту, наконец-то ставшую его женой после самоубийства Висмантаса. Рассматривая драгоценные камни на королевской короне, Миндаугас вдруг подумал: а не есть ли «все это только слезы, слезы, слезы... тех людей, страданьями которых», по предположению Дауспрунгаса, заплачено «за эти камни». Брата же беспокоит еще и то, что Миндаугас «выпустил Литву в огромный мир... в чужие обрядив одежды», что, приняв веру римского папы, он сам впустил врага в литовские пределы, и этот «враг ударит изнутри». Брат просит разрешения побродить по Литве. Миндаугас, позволяя, советует:
Ну, а если забредешь
В мои края,
Взберись на холм могильный.
Скажи отцу, что младший сын теперь
Могуществен и славен...
Только счастья...
Вот только счастья так и не нашел.
В сущности, на этой фразе повествование могло и оборваться. Далее следует трагическая развязка, о которой читатель, зритель и сам догадается. Обращаясь к короне, Миндаугас прямо говорит, что она не принесла ему
Покоя, счастья и
Свободы,
С моих ладоней не отмыла кровь,
Которую по милости твоей
Мне проливать пришлось
Обильней пота.
Он начинает догадываться о призрачности самой идеи власти, провидит, как развеется она в дали времен. Так почему же
...мы из-за тебя идем на все,
Мы оставляем дом, семью и друга,
Родителей, и верность, и любовь,
К тебе
С опустошенными сердцами
Приходим — догадаться напоследок
О том, что ты — ничто и мы — ничто?..
Перед нами, таким образом, всесторонне разработанная самыми различными художественными приемами (исповеди Миндаугаса наедине с самим собой, с собственной совестью, откровения с Мортой, споры с братом, свидетельские показания-диспуты Черного и Белого летописцев) психологическая драма, нет, трагедия властелина, создающего в мире противоборствующих громад целостное государство Литву. Существо трагедии, воссоздаваемой как процесс, очень точно выразил Белый летописец, когда записал:
Все беспощадней
Тяжкие раздумья
Властителя терзали.
Но теперь
Он отказался от противоборства
И подчинил себя великой цели.
Которая была его судьбой,
Его избраньем и предназначеньем,
И наблюдал угрюмо, как во имя
Великой цели
Догорало в нем
Все то, что составляло человека,—
И оставался только властелин.
Который ищет самого себя
В себе самом.
Но только черный пепел
И черная зола в его горсти.
ИСТОЧНИК трагедия Миндаугаса вскрывает старый горшечник, когда, вслед за Дауспрунгасом, говорит, что «крепкую и стоящую вещь из одного куска обычно лепят», а Миндаугас лепил свою Литву из кусочков — «работа несерьезная»:
Чуть что — глядишь, развалятся на части,
А может, я рассыплется совсем.
Он утверждает:
Все зазвучит, коль глина хороша
И на любви замешана с любовью.
Миндаугас уверяет, что с безоглядной любовью создавал свою Литву, отдав ей без остатка и мечту, и волю, и тоску по счастью. Горшечник упорствует: «Неправильно лепил...» Миндаугас твердит: «Дай срок... Она звучать начнет, когда работу я завершу и обожгу, как глину, мою Литву,— ого, как зазвучит! Весь мир услышит этот звук...»
И вдруг высказывает предположение:
Может быть, все время
Необходимо создавать державу,
Лепить отчизну.
Потому что, если
Остановиться,—
Родина умрет.
И тут же признается, что устал, что в душе его невыносимо пусто, что он ничего не боится и ждет, когда смерть, если она есть, принесет ему покой и вечный отдых. И вдруг ошеломленно вопрошает: «А может быть, и смерти нет?»
Ему предстоят испить горькую чашу до дна: Морта сходит с ума, князья устраивают заговор. Один из них, Даумантас, поднимает меч. Миндаугас пытается, как щитом, прикрыться глиняной картой Литвы. «От удара она раскалывается, рассыпается».
Физической смерти героя, зарубленного вместе с двумя сыновьями Даумантасом, предшествует внутреннее его угасание. Миндаугас не нашел утешения и у своего последнего друга — горшечника, открывающего главный секрет и рецепт подлинного созидания: все в мире творится из огня, воды и земли, эти три бога ежечасно ведут борьбу друг с другом, добиваясь единства, они создали человека, но и в нем продолжается нескончаемая битва трех богов.
Но настанет время.
Когда богам удастся наконец
Создать в борьбе такого человека.
Который всех троих объединит,—
И будет только бог. Один. Бессмертный.
Основанная на причудливом переплетении различных начал, символических картин, образов, метафор, сцена эта подводит читателя и зрителя к решению вопроса всех вопросов. Можно спорить, насколько органична она в повествовании, поскольку в ней устами горшечника автор договаривает за своих героев то, чего они не могли осознать сами, но что утверждается художественной логикой произведения: оправдано, закономерно, велико, вечно лишь то, что приближает, что способствует осуществлению мечты о гармоническом человеке, насыщающем весь мир подлинной человечностью. Так драма-поэма «Миндаугас» Юстинаса Марцинкявичюса смыкается в своем главном пафосе с поэмой М. Горького «Человек».
События, описываемые в последней сцене, происходят утром, но кажется, что над миром нависла непроглядная темь. Миндаугас движется тоже как тень, жалуясь:
Мне не спится.
Все ночи напролет я жду зарю.
Боюсь, что вдруг не рассветет однажды...
...Не так я жил, старик,
Совсем не так...
И если никому я не дал счастья,
Так для чего я жил тогда,
Скажи?
Завязывается спор о счастье. Каким оно должно быть? И одинаково ли оно у тех, кто властвует, и у тех, кто подчиняется? Миндаугас считает: «Оно все то же...» Мысль его уносится далеко за горизонт и гаснет, когда он начинает
Ощущать, что в мире
Нет ничего,
А человек — пылинка
В безмерном океане этой темы.
Тьма пугает его, ибо заставляет почувствовать, что
Мы не так уж велики,
Не так уж всемогущи,
Как порою
Мним о себе.
Так чем же человек
Бывает счастлив?
Чем?
Иль тем, что видит.
Берет, имеет, осязает, ест.
Иль тем, что любят или ненавидит
И ощущает все, что в мире есть?
Да, это счастье — я оно огромно
Но наступает ночь —и ты один,
И понимаешь вдруг.
Что все — ничто.
Что это все лишь пыль, и прах, и глина.
Не существует, видимо, чего-то
Достаточно существенного.
Нет
Причины,
Чтоб лепить из глины — счастье.
О это слово!
Кто его придумал?
В чьем сердце родилось оно впервые
И выросло в губительную жажду.
Которую не в силах утолить?
Поэт оставляет этот вопрос без прямого ответа, веря, что читатель, зритель сам ответит на него, так же, как на множество других, включая вопрос о том, что было правдой, а что ложью во всех действиях главного героя пьесы — Миндаугаса?
По убедительному мнению й. Ланкутиса, Миндаугас, каким его рисует Юстинас Марцинкявичюс,— «суровый, могучий властелин с твердой рукой, а когда надо — и с твердым сердцем, но он не является воплощением зла, рабом макбетовских страстей. Он хочет добра, только путь его к добру слишком труден и сложен»6
При чтении драмы-поэмы «Миндаугас» без труда улавливаются трансформации некоторых классических приемов и образов. Споры Черного и Белого летописцев заставляют вспоминать об античных хорах в пьесах прославленных драматургов и одновременно пушкинского Пимена; подслушивающий Зиверт похож на гамлетовского Полония, горшечник — на прославленных могильщиков (и на ибсеновского Пуговичника), описание сходящей с ума Морты воскрешает в памяти образ Офелии, как, впрочем, многие рефлексии самого Миндаугаса наводят на мысль о влиянии на их автора произведений прославленного английского драматурга и опять-таки нашего Пушкина. Но — странное дело!— это не мешает нам вчитываться и вслушиваться в напряженные размышления героев, верить в их мучения даже тогда, когда герои оперируют почти абстракциями, когда реалистическое обеспечение той или иной сцены явно недостаточно. Порой этот недостаток компенсируется неподдельным лиризмом и всегда — глубиной, оригинальностью и заражающей эмоциональностью мыслей героев. Многие из монологов насыщены мыслью настолько плотно, что воспринимаются как афоризмы. Вот некоторые, принадлежащие Миндаугасу:
Кто самый храбрый,
Тот и самый старший.
О, как идея власти
Сладка и как горька!
Каким путем
Ты проникаешь в сердце человека
И как уничтожаешь ты его!
Но мне мешает власть
Служить всецело божеству чужому
И слишком верить в собственных богов.
Приветствиям — свой час, а делу — время.
Так же емко умеют говорить и говорят почти все герои. Приведу всего один пример:
Дауспрунгас.
Мы очень любим громкие слова.
А что такое Родина?
Мы все.
Да, да, мы все.
И если все мы правы.
Тогда и наша Родина права.
Г о л ос а.
Да. это так.
..Но, несмотря на это,
Она гораздо больше, например,
Чем я, чем ты,
А значат, правота
Ее гораздо больше, чем моя.
Миндаугас
Как сказано: красиво, кратко, ясна
И даже монолог Морты, сходящей с ума после того, как ее первый муж, горбатый Висмантас, покончил самоубийством, потрясает глубиной переполняющей его мысли:
Мне надо помолиться...
Горб грехов
Растет и пухнет на моей спине.
Горб, и любовь, и Висмантас горбатый...
Но горб и есть любовь.
О боги, боги,
Снимите горб, оставьте мне любовь...
Любовь и горб... Но если горб исчезнет.
Исчезнет и любовь... Вы все горбаты...
Да, все. А я одна молюсь за всех...
Вам не понять, что горб и есть любовь,
Что за любовь молиться надо» люди!
— Достаточно прочесть Сруоги, чтобы убедиться, — говорил мне И. Чигринов в упоминавшейся уже беседе,— что трилогия возникла на тщательно вспаханной и перепаханной самим Юстинасом Марцинкявичюсом национальной литературной почве, засеяна семенами, им самим найденными и заботливо проращенными. Чувствуется, конечно, влияние «Гамлета» и «Бориса Годунова», но на кого из талантливых людей они не влияют?
В литературной критике много и хвалебно говорилось о композиционном мастерстве, с каким строится драма-поэма, об умелом использовании контрапункта, позволяющего выявить многогранность изображаемых событий, а также о естественности, с какой в произведении прозревается будущее.
Особо следует сказать об искусном использовании в произведении фольклорных элементов: причитаний, вещих снов, примет, молитв, элементов мифа. Порой они настолько естественны, что почти не замечаются, как, например, вот в этом монологе Миндаугаса:
Еще отец мне говорил о том.
Что день необходимо завершать
Полезным, добрым делом.
Что оно
Перерастает за ночь в день хороший.
Еще с большим искусством фольклорные элементы вплетаются в художественную ткань драмы в десяти песнях — «Собор».
Произведение построено на основе чисто поэтической условности по законам высокого, возвышенного искусства, отличающим в прошлом пьесы Ф. Шиллера, Гете. Строго выдерживается раз найденная поэтическая интонация, кое-где, впрочем (например, в девятой песне), несколько связывающая автора. Возможно, этим объясняются и отдельные чересчур уж риторические звенья в монологах главного героя. Но в целом драма подкупает стройностью, согласованностью и многосторонней соотнесенностью всех десяти частей, яркой эмоциональностью, внутренним динамизмом и еще большей, нежели в «Миндаугасе», интеллектуальной насыщенностью. Писатель продолжает художественное осмысление исторической судьбы своего народа, а через нее и коренных проблем человеческого бытия, и на этот раз возлагая основную идейную нагрузку на реальное историческое лицо — великого литовского зодчего Лауринаса Стуока-Гуцявичуса (1753—1798). Он, выходец из «тягловых холопов», действительно перестраивал высящийся у горы Гедиминаса величественный в его «простой и благородной красоте» Вильнюсский кафедральный собор, частично разрушенный бурей в 1769 году, и участвовал в Вильнюсском восстании 1794 года в качестве командующего гражданской гвардией. Действие развертывается под трагический аккомпанемент причитания Матери, оплакивающей своего младенца, задавленного развалинами старого Собора. Плач слышен и в народной песне «Груша», исполняемой слепым скрипачом,— песня эта превращается во второй лейтмотив произведения. К концу повествования они сливаются в единый плач о Литве, потерявшей к этому времени не только независимость, но и официальное название свое. (Она была включена в Польско-Литовское государство.)
Архитектор Лауринас возрождает Собор, вкладывая в него мечту о свободе, красоте, справедливости, человечности, гармонии и правде. Он ищет главную идею, которая объединила бы все эти начала, и находит ее в идеале возрождающейся Родины, отчизны, дающей каждому человеку и всем вместе великую цель, мечту, внутренние опоры, нравственные устои, духовные ресурсы. Так же, как в «Миндаугасе», автор здесь умело придает многим сценам, картинам, образам широкую многозначность, а образ Собора поднимает до значения гигантского символа, в котором олицетворяется и обновляющая мир красота, и жизненная цель, и духовные устои всего народа, поднимающегося на борьбу, и то неистребимое жизненное начало, что вбирает в себя преданность «земле отцовской, своим обрядам и материнской речи», и несгибаемость души настоящего человека, борца, мятежника, живущего высшими интересами народа, человечества. Собор —символ созидания мира, где не будет угнетенья, насилия, лжи, коварства, жестокости, обманов и самообманов, обольщений и самообольщений. Собор — «мечта, любовь и вера». Собор — то, в чем ты «весь вмещаешься», защищенный «от своего неверья, от своих сомнений». Собор — «те камни, те колонны», что поддерживают нового человека. Наконец, это — будущее народа, его заветные надежды, думы, стремления. «Идея кафедрального Собора, этого ежедневно зримого виленчанами архитектурного шедевра,— констатирует Й. Ланкутис,— трансформировалась в произведении Марцинкявичюса в символ добра, красоты, Родины и этического обновления человека. Этот образ-символ вместил в себя радость любви и горе утраты, жажду творческой свободы и горечь одиночества, ураганы социальных потрясений и мрачные сумерки истории»8.
Поэт и его герои и здесь продолжают размышлять над фундаментальными проблемами человеческого бытия. На чем основан мир? Что держит в нем человека? Что важнее — разрушать или строить? Или — разрушать и строить? Что такое правда? «Правда—тоже разрушенье. Самообмана или лжи — не важно. Вся правда в том, что вовсе нет ее?» Таких «опросов в драме ставится множество. Идет ли речь о назначении художника, или о спасительности красоты, или ее происхождении: «Лира родилась из лука,— говорит Человек в серой рясе с капюшоном.— Из боренья — красота». Больше других задает вопросы Лауринас. Задает и в минуты наивысших взлетов, и в периоды подавленности, даже отчаяния, выжимающего из него афоризмы вроде следующего: «Мы, люди, оттого подобны богу, что одиноки так же, как и он». По верному заключению исследователя: «Путь героя — это суровый путь познания, где нет ни легких побед, ни окончательных истин. Через потери, страдания и активное сопротивление герой Марцинкявичюса познает нечто важное в самом себе и в окружающем мире, и это выстраданное познание становится драгоценным достоянием читателя и зрителя»9
Наряду с героическим образом Лауринаса и неотразимо прекрасным — Евы-Тересе, а также колоритными образами фонарщика и шинкаря, автору в особенности удался созданный в реалистической манере образ епископа Масальского— антипода Лауринаса. Ханжа и сластолюбец, прозванный «талантов отыскателем и ласкателем», епископ выступает как олицетворение той силы,
что убивает все:
Добро, и красоту, и веру в правду,
В самопожертвование, в любовь,
Во все, чем жив талант и чем он дышит.
Удача автора, между прочим, объясняется и тем, что он не «оглупляет» отрицательного героя. Масальский не скрывает своих пороков, кается, бичует себя. Он умен, оборотист, проницателен, умеет заметить талантливого человека и поставить его на службу себе и церкви. Не раз высказывает он мысли, отличающиеся емкостью и глубиной. «Чем гениальней ты, тем ты несчастней,— говорит он, например, Лауринасу. — А счастье — дар посредственности». Однако и самые глубокие мысли Масальского лишены творческого начала. Последнее в пьесе безраздельно отдается положительным героям, прежде всего Лауринасу.
Сложные и по форме, и по содержанию драмы «Миндаугас» и «Собор» не поддаются простым истолкованиям, особенно в финальных, насыщенных многозначной символикой частях. Последние перекликаются с финалом «Тихого Дона». Край холодного неба видится в заключительной части произведения Миндаугасу. Перед смертью Лауринас. касаясь стен Собора, говорит, словно прощаясь:
Ты стоишь!
Но где же цель твоя? И почему
Ты мне привиделся в ту ночь, когда
Я воротился в Вильнюс и комета
Сверкнула в небе — и в ее сверканье
Ты мне предстал как некий идеал,
Воздвигся как небесная мечта!
Кому был нужев этот каменистый
Путь познаванья?! По нему меня
Ты вел, чтоб привести в коцце концов,
Униженного и пустого, в ночь,
После которой не настанет утро.
Не встанет солнце вдохновенья. Все
Вложил я в твой фунламент: веру, страсть,
Добро и дружбу, красоту и счастье —
Все, чем я жил, все, чем существовал,
Покуда не увидел, что все это —
Мечта, химера и одни слова.
Которые не в силах побороть
Несправедливость, ложь, обман и грех.
Возмущенный молчанием Собора, Лауринас рубит мечом колонну. Потом, одумавшись, молит о прощении и падает у колонны. Холодный луч «мечется, ищет, гаснет и снова зажигается, пока нащупывает на ступенях Собора сидящего ребенка. Шум умолк вдали, ребенок играет у подножия колонны — спокойный, сосредоточенный и, наверно, счастливый». Так же, как и в произведениях Михаила Шолохова, этот ребенок олицетворяет надежду, оставляемую всем нам жизнью и поэтом.
Написанная после «Собора», в 1976 году, но являющаяся второй частью трилогии драматургическая песня в трех частях «Мажвидас» (на русском языке в переводе Александра Межирова впервые напечатана в журнале «Дружба народов», 1984, №2 — 4) уступает, на мой взгляд, рассмотренным произведениям как в драматизме, так и в силе художественного выражения его. Вместе с тем, сложный характер главного героя раскрыт хотя и не столь многогранно, как характер Миндаугаса, зато психологически тоньше и глубже.
В основе произведения — реальные события, связанные с деятельностью создателя первой книги на литовском языке н первого мученика лютеранской веры в Литве Мартинаса Мажвидаса (1510—1567). Вынужденный бежать из Великого княжества Литовского в Восточную Пруссию, Мажвидас видит свою миссию в распространении лютеранской веры на всю Литву. Ему кажется, что это облегчит участь трудового народа, поможет ему вырваться из нищеты. Жизнь же простых людей он знает не понаслышке. Он много лет провел в самой гуще народа и с полным основанием говорит о себе:
Тебе осталась боль.
Еще осталось горе.
Как поется,
Оно ветвится у твоих ворот...
В свое время Мажвидас побывал в темницах священной инквизиции, не раз оказывался на границе отчаяния. И все это привело его к убеждению:
Мир — вселенское страданье,
А в центре мироздания пылает
Кровоточащей раной человек...
От преждевременной гибели его спасла деревенская красавица Мария, родившая от него сына, смеявшаяся над ложью, суеверием, темнотой и за то объявленная ведьмой и замученная доминиканцами.
Лютеранин по чувству долга, пастор Мажвидас сохраняет прочные связи с народом. На протяжении всего повествования он окружен простыми, грубоватыми, большей частью несчастливыми, но жизнестойкими людьми, говорящими ему правду в глаза. Он тоже грубоват с ними, но отдает им все — знания, опыт, деньги. Исповедуя лютеранство, он сохранил элементы языческих представлений, верит в приметы, заговоры. В тяжкую минуту, в доминиканском подземелье, он вспоминает, как «мать словами исцеляла, она умела боль заговорить», и повторяет с удивительной проникновенностью слово в слово ее заговор. Очень чуток Мажвидас к поэтическому слову. При посадке дубка его приводит в восторг брошенная Тирвой фраза: «Корнями — в ад, ветвями — в небеса». Он и сам говорит ярко, выпукло, афористично: «Быть одному счастливым или сытым постыдно»; «Только мне сдается — не вера главное и не молитва, а сколько сделал ты добра»; «Труд — как молитва, тем дороже небу, чем добросовестней»; «Без добрых дел и света нет на свете».
Но этот умный человек с драматической судьбой не сразу догадывается, что на самом деле не лютеранство — его бог. Повторяя слово «бог» чуть ли не на каждом шагу, он думает о человеке, о том, «что он несчастен», и свой долг видит в том, чтобы помочь человеку. Мысль его простирается очень далеко: «Так где я есть, зачем и почему?» То, что паства знает о боге больше, чем о человеке, вызывает у Мажвидаса досаду и горечь. Возможно, он и лютеранином стал потому, что надеялся найти для окружающих его людей объединяющее начало, ибо он-то знал:
Где два литовца.
Там не счесть богов.
Да, конечно же, он надеялся на это, сначала смутно, а затем отчетливо ощутив, что всегда его единственным богом является Литва, что мечтой о ее единстве он жил всегда. Еще в застенке инквизиции, в минуту, когда был готов распроститься с жизнью, его осенила мысль:
Истерзанная голодом я тьмою.
Распятая на огненном кресте
Бессчетных войн, чумы и голодухи,
Когда вот так подумаешь:
Литва...
То умирать не хо-чет-ся!
С мечтой спасти ее, явив народу истину и свет, Мажвидас издает на литовском языке Катехизис и Псалтырь, поняв, что, борясь за бессмертье родного слова, он тем самым борется и за будущее своей земли. Порой ему кажется: это сизифов труд. Он теряет любимую женщину. Сын попадает в тюрьму, бросая на прощанье и ему:
Все-то вы силком
Суете!
Веру новую придумав.
Вбиваете ее в людей, грозите...
И все на иашу голову!
Хоть раз
Спросили вы, чего я сам желаю?
Позволили мне выбрать самому?
Все на крови поставлено у вас.
Все на крови. А почему, ответьте?
Как тут не впасть в отчаяние! Мажвидас находит в себе силы преодолеть отчаяние, усталость, горе, невозвратимые утраты. Его осеняет догадка, что, возможно, это Литва ему
…не прощает, что ее когда-то
Покинул я...
Что бога ставил выше
Отчизны… (Грозит кулаком в окно.)
Не помилует ома.
Не помилует!
(С трудом выпрямляется, бессильно роняет руки.)
Она права, всевышний!
В эпилоге мы видим, как Мажвидас учит детей складывать буквы «в слово, не в слова»: «Ле-ту-ва!»
Так писатель возвращается к главной идее «Миндаугаса». Как эстафета, из «Миндаугаса» она через «Собор» переходит в песню «Мажвидас».
«Как Миндаугас, изображенный поэтом в первой части трилогии, был трагическим символом идеи государственности,— писал В. Кубилюс, представляя русскому читателю «Мажвидаса»,— так Мажвидас становится символом нарождающейся национальной литературы, ее долга и предназначения. Язык поэмы — это язык сосредоточенного погружения в себя, душевного парения, язык особого эмоцинального состояния, взлетающий вверх «на серебряных крыльях» и одновременно исполненный трогательной народной простоты. Словесная ткань окрашена в тона элегической нежности и доброты, в ней нет яростных и суровопатетических нот, присущих «Миндаугасу»10.
Поэт выступает во всеоружии драматургических средств, искусно стилизуя отрывки из первой книги на литовском языке, имитируя народные предания, заговоры, используя самоновейшие приемы, например «автоматическое» письмо, когда дает без знаков препинания один из бессвязных монологов больного Мажвидаса, не выбиваясь, однако, из исторического времени.
В цитированной мною «Энциклопедии мировой литературы XX века» американский профессор Римвидас Шилбайорис из современных литовских поэтов первыми назвал Эд. Межелайтиса и Ю. Марцинкявичюса. «Юстинас Марцинкявичюс (род. 1930),— писал он,— ищет в развалинах сожалений обещание будущего как в собственной душе, так и в душе своего народа. Особенно это проявилось в поэме «Кровь и пепел», в которой описывается полное уничтожение литовской деревни во время 2-й мировой войны фашистами. Его историческая трилогия «Миндаугас» (1968), «Собор» (1971), «Мажвидас» (1976) выделяет выдающихся людей в истории Литвы с целью изображения моральных испытаний, пережитых народом, его решительных попыток достичь культурного и морального единства на протяжении веков»11.
Как показывают поставленные рядом повести Леонида Леонова, Валентина Катаева, романы Федора Абрамова, «Северный дневник» Юрия Казакова, пьесы Александра Вампилова, поэмы Юстинаса Марцинкявичюса, очень непохожие друг на друга произведения созданы советскими писателями в рассматриваемый период. И это вполне закономерно. «Сущность метода социалистического реализма,— говорил Леонид Соболев,— в том и состоит, что он вмещает в себе многообразие форм, стилей, жанров, особенностей художественного выражения наблюдаемой жизни— при непременном условии верности этого наблюдения и его соответствия генеральной идее эпохи»12. Это не означает, будто все, что поступало тогда в редакции журналов и издательств, соответствовало «генеральной идее эпохи». Некоторые писатели переболели «детскими болезнями», начиная с иллюстративности в прозе, риторики в поэзии и кончая дурной сенсационностью. Выступая в марте 1968 года с докладом на отчетно-выборном собрании Московской писательской организации, Сергей Михалков с удовлетворением говорил о том, что писатели с успехом избавляются как от иллюстративности, риторики, так и от другой неправды — поверхностного вспышкопускательства, хлесткой, но непродуманной и безответственной фразы, спекуляции на «модных настроениях», от всего мелкого, преходящего, недостойного большой литературы, что вызвано к жизни не заботой о благе народа, а тщеславием и гражданской незрелостью тех или иных литераторов. Указав на особенную явственность этого процесса в поэзии, он сказал, что в ней все с большей очевидностью отделяется зерно от плевел, глубинное, подлинное, серьезное от внешнего, случайного, крикливого. «Были времена,— продолжал докладчик,— когда эстрада в жизни стала «теснить» книгу, устная поэзия оказывалась популярнее печатной, обыгрывание, иногда сомнительное, внешне острых тем вызывало вспышки сенсаций, но эти фейерверки гасли так же быстро, как разгорались, хотя их минутный блеск многим слепил глаза. Теперь эта пора миновала».