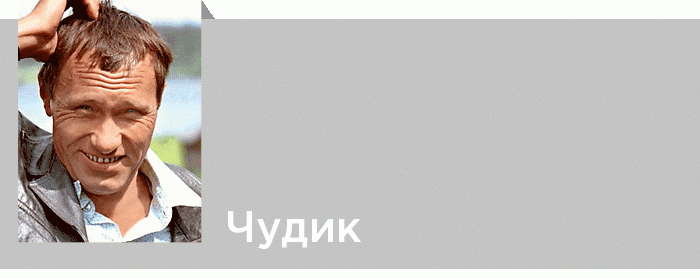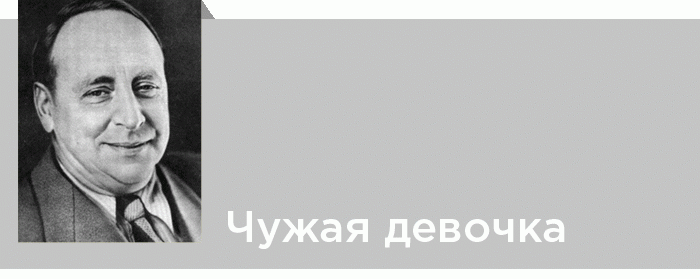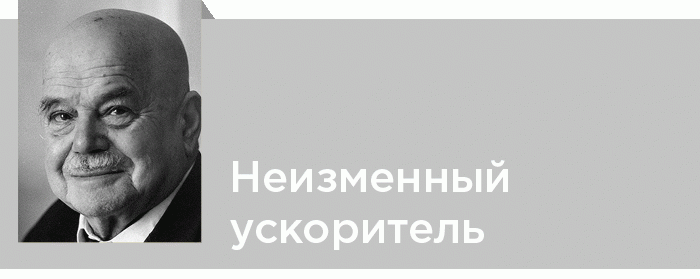Натянутая тетива

Л. Шубин
Виктор Шкловский говорит: «Я привык ставить в начале книги пейзаж». И новая его книга действительно открывается пейзажем. Лирическим и грустным. Поздняя крымская весна. Ялта. Уже доцветает миндаль и скромно цветут кипарисы. Одинокая фигура человека на черной влажной гальке. Он встречает семьдесят шестую весну. Шумит море, поют птицы, но они не мешают человеку думать. Он вспоминает свою жизнь, свою работу, своих друзей. «Переворачиваются страницы. Попробую перевернуть их обратно, опять перечитать. Старость любит перечитывать». Заставка, предисловие, воспоминания... Осторожно вводит автор читателя в свою новую книгу. Прежде этого не было. Прежде Шкловский начинал свои книги иначе, сразу вводя читателя в суть дела. Вот как начиналось «Воскрешение слова»: «Древнейшим поэтическим творчеством человека было творчество слов. Сейчас слова мертвы, и язык подобен кладбищу, но только что рожденное слово было живо образно. Всякое слово в основе троп».
Поэтика начал интересна не сама по себе, а потому что сигнализирует о сдвигах в мировосприятии критика. В последних работах Виктора Шкловского все явственней желание оглянуться на свое прошлое, переосмыслить сделанное, еще раз взглянуть на свои ранние работы. В критическую прозу вторгаются воспоминания, и это придает книгам лирическую напряженность. В лирике этой ощущается горечь. В. Шкловский объясняет: «Меня на Западе упрекают в измене самому себе и принимают мое наследство... А я хочу изменяться, потому что не устал расти». Отрицание прошлого во имя будущего — «трудное и ответственное», по словам Блока, отрицание. Но это не вся правда. Есть в лирической напряженности последних книг Шкловского и определенный элемент растерянности перед временем.
Давно, еще в начале 20-х годов, В. Шкловский написал опрометчиво и заносчиво: «Искусство всегда было вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражался цвет флага над крепостью города». Дальнейшая жизнь и творчество разверзли бездну противоречий, таящихся в формуле «художник и время». Время властно вторглось в жизнь В. Шкловского, порой ему казалось даже, что время однозначно диктует идеи и поступки. Учитывая это, и последнюю книгу В. Шкловского следует рассматривать в контексте его творчества, имея в виду движение идей критика, его полемику с самим собой.
Новая работа В. Шкловского — «Тетива. О несходстве сходного» — тоже лирическая книга. Это особый жанр, характерный для критических книг В. Шкловского. Критик называет их — «повести о прозе». В книге монтируются воспоминания и «чистая теория», литературные портреты (Б. Эйхенбаум и Ю. Тынянов) и статьи о книгах М. Бахтина, Т. Манна и Дж. Апдайка. Она объединяется в целостную структуру единством авторской идеи — раскрыть сущность искусства через единство и борьбу противоположностей, или, как говорит автор, через несходство сходного. Разнородный материал, как кольцом, схвачен метафорой Гераклита Темного: «Они не понимают, как расходящееся согласуется с собой: оно есть возвращающаяся к себе гармония, подобно тому как у лука и лиры». В свое время Пастернак сформулировал эту мысль так:
Достигнутого торжества
Игра и мука —
Натянутая тетива
Тугого лука.
Общий закон диалектики своеобразно преломляется в искусстве. Уже в микроорганизме искусства — тропе — художник необычным употреблением слова «не уничтожает обычное, более постоянное значение слова-сигнала», а, создавая напряженные отношения двух этих значений, раскрывает тем самым новое содержание. Легко установить генетическую связь «несходства сходного» с «теорией остранения», выдвинутой В. Шкловским в 20-е годы. Комментируя теперь термин «остранение», он пишет: «Остранение — это удивление миру, его обостренное восприятие. Закрепить этот термин можно, только включая в него понятие «мир». Этот термин предполагает существование и так называемого содержания, считая за содержание задержанное внимательное рассматривание мира». Это объяснение вряд ли можно назвать точным.
«Задержанное внимательное рассматривание мира» не является все же целью искусства. Вот как уточняет свою мысль автор: особенность художественного отражения состоит в том, что «это отражение, в котором черты воспринятого сопоставляются в своей несхожести». И еще: «Мы встречаемся с понятием модели, с понятием подобия, с понятием построения иного мира. Причем эти построения создаются для понимания того, что мы называем действительностью, для предвидения и открытия возможностей».
Это своеобразное видение мира, улавливающее и анализирующее несходство сходного, обусловливает, по мысли В. Шкловского, и структуру художественного произведения, и движение (развитие) этих структур во времени, в истории. «Закрепленные формы», в которых материализовались достижения человеческого духа, противостоят волюнтаризму художника, указывают ему возможные пути анализа действительности, помогают наиболее эффективно, учитывая художественный опыт предшествующих поколений, творить новое. «Несходство сходного, — пишет Шкловский, — по-своему экономно, так как оно, не уничтожая системы, делает ее частью нового сообщения».
Р. Якобсон, со статьей которого («Поэзия грамматики и грамматика поэзии») полемизирует В. Шкловский, рассказывал, что при переводах Пушкина на чешский язык он столкнулся с невозможностью передать в другой системе языка «грамматическую форму» пушкинских стихов. Грамматические конструкции, или, как теперь говорят, языковые структуры, конечно, «несущие конструкции», однако, хотя поэзия живет посредством слова, она не равновелика ему. И об этом Шкловский справедливо напоминает Р. Якобсону, Тетива важна не сама по себе, а потому что способна придать скорость стреле. Правда, в полемике В. Шкловский слишком уж категорично противопоставляет «сюжетно-событийную структуру» произведения и его «языковую структуру», хотя и подчеркивает их соотнесенность.
Говоря о структуре искусства, В. Шкловский неизбежно приходит к вопросу: «Чем же объясняется непрерывность нашего восприятия искусства, когда само искусство прерывно?» Ответ на этот вопрос неоднозначен. Художественная структура или модель стабильна и, несмотря на то что она ориентирована в истории, сохраняется в исторической памяти народа как своеобразный «инструмент» познания мира. Однако художник не просто наследует выработанные человечеством структуры искусства, но изменяет их, причем изменяет не отдельной чертой, «а как бы сламывая и перевоплощая всю систему, как бы новым маршем лестниц». Очень точно этот процесс обновления схвачен Достоевским, который, по свидетельству Н.Н. Страхова, говорил: «... настоящий писатель — не корова, которая пережевывает травяную жвачку повседневности, а тигр, пожирающий и корову, и то, что она поглотила!».
«Закрепленные формы» следует, конечно, изучать и описывать: целостная структура, ее части и элементы, соотношение этих элементов — так возникает морфология искусства. «Нормативная» поэтика плоха не потому, что скрупулезно исследует и описывает структуры произведений искусства, а потому, что упрощает момент встречи художника с этими структурами, которые, живя в настоящем, «помнят свое прошлое, свое начало». В. Шкловский приводит чрезвычайно важное признание Стравинского: «Подобно тому как латынь, не употребляемая в обыденной жизни, обязывала меня к известной выдержке, так и музыкальный язык требовал некоей условной формы, которая сдерживала бы музыку в строгих границах, не давая ей растекаться в авторских импровизациях. Я добровольно поставил себя в известные рамки тем, что выбрал язык, проверенный временем и, так сказать, утвержденный им». Каждое новое произведение искусства как бы становится в ряд, подчиняясь общим законам искусства, и в то же время уникально по своей структуре. Возникновение новой структуры — нового произведения — есть процесс кристаллизации, а не «волевое распоряжение» художника, сопоставляющего разные структуры или соединяющего готовые «технические узлы» в новую конструкцию.
«Искусство движется и стоит», — утверждает В. Шкловский. Это — не более как парафраза древнегреческой апории «Стрела», в которой раскрывалась противоречивая сущность движения. К сожалению, В. Шкловский не всегда последователен в раскрытии единства прерывности и непрерывности истории искусств. Порой идея «несходства сходного» как движущего противоречия в истории искусства становится отвлеченной и сухой абстракцией. Тогда история теряет свою прерывистость, свое движение. Стабильность структуры излишне преувеличивается, изымается из движения и смены. Стрела повисает в воздухе. В. Шкловский пишет: «...я пытаюсь сравнивать явления разных эпох и жанров, подчеркивая такие черты, которые их соединяют». Если оставить без внимания различия эпох и жанров, то действительно можно сказать: «... в основе художественного творчества, в основе всех этапов художественного построения лежат сходные принципы вскрытия противоречий (...) художественные процессы разных времен и народов в этом сходны и поэтому нами и понимаемы». В каком-то отвлеченном и абстрактном смысле такое понимание законов искусства может быть и правильно, но предпочтительнее историческая конкретность, присущая определениям целей и задач искусствознания, которыми богата книга В. Шкловского.
Стремясь обозначить непрерывность искусства, его движение, смену структур, В. Шкловский вводит понятие «конвенция» (договор, условие, соглашение). Само по себе введение нового термина не означает еще движения теории вперед, тем более что содержание этого термина в книге недостаточно раскрыто. «Законы, определяющие значения частей в предвиденных контекстах, в дальнейшем я буду называть «конвенциями», то есть условиями, известными и автору данной системы сигналов, и тем, кто воспринимает. Одна измененная черта сходного своею несходностыо, разным образом даваемой, может изменить всю систему». Есть в этом определении элемент, подразумевающий заданность, рассудочность творчества. Но дело не только в этом. Определение «структуры», которую В. Шкловский отделяет от понятия «конвенция», почти дословно совпадает с только что процитированным определением: «... понятие структуры, то есть понятие такого взаимодействия частей, которое определяет друг друга таким образом, что изменение одной части вызвало бы изменение смысла и значения всех других частей». В дальнейшем В. Шкловский непомерно расширяет значение термина «конвенция», и он начинает поглощать другие понятия теории литературы.
Дело, конечно, не в определениях, определения важны не сами по себе, а потому что понятия — это своеобразные ступени познания. И важно знать взаимозависимость и взаимопереходы понятий в концепции автора. Понятие «конвенция» у В. Шкловского — всеохватывающее: это и условность искусства вообще, и направление в искусстве, и индивидуальное своеобразие художника, и элементы художественных структур. Привлекательность этого термина для В. Шкловского состоит, вероятно, в том, что этим понятием он может наконец стянуть воедино автора, произведение и читателей, зрителей, слушателей. Для того чтобы выявилась социальная природа искусства, необходим диалог, а следовательно, взаимопонимание. Не знаю, лучше ли этот термин, чем термин «условность», но встреча этих понятий безусловно плодотворна. Понятия сошлись, столкнулись, осветили друг друга, пробудили задремавшие было значения и смыслы.
Виктор Шкловский уже давно «примерялся» к мысли о том, что исследование жизни «человека не на своем месте» — очень широкая «конвенция» искусства. В двадцатые годы он писал: «Человек не на своем месте — древнейшая тема в искусстве».
В новой книге В. Шкловский вынес эти слова в название главы — «Человек не на своем месте». Это лучшие страницы книги. Глава начинается необычным для греческой мифологии рассказом Диотимы о боге любви Эроте, сыне бога богатства Пороса и богини нищеты Пении. Эрот в рассказе Диотимы «всегда беден и, вопреки распространенному мнению, совсем не красив и не нежен, а грязен, неопрятен, необут и бездомен...». Так вводится В. Шкловским тема трагической любви, страдания разлученных влюбленных, разрушенного счастья. Любовные конфликты дополняются и обогащаются конфликтами социальными. «Все более широкие, прежде запретные стороны жизни входят в область искусства». Острые, трагические конфликты трудно было разрешить. Художники, пытаясь объяснить несправедливость мира, апеллировали к судьбе, к богам. Развязка обрывала, а не разрешала конфликт. Потом «конвенцию» древнего искусства сменил реализм. «Приближалось понимание реальности и повседневности несчастий». Реализм все больше уходил от случайности и неоправданности развязок. Социальные конфликты нельзя было уже объяснять случайностью, напряженно искала художественная мысль объяснений: почему страдают любящие, почему человек несчастен, почему отрывается он от природы, почему не приносит ему радости труд, почему страдают хорошие и одаренные люди и почему преуспевают подлецы, почему есть бедность и неравенство, почему существует тирания, почему человека принуждают убивать, грабить, издеваться, насильничать... И еще много других «почему». Обобщая свою мысль, В. Шкловский экстраполирует рассуждение Л. Толстого о счастливых и несчастных семьях. Счастливые люди, пишет В. Шкловский, как бы не нуждаются в истории. Они могут быть огромными, как пирамиды, но пока они устойчивы, у них пребывание, а не история. «Человек не на своем месте, человек с нарушенным положением, человек восстающий, переделывающий — герой эпоса и романа».
Лучшая глава — это еще не значит, что все в этой главе приемлемо для меня. Нельзя, например, согласиться с тем, что только несчастный человек имеет историю и что только он может быть героем эпоса и романа. Нельзя прежде всего потому, что счастье не монолит, что оно не похоже на пирамиду и не довлеет самому себе. Счастье, пользуясь термином точных наук, — дискретно. Да и несчастье — тоже. Другое дело, что счастье не может быть замкнутым на себя, не может быть эгоистическим. Нельзя, невозможно быть счастливым вполне, когда рядом на Земле страдают другие, когда люди умирают от голода, нищеты, тирании, когда людей убивают, мучают, когда над ними издеваются. Это та невозможность счастья, о которой говорил Достоевский, о которой писал Толстой.
«Человек не на своем месте» — формула, быть может, не совсем удачная, но речь идет о том, что мир еще очень далек от справедливости, он выталкивает героя из обыденности и ставит его вне общества, делает его изгоем. Герой — это человек, «не могущий осуществить себя, борющийся за свою человечность, за свою полноценность, за свое место в истории». Это — основная тема искусства. Искусство ищет объяснений, стремится к пониманию социальной несправедливости. Оно должно воодушевить человека на борьбу с несправедливой действительностью, дать ему веру в победу. Виктор Шкловский пересказывает небольшую притчу Кафки о том, как человек всю жизнь простоял перед открытыми воротами, не решаясь войти. Потом ворота закрылись, и охранявшие ворота люди сказали робкому человеку, что ворота были открыты именно для него. Трудно в старости узнать о том, что ты сдался прежде, чем начался бой, что твоя робость перечеркнула твою жизнь. И это не личная трагедия. Искусство призвано пробуждать в людях гражданское мужество. В. Шкловский не случайно вспоминает хрестоматийный пример из «Хаджи-Мурата» Льва Толстого: писатель сравнивает израненного, побежденного героя с татарником. Шкловский так подытоживает смысл этого сравнения: «Человеческая свобода — закон человеческой природы. Человека можно изрубить, но он встает для нового сопротивления. Он встает, или встает его сын, или его соседи, или соседи его народа».
Для того чтобы искусство могло осветить жизнь своего героя, человека не на своем месте, оно стремится показать некоторый сдвиг, «неуравновешенность ситуации» и тем раскрыть движение и борьбу. Это не только способ видения, но и состояние художника. Художник — тоже человек не на своем месте. Он, как и все человечество, находится в пути, ибо «истина не призрак, а будущее». Ищут своего места в мире не только Дон-Кихот, но и Сервантес, не только Гамлет, принц Датский, но и Шекспир, не только доктор Фауст, но и «олимпиец» Гёте, не только князь Мышкин, но и разночинец Достоевский, не только князь Андрей Болконский, но и граф Лев Николаевич Толстой, не только мальчик Алеша Пешков, но и писатель Максим Горький... И мы вновь возвращаемся к проблеме «художник и время». Искусство не «вольно от жизни», но и не связано с ней однозначно. Оно «вольно» настолько, чтобы сказать о своем времени правду, всю правду и только правду. Но оно подчинено жизни, ибо в ней находит свои проблемы и свои способы разрешения этих проблем.
Виктор Шкловский неоднократно уточняет в этой книге свои прежние формулировки и определения. Новая концепция формируется в столкновениях и спорах со своим прошлым. Интересно, что, вводя в научный обиход работы своих друзей и единомышленников (Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума, Л. Якубинского), Шкловский редко корректирует эти работы. Это как бы подчеркивает динамичность позиции самого Шкловского. Я уже приводил одно из уточнений прежнего термина «остранение». Вот еще одно уточнение, более, как мне кажется, точное: «Остранение часто похоже по своему построению на загадку, то есть прибегает к перестановке признаков предмета. Но у Толстого главная функция остранения — совесть». Критика ранних работ Шкловского была им услышана. Об этом невольно думаешь, читая, например, и новое определение жанра: «Человеческое сознание исследует внешний мир, не восстанавливая каждый раз всю систему поиска... Но жанр — это не только след. (...) Постоянно установленные обычаи — этикеты порядка осмотра мира (...) — называются жанрами...». В этом определении услышаны и учтены не только новые работы Д. Лихачева и М. Бахтина, но и старая книга П. Медведева.
Движение взглядов В. Шкловского особенно заметно в определении целей и задач искусства. В ранних полемических статьях В. Шкловского цели искусства определялись так: «Целью искусства является дать (?) ощущение вещи как видение, а не как узнавание (...) воспринимательный процесс в искусстве самоцелей и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно». И еще об истории искусства: «...произведение искусства воспринимается на фоне и путем ассоциирования с другими произведениями искусства. Форма произведения искусства определяется отношением к другим, до него существовавшим формам. Материал художественного произведения непременно педализирован, т. е. выделен, «выголошен». Не пародия только, но и всякое вообще произведение искусства создается как параллель и противоположение какому-нибудь образцу». Эти обширные цитаты необходимы, так как ранние работы В. Шкловского давно стали библиографической редкостью, а вне контекста мало понятна внутренняя полемика и нарочитая напряженность некоторых положений в новой книге Виктора Шкловского. Есть, конечно, и в этой книге отзвуки старых идей, но не они определяют основной ее тон. Вот одна из внутренне полемических формулировок задач искусства: «Человечество, создавая новые модели искусства, создает их не потому, что сами модели должны обновляться, а потому, что оно борется за расширение своих прав на жизнь, за право исследования и достижения нового счастья». И все-таки следует, быть может, резче подчеркнуть направленность искусства и его обращенность к человеку, к его внутреннему миру. Тетива натянута, чтобы направить стрелу. Искусство не только инструмент познания мира, но и способ перестройки человека, его духовного строя и лада, его души.
Концепция В. Шкловского очень жестка, и он порою нетерпим по отношению к тем, с кем он полемизирует в книге. Спор, научная дискуссия — это не монолог, а диалог, где оппоненты должны слышать друг друга. Надо, говорил Андрей Платонов, «уметь постоянно слышать других, даже когда сам говоришь». Этого «уменья постоянно слышать других» очень не хватает полемическим главам книги. И жаль, встреча, столкновение различных точек зрения могли бы обогатить концепцию В. Шкловского. Этим страдает глава о книге М. Бахтина («Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса») и о романе Томаса Манна («Иосиф и его братья»).
В. Шкловский очень упростил позицию М. Бахтина. Ему показалось, что М. Бахтин слишком уж увлекся физиологическим характером карнавального гротеска. Физиология, по его мнению, подменила социологию, что и привело к утрате политического адреса карнавала. «Человек, — пишет В. Шкловский, — взятый как тело, не имеет истории — история создается человечеством». Это серьезный упрек, и его следует отвести. Но прежде вернемся к возражениям В. Шкловского. Критик считает, что М. Бахтин не учитывает гуманистической устремленности романа Ф. Рабле. «Карнавал, — пишет В. Шкловский, — союзник гуманиста, а не его хозяин». Дело, однако, в том, что М. Бахтин понимает карнавал очень широко: «Карнавал — это вторая жизнь народа, организованная на начале смеха. Это его праздничная жизнь. (...) Человек как бы перерождался для новых, чисто человеческих отношений. Отчуждение временно исчезало. Человек возвращался к себе самому и ощущал себя человеком среди людей». И самый карнавальный «язык» — площадное слово, праздничные и пиршественные образы, гротескный образ тела — нельзя понять вне эстетики гротескного народного реализма. «Материально-телесное начало здесь воспринимается как универсальное и всенародное... (...) Тело и телесная жизнь, повторяем, носят здесь космический и одновременно всенародный характер... (...) Носителем материально-телесного начала является здесь не обособленная биологическая особь и не буржуазный эгоистический индивид, а народ...» В. Шкловский много говорит о различных «конвенциях» искусства, но, когда он встречает в книге М. Бахтина конкретно-исторический анализ карнавального реализма, он пытается его осмыслить в терминах и понятиях другой эпохи и другой «конвенции».
Особо следует оговорить и связь карнавальной культуры с гуманизмом Рабле. Связь эта, конечно, чрезвычайно существенна. И М. Бахтин показывает, как вся эта многовековая народная культура смеха влилась и оплодотворила «большую литературу и высокую идеологию» гуманизма. В период средневековья эта народная культура жила и развивалась вне «официальной сферы высокой идеологии и литературы». Эта внеофициальная культура отличалась «исключительным радикализмом, свободой и беспощадной трезвостью». Но тысячелетняя народная смеховая культура не только «оплодотворила» литературу Ренессанса, но и сама оплодотворилась ею. Смех «сочетался с самой передовой идеологией эпохи, с гуманистическим знанием, с высокой литературной техникой. (...) Средневековый смех (...) его всенародность, радикализм, вольность, трезвость и материалистичность из стадии своего почти стихийного существования перешли в состояние художественной осознанности и целеустремленности». И в то же время именно карнавальные традиции помогли Ф. Рабле преодолеть историческую ограниченность своих современников-гуманистов, ибо всенародный и универсальный смех ослабил утопичность их политических иллюзий и ожиданий. Именно традиции народной смеховой культуры обессмертили роман Рабле.
Серьезные возражения вызывает и другая полемическая глава — «Миф» и «Роман-миф». В. Шкловский не принимает, не принимает и оспаривает роман Томаса Манна «Иосиф и его братья». Главное в упреках критика сводится к тому, что «строение структур замкнуто». Именно поэтому согласен В. Шкловский с мнением Л. Толстого, который приходил в ужас от самой возможности современными беллетристическими средствами передать трогательную наивность и простоту библейской истории Иосифа Прекрасного. Привлекая в союзники Л. Толстого, надо все же иметь в виду исторический контекст. В те годы беллетристические штампы беспокоили не одного Л. Толстого и, главным образом, не в связи с переделкой библейских легенд, а потому, что эти штампы проникали в литературу. Кроме того, можно помыслить, что Томас Манн своим романом опроверг «запрет» Л. Толстого. Но художественные структуры, созданные человечеством, не только сохраняются, но и переосмысляются, пересоздаются. Их «непроницаемость» и «завершенность» не следует преувеличивать.
В. Шкловский старательно подбирает исторические факты, чтобы опровергнуть концепцию времени у Манна. Аргументация эта малоубедительна. Создается впечатление, что критик слишком «спешит». Есть определенный разрыв между прогрессом техническим (если это слово уместно в разговоре о глубокой древности) и прогрессом нравственным, художественным, мировоззренческим, политическим. Время у Манна медленно, ибо он говорит о духовно-нравственном движении. Медленно, виток к витку, рождается человек в человеке. Столь же медленно возникают духовные ценности. Медленно создаются моральные, правовые, художественные, научные, политические завоевания человечества — все то, что можно назвать гарантами человечества. Томас Манн писал свою книгу в те годы, когда в Германии торжествовал фашизм. В эти годы, как никогда, нужно было писать книги о добре, о человеческом в человеке. Книга Т. Манна — это книга гуманиста и книга о гуманизме. Ирония Манна — это ирония человека, знающего историю, знающего, как далеки мы, люди двадцатого века, от наивности и простоты наших предков, знающего, как много еще предстоит людям узнать и пережить. Но в его иронии никогда не гаснет вера в победу человеческого в человеке и в истории. Это ирония человека-писателя, «взломавшего» миф, чтобы еще раз, по-новому рассказать людям древнюю и прекрасную историю. Было бы интересно сравнить роман Т. Манна с романом Апдайка «Кентавр». Это могло бы многое объяснить, но В. Шкловский уклонился от такого сравнения — он просто отверг роман Манна и принял роман Апдайка...
...Книга Виктора Шкловского — не просто новая книга по теории литературы, но и человеческий документ, рассказ о поиске и сомнениях, о поражениях и победах и о новом стремлении вперед. Это — книга одного из старейших советских писателей, душа которого еще молода, несмотря на горечь и осторожность старости.
Вернемся к началу книги. Крым. Ялта. Поздняя весна.
«Кончается старость.
Но не буду сидеть на гальке у моря... Не вынесет из воды благодарный рак или испуганный черт золотые кольца, брошенные опрометчивой молодостью.
Молодость смело, далеко вперед проектирует опоры, потом находит их не там, но находит...
Думаю, пишу, клею, переставляю; умею только то, что умею...»
Л-ра: Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования. – Москва, 1987. – С. 290-301.
Произведения
Критика