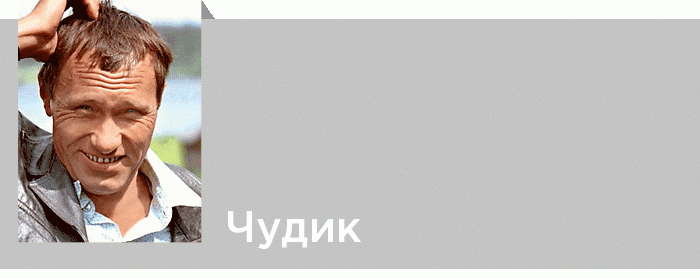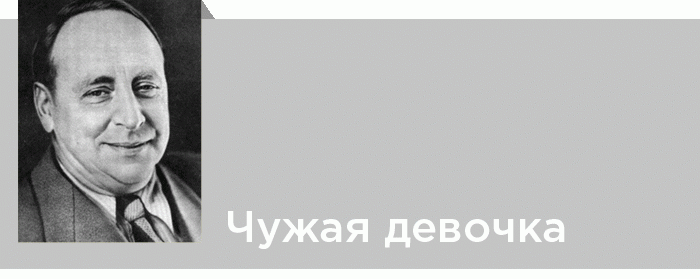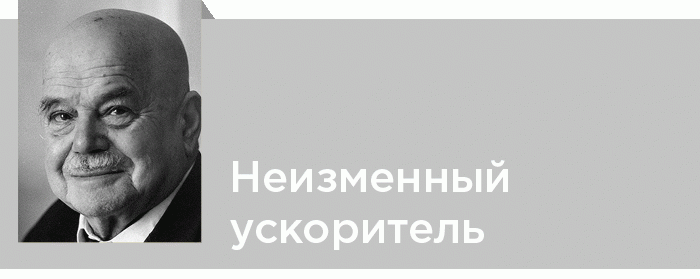Виктор Шкловский. ZOO, или Письма не о любви

(Отрывок)
Человек один идет по льду, вокруг него туман. Ему кажется, что он идет прямо. Ветер разгонит туман: человек видит цель, видит свои следы.
Оказывается — льдина плыла и поворачивалась: след спутан в узел — человек заблудился.
Я хотел честно жить и решать, не уклоняться от трудного, но запутал свой путь. Ошибаясь и плутая, я очутился в эмиграции, в Берлине.
История эта рассказана мною в книге «Сентиментальное путешествие», которая у нас два раза издана; сейчас ее не переиздаю.
Все это было в 1922 году. За границей я тосковал; через год по хлопотам Горького и Маяковского мне удалось вернуться на родину.
Книга, которую вы сейчас прочтете, написана в Берлине, у нас она издается в четвертый раз.
1965
ТРИ ПРЕДИСЛОВИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Книжка эта написана следующим образом.
Первоначально я задумал дать ряд очерков русского Берлина, потом показалось интересным связать эти очерки какой-нибудь общей темой. Взял «Зверинец» («Zoo») — заглавие книги уже родилось, но оно не связало кусков. Пришла мысль сделать из них что-то вроде романа в письмах.
Для романа в письмах необходима мотивировка — почему именно люди должны переписываться. Обычная мотивировка — любовь и разлучники. Я взял эту мотивировку в ее частном случае: письма пишутся любящим человеком к женщине, у которой нет для него времени. Тут мне понадобилась новая деталь: так как основной материал книги не любовный, то я ввел запрещение писать о любви. Получилось то, что я выразил в подзаголовке, — «Письма не о любви».
Тут книжка начала писать себя сама, она потребовала связи материала, то есть любовно-лирической линии и линии описательной. Покорный воле судьбы и материала, я связал эти вещи сравнением: все описания оказались тогда метафорами любви.
Это обычный прием для эротических вещей: в них отрицается ряд реальный и утверждается ряд метафорический.
Сравните с «Заветными сказками».
Берлин, 5 марта 192З года
ВТОРОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К СТАРОЙ КНИГЕ
Мое прошлое — ты было.
Были утренние тротуары берлинских улиц.
Базары, осыпанные белыми лепестками цветущих яблонь.
Ветки яблонь стояли на длинных базарных столах в ведрах.
Позднее, летом, были розы на длинных ветках, — вероятно, это вьющиеся розы.
Орхидеи стояли в цветочном магазине на Унтер-ден-Линден, и я их никогда не покупал. Был беден. Покупал розы — вместо хлеба.
Давно унесли отрезанное от сердца. Мне только жалко того прошлого: прошлого человека.
Я оставил его (прежнего себя) в этой книге, как оставляли в прежних романах на необитаемом острове провинившегося матроса.
Живи виноватый: здесь тепло. Я не могу тебя перевоспитать. Сиди, смотри на закат. Письма, которых не было в первом издании, были действительно написаны тобою, но ты их тогда не послал.
1924. Ленинград
ТРЕТЬЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
Мне семьдесят лет. Душа моя лежит передо мною.
Она уже износилась на сгибах.
Та книга ее согнула тогда. Я ее выпрямил.
Сгибали душу смерти друзей. Война. Споры.
Ошибки. Обиды. Кино. И старость, которая все же пришла. Мне легче, что я не знаю мест, по которым ты ходишь, не знаю твоих новых друзей, старых деревьев около твоей мельницы.
Память разошлась кругами. Круги дошли до каменного берега. Прошлого нет.
К берегу ушли круги, кольца любви.
Не сяду у моря, не буду ждать погоды, не позову свою рыбку с золотыми веснушками.
Не сяду ночью у моря, не буду черпать воду старой коричневой фетровой шляпой.
Не скажу: «Отдай мне, море, кольца».
Уже и ночи я дождался. Убраны с неба непонятные звезды.
Одна Венера, заглавная звезда вечера и утра, вернулась в небо. Верен любви: люблю другую.
Утром, в час, когда уже можно отличить белую нитку от голубой, я говорю слово — Любовь.
Солнце вылилось в небо.
Утру песни не бывает конца, только мы уходим.
Посмотрим по книге, как по воде, на каких перевалах бывало сердце, сколько от прошлого осталось крови и гордости, называемых лиризмом.
1963 год. Москва
Р.S. Аля уже несколько десятилетий французская писательница, прославленная своей прозой и стихами, ей посвященными.
ЭПИГРАФ
ЗВЕРИНЕЦ
О, Сад, Сад!
Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.
Где немцы ходят пить пиво.
А красотки продавать тело.
Где орлы сидят, подобны вечности, оконченной сегодняшним, еще лишенным вечера днем.
Где верблюд знает разгадку Буддизма и затаил ужимку Китая.
Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем.
Где наряды людей баскующие.
А немцы цветут здоровьем.
Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а клюв — осенней рощице, немного осторожен для него самого.
Где синий красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с Павдинского камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков, и все это разнообразно оттенено от неровностей почвы.
Где обезьяны разнообразно сердятся и выказывают концы туловища.
Где слоны, кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы, просят у ребенка поесть, влагая древний смысл в правду: есть, хоууа! поесть бы! и приседают, точно просят милостыню.
Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз, ожидая приказания сторожа.
Где нетопыри висят подобно сердцу современного русского.
Где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозою.
Где низкая птица влачит за собой закат, со всеми углями его пожара.
Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого магометанина и читаем сущность Ислама.
Где мы начинаем думать, что веры — затихающие струи волн, разбег которых — виды.
И что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть бога…
Где полдневный пушечный выстрел заставляет орлов смотреть на небо, ожидая грозы.
Где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий…
Где утки одной породы поднимают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственный молебен утиному — имеет ли оно ноги и клюв — божеству.
Где пепельно-серебряные цесарки имеют вид казанских сирот.
Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и открываю спрятавшегося монгола.
Где волки выражают готовность и преданность.
Где, войдя в душную обитель попугаев, я осыпаем единодушными приветствиями «дюрьрак!».
Где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после прыгает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном, грузном теле показывается с колючей щетиной и гладким лбом голова Ницше.
Где челюсть у белой черноглазой возвышенной ламы и у плоскорогого буйвола движется ровно направо и налево, как жизнь страны с народным представительством и ответственным перед ним правительством — желанный рай столь многих!
Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем затаен Иоанн Грозный.
Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками, глазом имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в искусстве, с которым они похищают брошенную тюленям еду.
Где, вспоминая, что русские величали своих искусных полководцев именем сокола, и вспоминая, что глаз казака и этой птицы один и тот же, мы начинаем знать, кто были учителя русских в военном деле.
Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство. Может быть, видя нас слишком ничтожными, они начинают находить признаком хорошего вкуса издавать ничтожные звуки? Не знаю.
Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в Часослов Слово Полку Игореви.
Велимир Хлебников
Садок Судей 1-й
1909 г.
ПОСВЯЩАЮ
Эльзе Триоле
И ДАЮ КНИГЕ ИМЯ ТРЕТЬЯ ЭЛОИЗА
ПИСЬМО ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
Оно написано всем, всем, всем.
Тема письма: вещи переделывают человека.
Если бы я имел второй костюм, то никогда не знал бы горя.
Придя домой, переодеться, подтянуться — достаточно, чтобы изменить себя.
Женщины пользуются этим несколько раз в день. Что бы вы ни говорили женщине, добивайтесь ответа сейчас же; иначе она примет горячую ванну, переменит платье, и все нужно начинать говорить сначала.
Переодевшись, они даже забывают жесты.
Я очень советую вам добиваться от женщины немедленного ответа.
Иначе вам придется часто стоять растерянным перед новым неожиданным словом.
Синтаксиса в жизни женщины почти нет.
Мужчину же изменяет его ремесло.
Орудие не только продолжает руку человека, но и само продолжается в нем.
Говорят, что слепой локализует чувство осязания на конце своей палки.
К своей обуви я не испытываю особенной привязанности, но все же она продолжение меня, это часть меня.
Ведь уже тросточка меняла гимназиста и была ему запрещена.
Искренней обезьяна на ветке, но ветка тоже влияет на психологию.
Психология же коровы, идущей по скользкому льду, вошла в поговорку.
Больше всего меняет человека машина.
Лев Толстой в «Войне и мире» рассказывает, как робкий и незаметный артиллерист Тушин во время боя оказывается в новом мире, созданном его артиллерией.
«Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха… Напротив, ему становилось все веселее и веселее…
Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятелей, из-за вида вспотевшей, раскрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымков неприятеля на той стороне (после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в лошадь), — из-за вида этих предметов у него в голове установился свои фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту… Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядро».
Пулеметчик и контрабасист — продолжение своих инструментов.
Подземная железная дорога, подъемные краны и автомобили — протезы человечества.
Случилось так, что мне пришлось провести несколько лет среди шоферов.
Шоферы изменяются сообразно количеству сил в моторах, на которых они ездят.
Мотор свыше сорока лошадиных сил уже уничтожает старую мораль.
Быстрота отделяет шофера от человечества.
Включи мотор, дай газ — и ты ушел уже из пространства, а время как будто изменяется только указателем скорости.
Автомобиль может дать на шоссе свыше ста километров в час.
Но к чему такая быстрота?
Она нужна только бегущему или преследующему.
Мотор тянет человека к тому, что справедливо называется преступлением.
К счастью, русский шофер обычно хороший работник.
Он ездит по дорогам, напоминающим волны, чинит машину в степи, когда мороз и бензин леденят руки. Но вместе с тем шофер не рабочий; на машине он одинок.
Его машина опьяняет его, быстрота опьяняет, выносит из жизни.
Не забудем о заслугах автомобиля перед революцией.
Не сразу Волынский полк решился выйти из казарм.
Русские полки бунтовали обычно стоя.
Декабристы были разбиты на месте.
Волынцы оставили казармы, но были в нерешительности. Навстречу выходили другие.
Полки сходились и останавливались.
Но уже били камнями в двери гаражей, и рабочие на захваченных трубящих машинах вылетали в город.
Вы пеной выплеснули революцию в город, о автомобили.
Революция включила скорость и поехала.
Гнулись рессоры, гнулись крылья машин, машины метались по городу, и там, где их было две, казалось, что их было восемь.
Я люблю автомобили.
Тогда раскачалась вся страна. Революция перешла через пенный период и ушла пешком на фронт.
Оружие делает человека храбрее.
Лошадь обращает его в кавалериста.
Вещи делают с человеком то, что он из них делает. Скорость требует цели.
Вещи растут вокруг нас, — их сейчас в десять или в сто раз больше, чем двести лет тому назад.
Человечество владеет ими, отдельный человек — нет.
Нужно личное овладение тайной машин, нужен новый романтизм, чтобы они не выбрасывали людей на поворотах из жизни.
Я сейчас растерян, потому что этот асфальт, натертый шинами автомобилей, эти световые рекламы и женщины, хорошо одетые, — все это изменяет меня. Я здесь не такой, какой был, и кажется, я здесь нехороший.
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Написано оно женщиной к ее сестре в Москву из Берлина.
Сестра ее очень красивая, с сияющими глазами. Дано письмо как вступление.
Слушайте женский спокойный голос.
На новой квартире я ужилась. Подозреваю, что хозяйка у меня из ех-веселящихся, соответственно и характер у нее не злобный и не придирчивый. Разговаривают в моих краях только по-немецки; откуда ни идешь, приходится пробираться под двенадцатью железными мостами. Такое место это, что без особой нужды не заедешь. Знакомые с Унтер-ден-Линден по дороге заходить не будут!
При мне состоят все те же, поста не покидают. Тот, третий, ко мне окончательно пришился. Почитаю его своим самым крупным орденом, хотя влюбчивость его мне известна. Пишет мне каждый день по письму и по два, сам мне их приносит, послушно садится рядом и ждет, пока я их прочту.
Первый все еще посылает цветы, но грустнеет. Второй, которому ты меня неосторожно поручила, продолжает настаивать на том, что любит. Взамен требует, чтобы со всеми своими неприятностями обращалась к нему. Такой хитрый.
Автомобильная такса сейчас умножается в 5000 раз.
Несмотря на покойное житье здесь — тоскую по Лондону. По одиночеству, размеренной жизни, работе с утра до вечера, ванне и танцам с благообразными юношами. Здесь я от этого отвыкла. И слишком много горя кругом, чтобы об этом можно было хоть на минуту забыть.
Пиши скорее про все свои дела. Целую тебя, милую, самую красивую, спасибо еще раз за любовь и ласку.
Аля
3 февраля 1923 г.
ПИСЬМО ВТОРОЕ
О любви, ревности, телефоне и о стадиях любви.
Кончается оно замечанием относительно походки русских.
Дорогая Аля!
Я уже два дня не вижу тебя.
Звоню. Телефон пищит, я слышу, что наступил на кого-то.
Дозваниваюсь, — ты занята днем, вечером.
Еще раз пишу. Я очень люблю тебя.
Ты город, в котором я живу, ты название месяца и дня.
Плыву, соленый и тяжелый от слез, почти не высовываясь из воды.
Кажется, скоро потону, но и там, под водою, куда не звонит телефон и не доходят слухи, где нельзя встретить тебя, я буду тебя любить.
Я люблю тебя, Аля, а ты заставляешь меня висеть на подножке твоей жизни.
У меня стынут руки.
Я не ревнив к людям, я ревнив к твоему времени.
Я не могу не видеть тебя. Ну что мне делать, когда любовь нельзя ничем заменить?
Ты не знаешь веса вещей. Все люди равны перед тобой, как перед господом. Ну что же мне делать?
Я очень люблю тебя.
Сперва меня клонило к тебе, как клонит сон в вагоне голову пассажира на плечо соседа.
Потом я загляделся на тебя.
Знаю твой рот, твои губы.
Я намотал на мысль о тебе всю свою жизнь. Я верю, что ты не чужой человек, — ну, посмотри в мою сторону.
Я напугал тебя своею любовью; когда, вначале, я был еще весел, я больше тебе нравился. Это от России, дорогая. У нас тяжелая походка. Но в России я был крепок, а здесь начал плакать.
4 февраля
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
Алино же второе.
В нем Аля просит не писать ей о любви. Письмо усталое.
Милый, родной. Не пиши мне о любви. Не надо.
Я очень устала. У меня, как ты сам говорил, сбита холка. Нас разъединяет с тобой быт. Я не люблю тебя и не буду любить. Я боюсь твоей любви, ты когда-нибудь оскорбишь меня за то, что сейчас так любишь. Не стони так страшно, ты для меня все же свой. Не пугай меня! Ты меня так хорошо знаешь, а сам делаешь все, чтобы испугать меня, оттолкнуть от себя. Может быть, твоя любовь и большая, но она не радостная.
Ты нужен мне, ты умеешь вызвать меня из себя самой.
Не пиши мне только о своей любви. Не устраивай мне диких сцен по телефону. Не свирепей. Ты умеешь отравлять мне дни. Мне нужна свобода, чтобы никто даже не смел меня спрашивать ни о чем. А ты требуешь от меня всего моего времени. Будь легким, а не то в любви ты сорвешься. А ты с каждым днем все грустней. Тебе нужно ехать в санаторий, мой дорогой.
Пишу в кровати, оттого что вчера танцевала. Сейчас пойду в ванну. Может быть, сегодня увидимся.
Аля
5 февраля
ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
О холоде, предательстве Петра, о Велимире Хлебникове и его гибели.
О надписи на его кресте. Здесь же говорится: о любви Хлебникова,
о жестокости нелюбящих, о гвоздях, о чаше
и о всей человеческой культуре, построенной по пути к любви.
Я не буду писать о любви, я буду писать только о погоде.
Погода сегодня в Берлине хорошая.
Синее небо и солнце выше домов. Солнце смотрит прямо в пансион Марцан, в комнату Айхенвальда.
Я живу в другой стороне квартиры.
На улице хорошо и свежо.
Снега в Берлине в этом году почти не было.
Сегодня 5 февраля… Все не о любви.
Хожу в осеннем пальто, а если бы настал мороз, то пришлось бы называть это пальто зимним.
Не люблю мороза и даже холода.
Из-за холода отрекся апостол Петр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение, слуги спрашивали Петра о Христе, а Петр отрекался.
Пел петух.
Холода в Палестине не сильны. Там, наверное, даже теплее, чем в Берлине.
Если бы та ночь была теплая, Петр остался бы во тьме, петух пел бы зря, как все петухи, а в евангелии не было бы иронии.
Хорошо, что Христос не был распят в России: климат у нас континентальный, морозы с бураном; толпами пришли бы ученики Иисуса на перекрестке к кострам и стали бы в очередь, чтобы отрекаться.
Прости меня, Велимир Хлебников, за то, что я греюсь у огня чужих редакций. За то, что я издаю свою, а не твою книжку. Климат, учитель, у нас континентальный.
Лисицы имеют свои норы, арестанту дают койку, нож ночует в ножнах, ты же не имел куда приклонить свою голову.
В утопии, которую ты написал для журнала «Взял», есть среди прочих фантазий одна — каждый человек имеет право на комнату в любом городе.
Правда, в утопии сказано, что человек должен иметь стеклянную комнату, но думаю, что Велимир согласился бы и на простую.
Умер Хлебников, и какой-то пыльный человек в «Литературных записках» вялым языком сказал что-то о «неудачнике» 1.
На кладбище на могильном кресте написал художник Митурич:
«Велимир Хлебников — Председатель Земного Шара».
Вот и нашлось помещение для странника, не стеклянное, правда.
Вряд ли ты, Велимир, захотел бы воскреснуть, чтобы снова скитаться.
А над другим крестом было написано: «Иисус Христос царь иудейский».
Трудно тебе было ходить по степям и то служить солдатом, то сторожить ночью склады, то, полупленником, в Харькове участвовать в шумном выступлении имажинистов.
Прости нас за себя и за других.
За то, что мы греемся у чужих костров.
Прежде думалось, что Хлебников сам не замечает, как он живет, что рукава его рубашки разорваны до плеч, решетка кровати не покрыта тюфяком, что рукописи, которыми он набивает наволочку, потеряны. Но перед смертью Хлебников вспоминал о своих рукописях.
Умирал он ужасно. От заражения крови.
Кровать его обставили цветами.
Поблизости не было доктора, была только женщина-врач, но женщину он не подпустил к себе.
Вспоминаю о старом.
Дело было в Куоккале уже осенью, когда ночи темны.
Зимой встречал Хлебникова в доме одного архитектора.
Дом богатый, мебель из карельской березы, хозяин белый, с черной бородой и умный. У него — дочки. Сюда ходил Хлебников. Хозяин читал его стихи и понимал. Хлебников похож был на больную птицу, недовольную тем, что на нее смотрят.
Такой птицей сидел он, с опущенными крыльями, в старом сюртуке, и смотрел на дочь хозяина.
Он приносил ей цветы и читал ей свои вещи.
Отрекался от них всех, кроме «Девьего бога».
Спрашивал ее, как писать.
Дело было в Куоккале, осенью.
Хлебников жил там рядом с Кульбиным и Иваном Пуни.
Я приехал туда, разыскал Хлебникова и сказал ему, что девушка вышла замуж за архитектора, помощника отца.
Дело было такое простое.
В такую беду попадают многие. Жизнь прилажена хорошо, как несессер, но мы все не можем найти в нем своего места. Жизнь примеривает нас друг к другу и смеется, когда мы тянемся к тому, кто нас не любит. Все это просто — как почтовые марки.
Волны в заливе были тоже простые.
Они и сейчас такие. Волны были как ребристое оцинкованное железо. На таком железе стирают. Облака были шерстяные. Хлебников мне сказал:
— Вы знаете, что нанесли мне рану?
Знал.
— Скажите, что им нужно? Что нужно женщинам от нас? Чего они хотят? Я сделал бы все. Я записал бы иначе. Может быть, нужна слава?
Море было простое. В дачах спали люди.
Что я мог ответить на это Моление о Чаше?
Пейте, друзья, пейте, великие и малые, горькую чашу любви! Здесь никому ничего не надо. Вход только по контрамаркам. И быть жестоким легко, нужно только не любить. Любовь тоже не понимает ни по-арамейски, ни по-русски. Она как гвозди, которыми пробивают.
Оленю годятся в борьбе его рога, соловей поет не даром, но наши книги нам не пригодятся. Обида неизлечима.
А нам остаются желтые стены домов, освещенные солнцем, наши книги и вся нами по пути к любви построенная человеческая культура.
И завет быть легким.
А если очень больно?
Переведи все в космический масштаб, возьми сердце в зубы, пиши книгу.
Но где та, которая любит меня?
Я вижу ее во сне, и беру за руки, и называю именем Люси, синеглазым капитаном моей жизни, и падаю в обмороке к ее ногам, и выпадаю из сна.
1 (это Горнфельд)
ПИСЬМО ПЯТОЕ,
содержащее описание Ремизова Алексея Михайловича и его способа носить
воду на четвертый этаж бутылками. Здесь же описаны быт и нравы
великого обезьяньего ордена. Сюда же я вставил теоретические замечания
о роли личного элемента как материала в искусстве.
Ты знаешь, у обезьяньего царя Асыки — Алексея Ремизова — опять неприятности: его выселяют из квартиры.
Не дают спокойно пожить человеку, как он хочет. Зимой в 1919 году жил Ремизов в Петербурге, а водопровод в его доме взял да и лопнул.
Всякий человек растерялся бы. Но Ремизов собрал у всех знакомых бутылки, маленькие аптекарские, винные и всякие другие, какие попались. Построил он их ротой в комнате на ковре, потом брал по две и бежал по лестнице вниз за водой. При таком способе воду нужно носить для каждого дня неделю.
Очень неудобно, но — забавно!
Жизнь Ремизова, — он сам ее построил, собственнохвостно, — очень неудобная, но забавная.
Росту он малого, волос имеет густой и одним большим вихром-ежиком. Сутулится, а губы красные-красные. Нос курносый, и все — нарочно.
А паспорт весь исписан обезьяньими знаками. Еще до того, как лопнул водопровод, ушел Ремизов от людей, — он уже заранее знал, что они за птицы, — и пошел к великому обезьяньему народу.
Обезьяний орден придуман Ремизовым по типу русского масонства. Был в нем Блок, сейчас Кузмин состоит музыкантом Великой и вольной обезьяньей палаты, а Гржебин — тот кум обезьяний и в этом ордене состоит в чине и звании зауряд-князя, это на голодное и военное время.
И я принят в этот обезьяний заговор, чин дал себе сам «короткохвостый обезьяненок». Хвост я себе сбрил сам, перед тем как уйти в Красную Армию в Херсоне. Так как ты зауряд-иностранка и твои чемоданы не знают, что владелицу их вскормила сибирячка, румяная Стеша, то нужно сказать тебе еще и то, что обезьяний народ имеет настоящего царя. Заслуженного.
У Ремизова есть жена, очень русская, очень русая, крупная, Серафима Павловна Ремизова-Довгелло; она в Берлине как негр какой-нибудь в Москве времен Алексея Михайловича, царя, такая она белая и русская.
Сам Ремизов тоже Алексей Михаилович. Говорил он мне раз:
— Не могу я больше начать роман: «Иван Иванович сидел за столом».
Так как я тебя уважаю, то вот тебе открытие тайны.
Как корова съедает траву, так съедаются литературные темы, вынашиваются и истираются приемы.
Писатель не может быть землепашцем: он кочевник и со своим стадом и женой переходит на новую траву. Наше обезьянье великое войско живет, как киплинговская кошка на крышах — «сама по себе».
Вы ходите в платьях, и день идет у вас за днем; в убийстве и в любви вы традиционны. Обезьянье войско не ночует там, где обедало, и не пьет утреннего чая там, где спало. Оно всегда без квартиры.
Их дело — создание новых вещей. Ремизов сейчас хочет создать книгу без сюжета, без судьбы человека, положенной в основу композиции. Он пишет то книгу, составленную из кусков, — это «Россия в письменах», это книга из обрывков книг, то книгу, наращенную на письма Розанова.
Нельзя писать книгу по-старому. Это знает Белый, хорошо знал Розанов, знает Горький, когда не думает о синтезах, и знаю я, короткохвостый обезьяненок.
Мы ввели в нашу работу интимное, названное по имени и отчеству из-за той же необходимости нового материала в искусстве. Соломон Каплун в новом рассказе Ремизова, Мария Федоровна Андреева в плаче его над Блоком — необходимость литературной формы.
Обезьянье войско несет свою службу. Ходом коня наискось я пересек твою жизнь, как это было и есть — ты знаешь; но, Алик, ты попадешь в мою книгу, как Исаак на костре, сложенном Авраамом. А знаешь ли, Алик, что лишнее «а» в имя Авраама бог дал ему из великой любви? Лишний звук показался хорошим подарком даже для бога.
Знаешь ли ты это, Алик?
Впрочем, ты не будешь жертвой, это я обменной жертвой, барашком, впутался рогами в кустарник.
Комната Ремизова вся в куколках, в чертиках, а Ремизов сидит и шипит на всех «тише, — хозяйка» и поднимает палец. Он не боится хозяйки — он играет.
Тягостен вольным обезьянам путь по тротуарам, жизнь чужая. Женщины человеческие непонятны. Быт человеческий — страшный, тупой, косный, не гибкий.
Мы быт превращаем в анекдоты.
Строим между миром и собою маленькие собственные мирки-зверинцы.
Мы хотим свободы.
Ремизов живет в жизни методами искусства.
Кончаю писать, мне нужно бежать в кондитерскую за тортом. Сейчас ко мне придет кто-то, потом нужно нести торт, потом еще зайти к кому-то, потом искать денег, продавать книгу, разговаривать с молодыми писателями. Ничего, в обезьяньем хозяйстве все пригодится. Вавилонское столпотворение для нас понятней парламента, обиды нам есть где записывать, розы и морозы у нас ходят в паре, потому что — рифмы.
Я не отдам своего ремесла писателя, своей вольной дороги по крышам за европейский костюм, чищеные сапоги, высокую валюту, даже за Алю.
Произведения
Критика