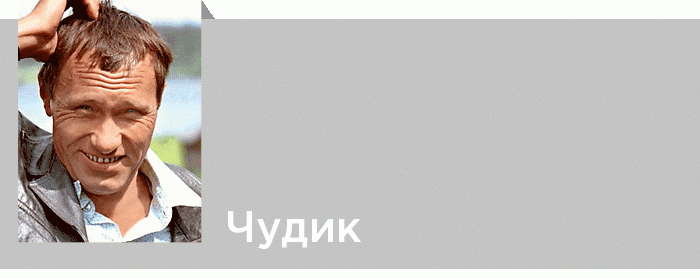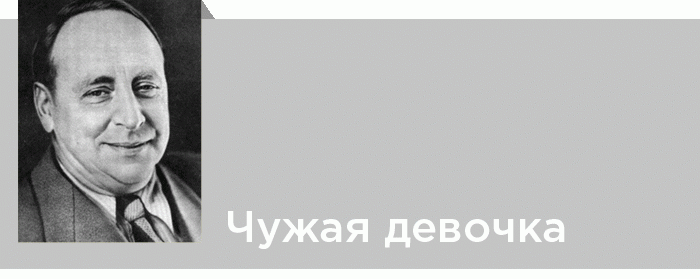Неизменный ускоритель (О Викторе Шкловском)
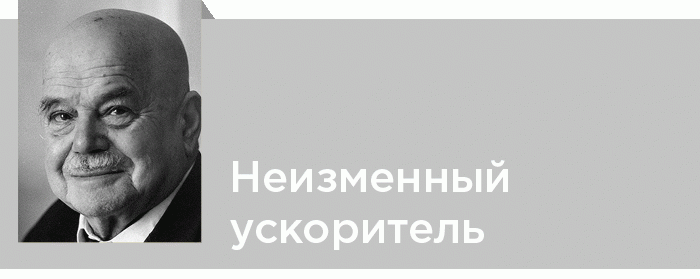
Молдавский Д.
В 1963 году в статье о Викторе Шкловском я писал: «Бывает же такое сочетание слов: «Юбилей Виктора Шкловского»... Несоединимо!
Парадный рокот зала, торжественные улыбки, цветы у президиума и... Нет, не подходит эта юбилейная пышность В. Шкловскому. Гораздо лучше звучал бы заголовок: «Полемическое выступление В. Шкловского», или «Будем спорить со Шкловским!», или «За Виктора Шкловского».
В. Шкловский — человек, разбрасывающий мысли.
Из одних оговорок В. Шкловского были «нашиты» десятки диссертаций.
На одной критике его ошибок вырастали авторитеты. Но жестоко ошибается тот, кто бездумно подберет любую брошенную им мысль, потому что мысль эта может оказаться и основанием новой теории, и просто черновиком раздумья, уже перечеркнутым и забытым самим автором!» («Октябрь», 1963, № 9).
С тех пор прошло четверть века, но и сегодня я готов повторить то, что писал тогда.
Виктор Шкловский был не только критиком, или ученым, или искусствоведом. Он был еще «жизненным ускорителем», заставляющим работать мозг и сердце в убыстренном темпе.
Он обладал редким умением вызывать гнев посредственностей, сторонников «реализма на подножном корму», псевдоакадемических тупиц и ортодоксальных молчалиных. Еще в «Литературной энциклопедии» (т. 7, 1931) о формалистах было сказано лаконично: «Не приемля ни пролетарской революции, ни той культуры, которую она несла с собой, буржуазный формализм отграничивается от нее рамками «чистой науки». На базе этого неприятия и возникает формалистский «аполитизм», то и дело оборачивающийся прямой реакционностью (см., например, «Мой временник» Б. Эйхенбаума) и ярко дающий себя знать в беззаботных насчет методологии писаниях В. Шкловского... Формализм вырастает на характерной для всего буржуазного мышления этой поры идеалистической базе».
Простенько и со вкусом... Не будем переносить критерии нашего времени на много десятилетий назад.
Но критика Виктора Шкловского, обязательное обучение его основам марксизма-ленинизма, необходимые оговорки в оценках сопровождали его всю жизнь. А сам ученый двигался, развивался, шел от открытия к открытию.
Есть две области, которые мне особенно близки у Шкловского: это та часть его работ, которая посвящена современному искусству, Маяковскому и литературе, сопредельной с фольклором. Думаю, именно Шкловскому принадлежит открытие «малой литературы» — той, которая началась лубочными изданиями и дожила чуть ли не до революции, литературы, шедшей где-то третьим или четвертым планом.
Я с уважением перелистываю его самые старые статьи; среди морщин нет-нет, да сверкнут молодые глаза.
Цель этих статей — помочь новаторскому искусству.
«Мы должны понимать, — писал В. Шкловский, — что единство самобытного нравственного отношения к предмету описания для разных эпох разное, как отличается для разных эпох сама нравственность».
Вел ли Шкловский речь о Фильдинге, или Л. Толстом, или Шолохове, он прежде всего осмысливал эпоху и человека в ней — и не просто человека, а гражданина определенной социальной среды. Развитие литературных форм он связывал — и это естественно — с развитием общества, с классовой борьбой (в отличие от некоторых «младокритиков», боящихся даже упоминания о социологических проблемах литературы!).
Книга Шкловского о Маяковском — это книга открытий.
Книги о русской прозе — это книги решений.
А ведь были еще очерки, сценарии, повести.
Людей, которые полюбили Маяковского через шесть лет после его смерти, было довольно много.
При жизни поэта друзей у него было меньше. Виктор Шкловский был одним из самых верных. И остался до конца. Запомнились его строки: «Этот поэт всегда помнил о будущем, летел к нему, как птица домой... Для Маяковского будущее не надежды, а реальность».
Кстати, имя самого Шкловского упоминается в статьях, и в очерках, и в интервью поэта, когда он выступал за рубежом и его спрашивали о советской прозе.
Имя Шкловского Маяковский называл неизменно — то в числе «наиболее талантливых», то как «имеющих значение».
Когда на каком-то обсуждении В. Шкловского обвинили, что он ни больше ни меньше, как выступает против марксизма, Маяковский сказал: «Говорят — он против марксизма. Он против дураков от марксизма, а не против марксизма...»
Разумеется, цитата из классика не постамент, на котором стоит литературный авторитет. Но постамент у Шкловского есть, сработан им самим надолго и прочно. Этот постамент особенный. Его не всякий видит. Ренуар как-то жаловался, что веселую живопись не берут всерьез. Примерно то же с критикой. Если человек пишет хорошо, весело и его можно читать, то нет-нет и услышишь, что это-де поверхностно, легкомысленно, популярно и пр. Если же человек пишет плохо, неинтересно, тяжело, создавая впечатление, будто он занят выкорчевкой пней, о нем, не читая, говорят уважительно. Это же сам Виктор Борисович как-то сказал.
Впрочем, я отвлекся... Вот еще что надо сказать о Шкловском. В течение десятилетий у нас были писатели-перелицовщики: возьмут хорошую книгу, с хорошим сюжетом, перенесут его куда-нибудь в другую среду и другие обстоятельства и «разыграют», посматривая на готовые решения, как на шахматную партию гроссмейстера, напечатанную в газете.
В. Шкловский не занимался «переносами» и «перевозками». Он сам искал свою тему и свой сюжет. И поездил и походил он немало. Карта его странствий и встреч — карта, над которой могут подумать и географы, и критики.
По некоторым маршрутам писателя я тоже прошел, но спустя почти четверть века. Со мной были всякие справочники, исследования и прочие книги. Я смотрел, записывал, зарисовывал, потом приезжал домой и читал Шкловского — все там уже было!
Но была еще дорога, которая неповторима, — она называется путем «по ступеням человеческого века». Советский писатель Виктор Шкловский не раз спотыкался на ступенях, падал, разбивался... Были уши, которые ждали проклятий в адрес эпохи, злобного шепота, хулы... Не дождались!
Жизнь поставила В. Шкловского на вахту новаторства. «Сюжетные коллизии возникают на бытовой основе, но они потому и коллизии, что сама действительность изменяется и нормы ее сменяются». Эти слова относятся не только к полемике с А. Веселовским. Это ключ к пониманию конфликта в литературе, к появлению многих сюжетов в фольклоре и новелле.
Сквозь все работы Шкловского проходит мысль о том, что чтение книги, рассматривание картин — отнюдь не пассивный процесс. Шкловский всегда подчеркивает, что настоящий художник должен быть впереди читателя, помогать его росту, всегда ощущая свои связи с народом, свою ответственность перед ним. О Толстом он пишет: «Общепонятность для Толстого — общечеловечность, но считается общепринятым то, что понятно крестьянину. Крестьянин становится общечеловеком, мерилом всех вещей... Толстого народ понял. Только теперь — сегодня. Но не по народным рассказам — их не читают в народе. Советский народ читает „Войну и мир“, „Анну Каренину", „Хаджи-Мурата"».
Виктору Шкловскому принадлежит много книг. Один перечень их занял бы больше места, чем этот очерк. Он занимался историей айсоров и русского ученого XVIII века Андрея Болотова, он писал о Маяковском и Суворове. В его сочинениях толпы людей, от сказочных царей до директоров кинофабрик. Он, как настоящий хозяин, ходил между гостей, знакомя, представляя их друг другу...
Сейчас хозяина нет.
Имя Виктора Шкловского знаю с самого детства, и книги его собирал с детства. Как-то при разговоре с ним сказал ему об этом, перечислив то, что у меня имеется из его сочинений.
Он сказал, что у меня его книг гораздо больше, чем у него самого, — во всяком случае, упоминание о некоторых он встретил с откровенным удивлением — просто забыл о них!
Горжусь тем, что у меня есть его «Гамбургский счет», который отдала мне знакомая библиотекарша в то самое время, когда надо было эту книжку ставить куда-то «во второй ряд». «Для счета» я отдал взамен роман какого-то страшно известного в начале пятидесятых писателя (забыл кого!).
«Гамбургский счет» стоит у меня на полке вот уже сколько десятилетий, будоража мысль, заставляя восторгаться и браниться!
Об этом я тоже говорил Виктору Борисовичу, когда познакомился с ним... А познакомился я с ним на обсуждении книг о Маяковском в конце января
В основном С. Трегуба ругали (исключением был, пожалуй, Е. Евтушенко, тогда автор одного-единственного поэтического сборника). Заодно бранили еще несколько книг, в том числе и мою — «Маяковский в поэзии народов СССР». Книжка была слабая, хотя и на хорошем материале; была она набита, как матрац соломой, цитатами из кого нужно и не нужно — некоторые нужны были в качестве броневой защиты «лефовцев».
Я это понимал и не очень обижался на критиков, хотя, выступая, задел обидевших меня рецензентов — некоего Г. Кривошеева и критика Г. Петросова.
И когда председательствующий Алексей Сурков сказал: «Слово предоставляется Петросову (Баку), приготовиться такому-то», сидящий рядом с ним А. Софронов сказал: «Приготовиться не такому-то, а Молдавскому», понимая, что выступающий ринется на меня.
И я уже приготовился слушать этого самого критика, как обнаружил, что прямо за мной в следующем ряду сидит не кто иной, как Виктор Борисович Шкловский.
А мне просто необходимо было с ним познакомиться, потому что я задумал писать работу «Маяковский и фольклор» и должен был узнать для начала у кого-нибудь из близких друзей поэта, какие сборники русских сказок знал поэт.
Я осторожно посмотрел на Виктора Шкловского и решил, что поговорю с ним в перерыве. Но тут же испугался, что ему надоест слушать всю эту галиматью и он встанет и уйдет, а я не успею задать ему вопросы, которые меня так волнуют.
И я стремительно, вырвав из тетради сидящей рядом Нины Губко листок, написал свои вопросы, повернулся к Виктору Борисовичу и передал ему записку: «Знал ли Маяковский «Поэтические воззрения славян на природу» Афанасьева? Знал ли он «Сказки» и «Легенды»? Знал ли сборник частушек Елеонской? Когда узнал о Потебне? Знал ли труды Веселовского и Ольденбурга?»
Виктор Борисович нисколько не удивился, он, разумеется, и не знал, что академическую переписку с ним затеял тот самый человек, книгу которого в данный момент ругают с трибуны, находящейся от него на расстоянии трех или четырех метров, и быстро написал, что Маяковский знал и «Поэтические воззрения», и «Русские народные сказки», и «Легенды».
И еще знал «Заветные сказки».
На вопрос об Елеонской написал: «Не знаю».
На вопрос о Потебне ответил: «1915». Написал еще «Ольденбурга не знал» и вернул мне бумагу.
Потом взял ее снова и добавил: «Хорошо знал Библию».
Это была первая встреча с Виктором Борисовичем.
О Викторе Шкловском я писал во многих статьях, а в 1960 году в газете «Литература и жизнь» (15 июля) написал статью об его книге «Художественная проза».
«В сказках бывает так, — писал я, — тень отделяется от человека и начинает жить самостоятельно... Так хлесткая и опасная фраза из очерка под названием «Улля, улля, марсиане!» — «искусство всегда было вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражался цвет флага над крепостью города» — была использована врагами.
Но человек побеждает тень.
И в новых книгах В. Шкловский решительно и остроумно ответил эпигонам своих старых ошибок: «Я должен принести извинения перед профессорами многих западных университетов в том, что я им подсказал неверную трактовку произведений, и одновременно принести им благодарность за то, что они, повторяя мою мысль через тридцать пять лет, на меня не ссылаются, охраняя тем от срама имя старика».
В этой книге Виктор Шкловский иронизировал по поводу людей, которые на Западе упрекают его в измене самому себе, требуя, чтобы он не менял своих позиций, но «недвижен только скелет в могиле», а художник должен меняться, «потому что не устал расти вместе со временем».
«Новое понимание действительности рождалось в эпоху новой революционной ситуации». Эта мысль проходит через книгу «Художественная проза» и через многие его работы, в первую очередь те, где автор последовательно рассматривает значительнейшие произведения литературы и фольклора — от народных сказок и лубочных романов, от рассказа о появлении «Дон-Кихота» до произведений Толстого, Чехова, Горького, Шолохова.
В. Шкловский не ставил своей задачей показать рождение романа как жанра, но целый ряд черт этого сложного процесса он безусловно наметил.
Чрезвычайно интересны были у Шкловского рассуждения о Стерне и Диккенсе. По-новому звучали страницы о «Хаджи-Мурате». И как современный этап развития романа рассматривался «Тихий Дон» М. Шолохова.
Умение увидеть единство детали и целого, включающего эту деталь,— драгоценное свойство исследователя.
В. Шкловский владел им в совершенстве. И не только владел — он умел взять читателя за руку и провести по всем крутым поворотам своей мысли.
Помню, какое впечатление произвела на меня книга В. Шкловского «Жили-были»; самые разнообразные ее материалы были объединены мыслью, которую можно сформулировать примерно так: есть только один путь новаторства, подлинного и человечного, — путь революции.
Когда-то Шкловский сказал мне: «Есть люди, которые всю жизнь пишут об одном и пишут плохо, а есть те, кто о многом, и — хорошо».
Сам он писал о многом и писал блестяще!
В книге «Жили-были» — множество героев. Человеку другого поколения, мне почти никого из них не удалось даже просто увидеть. Но Ю. Тынянова я слышал. Это было перед войной. Он выступал в Ленинградском Доме писателя имени Маяковского на вечере М.М. Зощенко. Был болен и говорил сидя. Не помню всей речи, но несколько слов запомнил: «Есть понятие «популярный». В переводе оно означает «народный»... Этого нельзя забывать».
Кое-кто считает искусство писать популярно чем-то примитивным, несерьезным.
Работы В. Шкловского — это сплав знаний, пропущенных через горячее сердце современника. И они написаны популярно.
Биография его, рассказанная им самим и, может быть, иногда «досочиненная», — как пририсовывают на схемах геологических обнажений человеческую фигуру для масштаба, — «сквозным действием» проходит через всю книгу «Жили-были», через «Детство» и «Юность», через «Zоо, или, Письма не о любви», «О Маяковском», через «Встречи».
Как был отвратителен ему снобизм недоучек!
Размышления писателя о РАППе, о ЛЕФе, о литературной борьбе вокруг Маяковского заставляют задуматься — прошлое иногда пытается притвориться настоящим, и горе тому, кто поверит в этот маскарад.
В книге «Жили-были» — множество образов и зарисовок.
Только подлинный художник может так закончить рассказ о человеке с трагической судьбой:
«Мы шли вдвоем по зеленой мягкой траве, перед нами синела неширокая река, она была, как линия, проведенная синим карандашом на бухгалтерской книге, для того, чтобы написать под этой чертой слово ,,итог“».
Его ассоциации — и это камень преткновения для пародистов — не только поэтичны, но и научны. Его творчество ассоциируется со стихами Маяковского и советским кино двадцатых годов... Впрочем, почему же только ассоциируется? Он был соратником и великого поэта, и Эйзенштейна, и Пудовкина, и Довженко.
Книга «Жили-были» — не просто страницы жизни Виктора Шкловского, это страницы биографии нашего искусства.
Несколько раз слышал его отзывы по поводу той или иной моей статьи. Один раз по поводу статьи в «Литературной газете» о киноэкранизациях, где я издевался над дурной интерпретацией Ф.М. Достоевского (писал о том, что из классика делают «мини-великого инквизитора»), что он чрезвычайно одобрил, потом по поводу моей статьи об Андрее Вознесенском и др.
Он мне прислал свою книгу «Тетива» (М., 1970) с надписью: «Дмитрию Мироновичу Молдавскому от Виктора Шкловского. Я много раз Вас прочел и с благодарностью и интересом.
В. Шкловский.
2 сентября 1970».
Я был очень-очень польщен этой надписью, но к чему она относится, так и не вспомнил,— думаю, что к книгам о фольклоре.
Л-ра: Молдавский Д. Снег и время. – Л., 1989. – С. 153-165.
Произведения
Критика