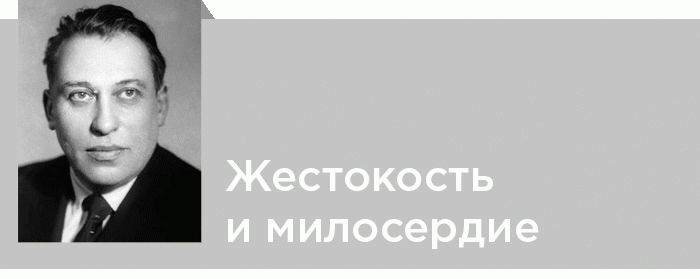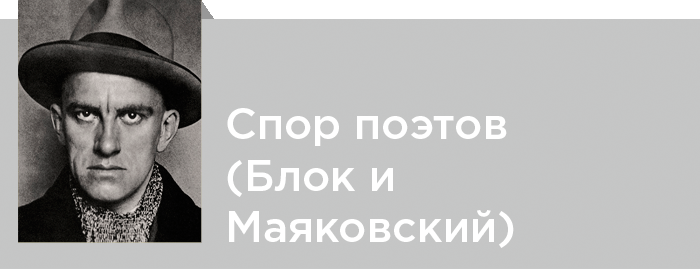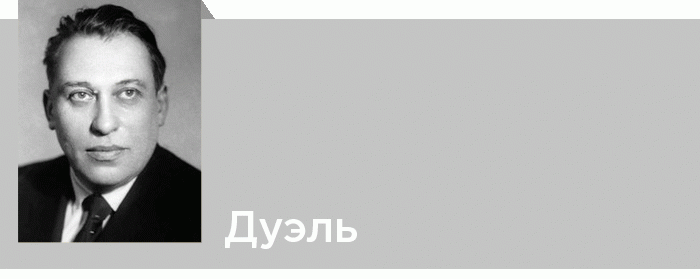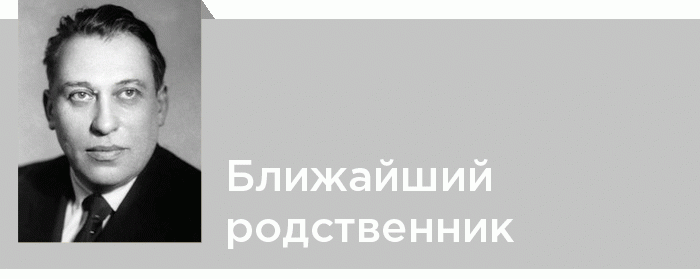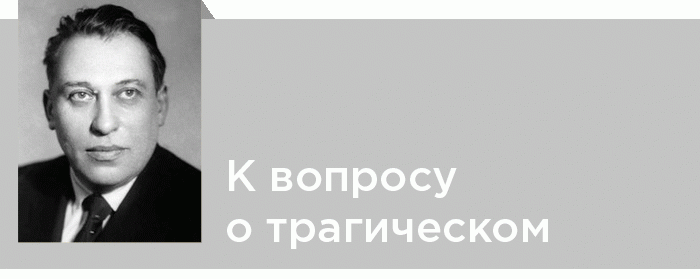Павел Нилин. Завтра

Петух не поет, а кричит на рассвете — голосисто, задорно и весело, будто радуясь, что немцы не успели сожрать его.
Всю деревню спалили, а петух остался.
Под глубоким снегом, в предутренней темноте, хлопотливо журчит ручей, пахнет прелым прошлогодним листом, землей, дегтем.
Но когда из-за леса поднимается солнце, вместе с ним возникают, как страшные видения, одинокие черные столбы печей, обугленные остовы каменных фундаментов, обрушившиеся и ставшие дыбом железные крыши.
И даже лес, поредевший, исстриженный артиллерией, напоминающий, что здесь совсем недавно ураганом прошла война.
Она сровняла с землей добротные русские колхозные избы, изранила, искромсала, обожгла эту землю.
И петух кричит из-под земли, из прикрытой обгоревшим железным листом землянки, где живет теперь его хозяйка — старуха Зотова Катерина Степановна.
Она потеряла мужа, двух сыновей, невестку и внучка, замученных немцами, и по случайности сберегла только петуха, укрываясь с ним в лесу, согревая его теплом своего старушечьего сердца.
Петух — последний живой свидетель ее былого семейного благополучия.
— И с чего он поет, окаянный? — ласково и, пожалуй, почтительно говорит она про него. — Пищи я ему никакой не даю, ведь ничего нету, а он поет и поет. Природа у него, что ли, такая крепкая, веселая?
У петуха, наверно, в самом деле природа такая. Но поет он еще и потому, что подходит весна и он чует ее приближение в темном своем подземелье, в узком логове, похожем на могилу.
Весна приходит в свои естественные сроки и на эти обожженные земли, на эти места, которые теперь мы называем Западным фронтом.
Вот здесь, на желтом немецком столбике при дороге, как будто совсем недавно еще была давно прибитая немцами табличка: «Nach Moskau» — «На Москву».
Красноармеец из наступавшей части гневно сорвал ее, бросил в снег. Потом, подумав, снова поднял ее, снова, но обратной стороной, прибил к желтому немецкому столбику и, не сильно грамотный, хмуря брови от напряжения, старательно, большими буквами написал: «На Берлин».
Наша армия пошла дальше.
Но не все немцы, ставившие эти столбики на израненной ими земле, ушли отсюда. Далеко не все. Из-под глубокого снега и сейчас еще высовываются их ноги, и руки, и заржавевшие каски.
У обочин валяются опрокинутые, разрушенные бомбой и заметенные последней предвесенней вьюгой немецкие пушки, сгоревшие танки с порыжевшим знаком свастики, изрешеченные пулями кузова автомобилей. И вдоль широкого шоссе, за кюветами, тянутся длинной шеренгой бесчисленные немецкие кресты, срубленные из наших юных, нежных березок.
Но в России еще много берез, и сосен много, и елей.
Ранним утром заморенная лошаденка, которая вместе с хозяевами своими долго скрывалась от немцев в лесу, тащит из леса в деревню, в колхоз, напрягая все силы, три огромных сосновых, остро пахнущих весной бревна.
Не вытянуть бы их ей одной, если б в оглобли не вцепились женщины, дети.
Всей деревней, всем колхозом помогая коню, они тащат из леса эти три огромных бревна.
И притянут еще десять, сорок, тысячу, две, три, сколько надо, чтобы восстановить деревню.
Плотник Злобин Антип Захарович, крепкий, сильный, жилистый старик, скинув полушубок и поплевывая со страстью в ладони, берет топор и с хрустом, ловко обтесывает бревна.
Немцы сожгли его избу, расстреляли у оврага его единственного сына и его самого повели было на расстрел.
Но в самый последний момент из трех солдат, которые вели его на тот свет, двух потребовало к себе зачем-то начальство, а одного немца за околицей окружили бабы и слезно просили отпустить старика. Ведь это плотник-то какой знаменитый, его и в Москве даже знают!
— Не губи его, ваше благородие! — умоляли солдата бабы. — Он никому никакого вреда не сделал, не губи его, пожалуйста. Побойся греха. А то мы тебя растерзаем...
Но немец не внял их просьбам, пугал их своим автоматом и сердито кричал им, как собакам, какое-то собачье слово: «Цурюк!»
Тогда озорная крупная баба Степанида Любина бросилась на немца сзади, свалила его в снег, и с немцем сделали то, что и обещали.
А Антип Захарович Злобин, человек действительно добрый, несмотря на свою фамилию, незлобивый, низко поклонился бабам за спасение своей души, поднял немецкий автомат и ушел в лес, к партизанам.
Теперь он обтесывает бревна, из которых будут строиться новые колхозные избы, и на теплом предвесеннем солнце поблескивает его топор, и летят пахучие щепки.
Около него, невдалеке, на развалинах колхозной школы, поместил горн кузнец Барыка Михаиле Осипович.
Хромой после немецкой пули, он работает, кует болты для плуга, а у наковальни стоят его костыли. Но он, должно быть, забыл про них, охваченный азартом труда, по которому давно истосковались душа и руки, тяжелые, цепкие руки кузнеца.
Огонь озорно и яростно ворчит в горне. Осиротевший мальчонка лет семи, Сережа Пехов, старательно раздувает мехи, гордый порученной ему важной и ответственной работой.
Много надо железа, чтобы привести в порядок разрушенное хозяйство. И железо надо найти самим.
У горна лежат остов фашистской пушки, половина танка и тяжелая блестящая деталь бомбардировщика «Юнкерс-88».
Все это, с особого разрешения, приволокли сюда на себе колхозные ребята-школьники. Все это кузнец перекует, починит плуги и сеялки, наделает лопат и вил и подкует единственную уцелевшую в колхозе кобылу Люсю.
Весна все стремительнее наступает на эти места. Солнце торопливо растапливает снег, гонит по канавам голубую воду и торопит кузнеца, и плотника, и другой колхозный народ.
Из Москвы в воскресенье приехали шефы-женщины — домашние хозяйки и работницы. Они привезли с собой подарки, собранные от разных неизвестных, пожелавших остаться неизвестными, людей.
Из землянки вылезла худенькая, с навеки испуганными глазами девочка Нюра Петушкова. У нее теперь нет ни матери, ни отца, ни старшей сестры. Их угнали немцы куда-то далеко, в завоеванный ими и еще не отбитый нами Минск, что ли, и Нюра живет в землянке со старушкой Бубиковой, которой поручено пока наблюдать за нею.
Шефы привезли ребятам ботинки, и калоши, и штаны с рубашками.
Нюре достался пестренький ношеный пиджачок, он пришелся ей в самую пору. Она надела его, прошлась в нем вокруг землянки, и впалые, страдальческие щечки ее порозовели от счастья.
— Может, я девочку-то у вас заберу, — говорит добродушная, закутанная в мохнатый платок домохозяйка из Москвы. — У меня их трое, все мальчики. Ну, пусть четвертая будет девочка. Как-нибудь перебьемся. Муж у меня печник, человек хороший, очень даже сознательный.
— Нет, — твердо ответила старуха Бубикова. — Председатель у нас будет против этого несогласный. Девочка — она тут нужная. Она хорошая, вострая девочка. Она только сейчас немножко заморенная, а потом она поправится. Вы что ж думаете, мы вечно вот этак жить будем? Мы поправимся, встанем на ноги. А как же, дорогая!
— Ну что ж, — сказала, чуть обидевшись, домохозяйка из Москвы, — как хотите. А я думала, девочке будет лучше у меня. У нас все-таки квартира с газом, с электричеством!
Старуха Бубикова подозвала девочку.
— Желаешь, Нюрушка, с электричеством жить вот у этой тети?
— Нет, — решительно сказала Нюра. И, должно быть боясь обидеть приезжую тетю, сейчас же прижалась к ней, поиграла концами ее пухового платка и добавила: — Я никуда не хочу уходить. Я тут хочу. Я за грибами тут в лес ходить буду. Приезжайте, тетенька, к нам. У нас лес красивый...
— У вас в лесу покойники, — улыбнувшись, сказала москвичка. — Глядите, полный лес покойников немецких...
— А их не будет потом, — твердо сказала девочка. — Покойников ведь потом закопают. И одни живые будут ходить.
Большое, тяжелое, страшное горе, постигшее взрослых, постигло и маленькую, худенькую Нюру. Но как взрослые, занятые починкой разрушенного, из гордости не плачутся и неохотно вспоминают о том, что случилось с ними, так и девочка охотнее думает о завтрашнем дне.
Завтра еще будут бои, грандиозные и ожесточенные, прольется кровь, сгорят еще новые дома, осиротеют еще многие дети. Но завтра будет наша победа, обязательно будет, во что бы то ни стало.
В это верует всей силой сердец своих весь народ наш.
И весь народ работает на войну, на победу, на завтра, которое встает и встанет из этих еще теплых пепелищ.
В полдень мы выезжаем из этой деревни на шоссе.
Автомобиль опять продвигается мимо длинной шеренги могил, мимо березовых крестов, мимо оброненных в отступлении немецких касок, мимо брошенных при поспешном бегстве немецких автомобилей, танков, мотоциклеток.
Враг прошел здесь совсем недавно — может быть, всего неделю или несколько дней назад.
В двух километрах от деревни нас останавливает заградительный отряд. Проверка документов. Дальше ехать нельзя.
Автомобиль уводят в укрытие, мы идем пешком.
Вдалеке, метрах в четырехстах от нас, по широкой, уже источенной солнцем снежной целине, ползут вперед в белых маскировочных халатах красноармейцы.
— Наверно, они учатся, — вслух думает шофер.
Да, может быть, учатся. И мы, остановившись, смотрим на них.
Но странное дело — почему на ученье стреляют с той стороны, почему пули свистят совсем близко и трепещут кусты при шоссе?
— Головы! — тревожно кричит нам кто-то невидимый из кювета.
Мы наклоняем головы, потом ложимся.
Нет, красноармейцы не учатся. Они ведут бой. На целине столкнулись русские разведчики с немецкими.
Впереди, всего в полутора километрах отсюда, находится передний край нашей обороны.
Война совсем недалеко ушла от выгоревшей деревни Алексеевки.
Вот уже хорошо слышны клекот, и кваканье, и визг, и грохот мин. И на снегу впереди вспыхивает красный огонь.
Но в памяти все еще стоит уцелевший от немца исхудавший пестрый петух, который, несмотря ни на что, изо всех сил поет о наступающей суровой и нежной русской весне. И в лукошко сыплется золотистое зерно, которым скоро — вот как сойдет снег и уберут мертвых немцев — крестьяне засеют обожженную землю, как засевали в прошлом году, и в позапрошлом, и, может быть, тысячу лет назад...
Западный фронт, апрель 1942 г.
Произведения
Критика