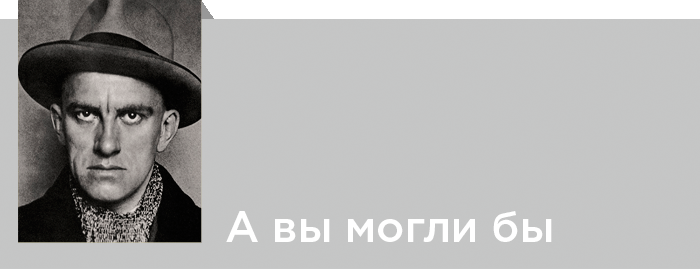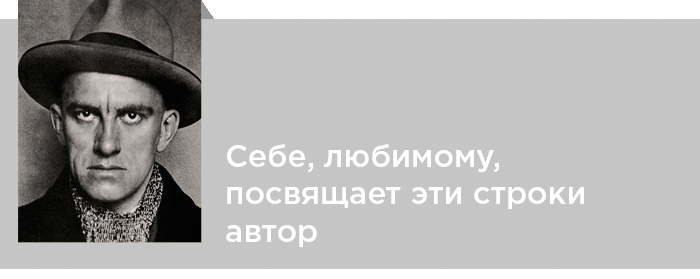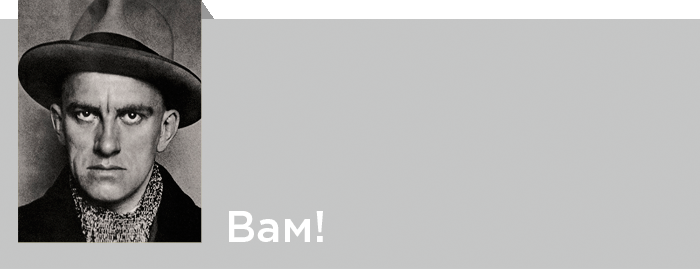Спор поэтов (Блок и Маяковский)
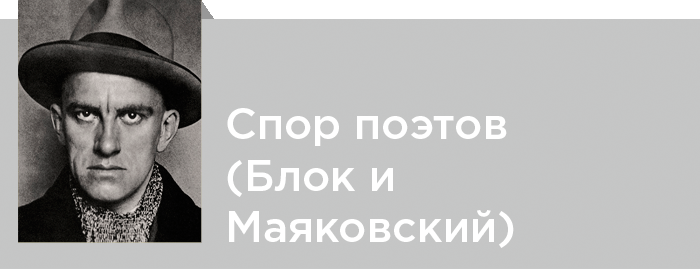
И,С,Правдина
В ноябре 1917 г., через несколько дней после свержения Временного правительства, ВЦИК созвал в Смольном совещание представителей литературно-художественной интеллигенции, чтобы обсудить вопрос об участии в культурном строительстве. На призыв Советского правительства откликнулись всего несколько человек. Среди них были Александр Блок и Владимир Маяковский.
На вопрос анкеты: «Может ли интеллигенция работать с большевиками?»,—Блок ответил в январе 1918 г.: «Может и обязана» (VIII, 236) 1.
В протоколе собрания уполномоченных Союза деятелей искусств, которое происходило в ноябре 1917 г., зафиксировано следующее высказывание Маяковского: «Нужно приветствовать новую власть и войти с ней в контакт» (12, 215) 2.
1 Ссылки даются по Собранию сочинений А. Блока (Изд-во писателей в Ленинграде, 1932—1937 гг.), римской цифрой обозначен том, арабской — страница.
2 Ссылки даются по Полному собранию сочинений В. Маяковского в тринадцати томах (М., Гослитиздат, 1955—1961 гг.), первой арабской цифрой обозначен том, второй — страница.
Блок и Маяковский закономерно оказались по одну сторону баррикад. Революция! была для них осуществлением давней мечты о разрушении мира капитализма. Черты небывалого в истории переворота впервые были воплощены в «Двенадцати» и «Скифах», в «Оде революции» и «Левом марше».
Блок и Маяковский принадлежат к разным поэтическим поколениям (хотя Блок был всего на тринадцать лет старше Маяковского, а Маяковский умер только на девять лет позже Блока). Стихи Блока впервые были опубликованы в 1903 г., стихи Маяковского — в 1912; Блок достиг творческой зрелости в период реакции, наступившей после революции 1905 года, Маяковский только делал первые поэтические шаги в годы нового революционного подъема. Их разделило не просто десятилетие, а историческая эпоха жизни России.
Дело не только в хронологической разнице. Блок и Маяковский принесли с собой в искусство разный жизненный опыт, их окружала различная среда,— они оказались «на разных берегах истории», по образному выражению П. Антокольского 3. Блок и Маяковский вместе открыли первую страницу советской поэзии. Маяковский пошел дальше по пути, которым Блок идти уже не мог, но который он наметил своим послеоктябрьским творчеством. Их отношения — сложные отношения двух поэтических эпох, одна из которых пришла на смену другой; полемика сочетается здесь с определенной творческой близостью, «отталкивание» — с моментами влияния и преемственности.
Узел этих сложных взаимоотношений завязывался с первых же шагов Маяковского в искусстве. Безусловно, в ту пору Блок был его любимым поэтом. Первое издание трехтомника Блока (1911—1912) совпало с началом поэтической работы Маяковского. Он читал стихи Блока наизусть, часто разговаривал строками из блоковских стихов; они постоянно сопутствовали ему, входили в его жизнь 4. Характерно, что в многочисленных полемических выпадах против символистов, которые встречаются в большинстве ранних статей Маяковского, имя Блока — крупнейшего поэта, связанного с символизмом,— не упоминается. Это его особое отношение к Блоку засвидетельствовано в надписи на подаренном Блоку первом издании поэмы «Облако в штанах»: «А. Блоку В. Маяковский — расписка всегдашней любви к его слову» 5.
Блок, отрицательно относившийся к футуризму, сразу выделил Маяковского из среды его литературных спутников. Позднее в известной статье «Без божества, без вдохновенья» (1921), вспоминая о первых выступлениях футуристов, он писал, что наиболее чуткие слушатели откликнулись «на голос автора нескольких грубых и сильных стихотворений, независимо от битья графинов о головы публики, от желтой кофты, ругани и «футуризма44» (X, 205). За «гримасами» футуризма Блок сумел разглядеть подлинную сущность Маяковского. К июню 1915 г. относится следующая запись Блока: «Звонил Маяковский. Он жаловался на московских поэтов и говорил, что очень уж много страшного написал про войну, надо бы проверить, говорят, там не так страшно. Все это — с обычной ужимкой, но за ней — кажется подлинное (тоже как мне до сих пор казалось)» 6.
3 П. Антокольский. Поэты и время. Глава «Александр Блок». М., изд-во «Советский писатель», 1957, стр. 51.
4 См. воспоминания: Д. Б у р л ю к. Три главы из книги «Маяковский и его современники».— Сб. «Красная стрела», 1932; Л. Брик. Маяковский и чужие стихи.— «Знамя», 1940, № 3; К. Чуковский. Современники (гл. «Маяковский»). М., изд-во «Молодая гвардия», 1962.
5 См. ст.: В. Орлов. Из библиотеки А. А. Блока.— Сб. «Владимир Маяковский» М.— Л., Изд-во АН СССР, 1940, стр. 328.
6 «Записные книжки Ал. Блока». Л., изд-во «Прибой», 1930, стр. 181.
«Подлинное» для Блока— демократизм Маяковского. Это определение было дано им еще в 1913 г., после того, как он увидел трагедию «Владимир Маяковский». Именно это свойство Маяковского заставило Блока выделить его из среды футуристов и сделало поэтом, наиболее интересным Блоку. «Владимиру Маяковскому, о котором я много думаю»,— написал Блок на книге, подаренной Маяковскому 8.
В той литературной среде, в которой жил Блок, к Маяковскому относились совсем иначе, и Блоку приходилось «возражать многим и многим, отстаивая за Маяковским право громадного таланта» 9.
Это взаимное тяготение поэтов, принадлежавших к разным и враждующим литературным течениям, к разным поколениям, живущих в разной среде,— свидетельство их внутренней близости, общности некоторых важнейших сторон в их восприятии мира. Протест Блока и Маяковского против капитализма, уродующего и калечащего человеческую душу, был проникнут глубочайшим гуманизмом. Трагедия человека, рожденного для счастья, для «добра и света» и задыхающегося и гибнущего в «страшном мире», составляет существо и лирики Блока периода его творческой зрелости и дореволюционной лирики Маяковского.
Одному из лучших своих циклов — «Ямбы» — Блок предпослал изречение Ювенала: «Негодование рождает стих». Негодование и протест Блока, постоянное ожидание «великой грозы», которая должна все смести «в твоей отчизне» (III, 69) и обновить жизнь,— все это также было близко молодому Маяковскому.
7 См. воспоминания: В. Гиппиус. Встречи с Блоком.— «Ленинград», 1941, № 3.
8 В. Катанян. Маяковский. Литературная хроника. М., Гослитиздат, 1961, стр. 439.
9 В. А. Зоргенфрей. Александр Александрович Блок.— «Записки мечтателей». Пг., 1922, № 6
Мир поэзии Блока, лишенный «красивых уютов», покоя и благополучия, был проникнут уверенностью в неизбежности «невиданных перемен», страстной неудовлетворенностью, тревогой, борьбой. Именно это было особенно привлекательным для Маяковского. Он очень любил и часто повторял строки Блока, в которых поэт противопоставил мятежную душу и вечную неудовлетворенность человека-творца тупому довольству мещанина.
Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!
(III, 96)
Маяковский, ненавидящий в искусстве «выявление крошечных переживаний уходящих от жизни людей» (1, 275), нашел в поэзии Блока родственную силу, размах чувств, постоянное горение души поэта, назвавшего жизнь «вечным боем» и отрицавшего покой: «не может сердце жить покоем» (111,186).
Маяковскому был близок максимализм Блока, составляющий основу его мироощущения, проявляющийся и в бескомпромиссном отрицании «страшного мира» («ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь») 10, и в страстном стремлении к обновлению жизни. Сама «безмерность» требований Блока была органична для Маяковского.
«Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать нежданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет, и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она — прекрасна» (VIII, 49). Эти слова Блока — одна из лучших характеристик тех присущих ему и Маяковскому особенностей восприятия мира, которые связываются с романтическим направлением в искусстве.
«Романтизм... есть жадное стремление жить удесятеренной жизнью; стремление создать такую жизнь» (XII, 200),— по свидетельству Блока. Это не столько воспроизведение жизни, сколько сопоставление ее основных ведущих тенденций с теми требованиями, которые предъявляет к ней художник, сопоставление, выраженное в предельно эмоциональной форме.
Основной конфликт поэзии Блока и Маяковского — конфликт человека и капиталистического мира — выступает в обобщенном противопоставлении человека «страшному миру»; душевные переживания героя необычны по своей силе, они всеобъемлющи; отсюда — повышенная эмоциональность поэтического языка, тяготение к резкой контрастности изображения, элементы фантастики.
10 «Письма Александра Блока к родным». Л., изд. «Асаdemiа», 1927, стр. 267.
За этими общими чертами, присущими Блоку и Маяковскому как писателям-романтикам, встают характерные черты художественного метода каждого. В трактовке основных проблем у Блока (речь идет о зрелом творчестве поэта) и Маяковского наметились особенности, обусловившие и различие их поэтических принципов. Это сказывается: прежде всего в самом образе их лирического героя.
Если в стихах и поэмах Маяковского прекрасный, здоровый и цельный, хотя и глубоко страдающий человек противостоит бесчеловечному укладу жизни, то в творчестве Блока конфликт в большей мере проникает в самую душу человека, она становится как бы ареной борьбы.
Лирический герой Маяковского страдает от того, что он лишен возможности применить свои богатые душевные силы в этом мире купли-продажи. Герой Блока, «скитаясь в страшном мире», трагически переживает «утрату части души» 11 и всеми силами борется за сохранение человечности, за сохранение чистоты, гордости и свежести чувства.
Скорбным признаниям Блока о «потере души», о «смерти души своей печальной» (стихотворение «Жизнь моего приятеля») противостоит радостное утверждение Маяковского:
Сегодня ликую!
Не разбрызгав,
душу
сумел,
сумел донесть.
(и 212)
Герой Маяковского — с самого начала «человек весь», живущий с людьми и для людей, и именно его «земная» сущность, его демократизм является источником его внутренней цельности.
Герой Маяковского более активно противостоит миру «жирных»; там, где Блок говорит — «Нет!», Маяковский восклицает — «Долой!». Романтический контраст героя и «жирных» у Маяковского значительно сильнее. Он подчеркнут фантастическими гиперболами. Лучшие свойства человека, сконцентрированные в герое лирики Маяковского, благодаря гиперболе выступают предельно заостренными; это — человечность в ее высшем проявлении.
Блок реже прибегает к гиперболам, они у него более умеренные: человеческие качества его героя не могут проявиться с такой необычайной силой, он внутренне противоречив, он часто окружен двойниками.
Конечно, герой Блока необычен. Это бродяга «прекрасный нищей красотою зыбучих дюн и северных морей» (II, 222), или «угрюмый скиталец» с «пожирающей думой» на лице (///, 150), «обожженный языками преисподнего огня» (III, 62). 11
11 См. письмо Блока к Белому от 6 июня 1911 г. в кн.: ««Александр Блок и Андрей Белый. Переписка». М., Изд-во Гос. литмузея, 1940, стр. 201.
Блок может сказать:
... Такой любви и ненависти люди не выносят, какую я в себе ношу,
(II, 213)
— но он не прибегнет к сравнениям-гиперболам, подобным тем, какими пользуется Маяковский: «если б был я маленький, как Великий океан...», «о, если б я нищ был! Как миллиардер!», «если б быть мне косноязычным, как Дант или Петрарка!», «о, если б был я тусклый, как солнце!», и т. п. (2, 126, 127).
Для Блока нехарактерна также гипербола, доходящая до гротеска в характеристике мира капитализма. Так же, как Маяковский, он подчеркнет в «сытых» прежде всего отсутствие человеческих черт.
А офицер уже близко: белый китель,
Над ним усы и пуговица-нос,
И плоский блин, приплюснутый фуражкой...
(II, 218)
— но это, конечно, не «жирные» Маяковского, которые представляют собой просто «два аршина безлицего розоватого теста» (1, 113), или «желудок в панаме» (1, 84).
У Блока почти нет таких стихотворений, как сатирические гимны Маяковского, которые целиком посвящены портретам «сытых». Внимание Блока больше обращено на те стороны души его героя, которые являются порождением «страшного мира», чем на самую характеристику этого мира.
Лирика Маяковского больше обращена «вовне», лирика Блока — «внутрь». Стихи Блока — мучительное раздумье, разговор с самим собой, монолог; стихи Маяковского — скорее диалог, обращение к людям, небу, солнцу, улицам, городу.
Анализируя художественный метод Блока, исследователи приходят к выводу, что «сила его романтической поэзии в отрицании, а не в утверждении» 12. Дореволюционная поэзия Маяковского тоже в первую очередь сильна своим отрицанием, но положительный идеал и устремленность в будущее у Маяковского выражены значительно нагляднее: его герой принадлежит миру будущего. Он сможет полностью раскрыть свои душевные богатства, когда будет уничтожен современный уклад жизни. Он торопит приход революции, которая очистит землю от «жирных»:
... выше вздымайте, фонарные столбы, окровавленные туши лабазников.
(1, 189)
Когда Маяковский в 1915 г. писал эти строки, он не знал, что они перекликаются с блоковскими строками, написанными в 1907 г., так как они,
12 Л. И. Тимофеев. Творчество Александра Блока. М., изд-во МГУ, 1963, стр. 33.
конечно, не были опубликованы:
И мы подымем их на вилы,
Мы в петлях раскачнем тела,
Чтоб лопнули на шее жилы,
Чтоб кровь проклятая текла.
(IV, 281)
Блок, как и Маяковский, связывает представление о новой эре жизни человечества с Революцией, но для Блока грядущее обновление жизни неизбежно связано с возмездием его лирическому герою за его двойственность, за то, что он несет на себе груз прошлого. И поэтому рядом с призывом к революции в стихах Блока о «великой грозе» звучат мотивы обреченности:
Мы не стали искать и гадать:
Пусть заменят нас новые люди!
.....................................................................
Затопили нас волны времен,
И была наша участь — мгновенна.
(II, 115)
Идея исторической обреченности, мысль о том, что будущее принадлежит людям другого поколения и иного душевного склада — у Маяковского совершенно невозможна. Он не представлял будущего без себя, его лирический герой любым чудом проникал в мир будущего — и на праздник освобожденного человечества в поэме «Война и мир» и в «коммунистическое далеко» в послереволюционной поэме «Про это».
Блок говорил: «Мы путь расчищаем для наших далеких сынов (III, 94). Маяковский расчищал путь для себя и для сегодняшних людей, с которыми он хотел быть теснейшим образом связанным — для обитателей «безъязыкой улицы».
Естественно, что у Блока нет развернутых фантастических картин будущего, противопоставленных настоящему, нет ничего похожего на утопию финала поэмы «Война и мир», в котором Маяковский пытался воплотить свое представление о жизни, какой она должна быть и непременно будет, о расцвете личности свободного человека, о братстве всех народов мира.
Иногда, в самые трагические периоды жизни Блока, размышления о будущем приводят его к отрицанию всего светлого впереди:
О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней!
(III, 47)
Блок мужественно борется с приступами отчаяния, провозглашая свою веру в будущее человечества («Я верю: новый век взойдет средь всех несчастных поколений», III, 70) и в победу светлых сторон в душе человека. В пору творческой зрелости он знает, что прекрасное надо искать в самой действительности, а не в противопоставленных ей «иных мирах»;
К этому убеждению он пришел после долгих и мучительных поисков и все же так и не смог до конца отказаться от «двоемирия». Рецидивы противопоставления «здесь — там» встречаются и в его поздней лирике.
Маяковский начал с того, к чему Блок пришел с таким трудом: для него прекрасное — всегда земная жизнь, только ее надо освободить от тех, кто «портит дни листкам календарным» (2, 266). И этот эстетический идеал Маяковский утверждал в полемике с реакционной романтикой символизма.
Характерна концепция поэмы «Человек» — итогового дооктябрьского произведения Маяковского: герой поэмы проходит путь, противоположный героине лирической драмы Блока «Незнакомка» (1906). Героиня этой драмы — падучая звезда, превратившись в женщину и познав всю пошлость земного существования, вновь вернулась на небо. Лирический герой более поздних стихотворений — «Сон» (1910) или «Похоронят, зароют глубоко» (1915) — не хочет из небытия возвращаться к жизни, утомительной и бесцельной. А человек Маяковского, побывав в «бездне» потусторонности, возвращается обратно на землю, которая прекраснее всяких «иных миров», несмотря на то, что ее изуродовали «вельможи, банкиры, дожи».
Если Блок даже в 1916 г. мог в стихотворении «Демон» противопоставить «малость» земных чувств страстям небожителей:
Ты знаешь ли, какая малость
Та человеческая ложь,
Та грустная земная жалость,
Что дикой страстью ты зовешь?
(III, 45)
— то Маяковский презрительно обозвал всех обитателей неба «бестелыми» и «флагом поднял» бунтующее и страстное человеческое сердце. Блоковской «бездне» —
Я пронесу тебя над бездной,
Ее бездонностью дразня...
И онемев от удивленья,
Ты узришь новые миры —
Невероятные виденья,
Создания моей игры...
(III, 45)
— этой «бездне» с «дождем эфирной пыли», с «белым сверканьем» и «незапятнанными лугами» противостоит небо в изображении Маяковского:
Эта вот
зализанная гладь —
это и есть хваленое небо?
(1,269)
А что касается обитателя «бездны» — Демона, то здесь контраст с трактовкой Блока особенно нагляден. Образ Демона, который вообще очень привлекал Блока, связан у него не только с Лермонтовым, но и с картинами Врубеля; его Демон — «в разливах синеющих крыл» (III, 18), с «божественно-прекрасным телом» (III, 45). У Маяковского же Демоном назван обычный человек «в американском пиджаке и блеске желтых ботинок» (1, 258).
Вероятнее всего, Маяковский во время работы над поэмой «Человек» не знал стихотворения «Демон», написанного Блоком в 1916 г. и опубликованного только в 1917 г. Тем знаменательнее эта невольная полемика образов «земного» и «небесного».
Естественно, что для Маяковского Блок начинался там, где он отказывался от романтизации потустороннего,— для Маяковского существовал Блок с «земным сердцем».
Маяковскому были чужды «Стихи о Прекрасной даме»; Блок периода революции 1905 года, уже вступающий «в мир огромный», был ему значительно ближе. Цикл «Город» оказал явное влияние на его раннее творчество, как это отмечено нашими исследователями13. Маяковский не видел в этом цикле «мистицизма в повседневности», как его трактовал сам автор. Для него это был прежде всего город, написанный художником-романтиком, подчеркнувшим и заострившим ощущение противоестественности, порочности жизни в нем, «черный город», «город торговли» и ярких социальных контрастов, переданных в условном, обобщенном плане.
Элементы блоковского мистицизма у Маяковского совершенно отсутствуют, его город не населен ни таинственными «черными человечками», ни «невидимками», которые управляют городской жизнью, сообщая событиям высший, недоступный для понимания человека смысл. И если в стихах Маяковского встречаются обороты, созданные как бы по блоковским образцам: («отмщалась над городом чья-то вина» — (1, 157), «в рельсах колебался рыжеватый кто-то» (1, 52),— то они явно неорганичны в общем контексте.
И, конечно, особенно близок Маяковскому был зрелый Блок с его страстным стремлением — «Все сущее — увековечить, Безличное — воче-ловечить, Несбывшееся — воплотить» (III, 65), Блок того периода, когда принципы революционного романтизма одержали верх над реакционным романтизмом символизма.
Черты революционного романтизма как искусства, пересоздающего жизнь, выражены у раннего Маяковского более наглядно: резче и эмоциональнее соотнесенность с эстетическим идеалом, более ясно представлен этот идеал, более зримо воплощены черты нового человека — человека будущего.
13 См. ст.: Е. Малкина. Ал. Блок и В. Маяковский.— «Литературный критик», 1938, № 9—10; А. Метченко. А. Блок и В. Маяковский.—«Резец», 1937, № 9.
В то же время; революционный романтизм Блока и Маяковского относится к той эпохе жизни России, которая отмечена активной деятельностью народных масс. В романтизме обоих поэтов — принципиально новое качество, невозможное у поэтов XIX в.
«Литературное новаторство есть лишь следствие глубокого перелома, совершившегося в душе, которая помолодела, взглянула на мир по-новому, потряслась связью с ним»,— писал Блок в статье «О романтизме» (XII, 196).
Блок уже ясно чувствовал, что «в каждом дышит дух народа» (V, 37), т. е. что в духовной жизни личности преломляется жизнь эпохи, страны, народа. События своей личной жизни, потрясения, происходящие в своем внутреннем мире, Блок рассматривал как отзвук «мирового оркестра», как проявление «всеобщего». Поэтому в его лирике трудно разграничить стихи на «общественные» и «личные» темы: так, стихи о России одновременно стихи о душевном состоянии лирического героя; часто даже трудно определить, к кому обращено стихотворение — к родине или к любимой. Совершенно органично в его творчестве соединение понятий — «О, Русь моя, жена моя...». А стихи о любви у Блока всегда овеяны ощущением общего неблагополучия, трагичности отношений людей в «страшном мире» — «разве так суждено меж людьми?» (III, 21).
Этим творчество Блока подготовляло появление лирики раннего Маяковского, у которого воедино слито горе неудавшейся любви и проклятие «господам», «любителям святотатств, преступлений, боен».
Октябрь отвечал основному устремлению Блока и Маяковского, их максимализму, желанию до конца разрушить «страшный мир» и создать совсем новую жизнь, достойную человека.
То, что до революции было только мечтой о «великой грозе» или о грядущем «в терновом венце революций» «котором-то годе», о новом свободном человеке —
И он,
свободный,
ору о ком я,
человек —
придет он,
верьте мне,
верьте!
(1, 242)
— теперь стало осуществляться в самой повседневности.
И если в основе художественного метода и Блока и Маяковского до Октября — несоответствие мечты и реальности, то теперь, когда «беспредельность» их требований опирается на реальность — революционную борьбу за преобразование действительности — их творчество основывается на романтике самой жизни и борьбы.
«Что же задумано?
Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью»,— писал Блок в знаменитой статье «Интеллигенция и революция» (VIII, 48).
Пафосом «переделки всего» проникнуты поэма «Двенадцать», «150 000000», «Мистерия-буфф», «Левый марш», статьи Блока и Маяковского.
Они и другие поэты и писатели, закладывавшие основы советской литературы в годы военного коммунизма, видели романтику революции и в величии ее целей и в самих невиданных масштабах коренного переворота жизни. Мировая революция многим представлялась тогда совсем близкой, это ощущение подкреплялось и международной обстановкой первых лет Октября.
В статьях Блока этого времени говорится об «открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо устремилось человечество» (VIII, 131), о «мировом пожаре», который «разгорается и будет еще разгораться долго и неудержимо, перенося свои очаги с востока на запад и с запада на восток» (VIII, 96). Красногвардейцы — герои поэмы «Двенадцать»—«раздувают» этот «мировой пожар в крови». Строки:
Мы на горе всем буржуям
мировой пожар раздуем,
(V, 11)
— стали революционным плакатом, они соответствовали революционной романтике самой жизни.
В пьесе «Мистерия-буфф» рассказывается о победе мировой революции, герои «Левого марша» «печатают шаг... за голод, за мора море», чтобы «крепить у мира на горле пролетариата пальцы» (2, 24).
Стремление передать романтику эпохи, «имеющей немного равных себе по величию» (VIII, 47), заставляло художника прежде всего добиваться максимально четкого воплощения основного ее содержания — борьбы двух лагерей. Этот основой конфликт подавался крупным планом, рисовался резкими контрастными красками, полутонов не допускалось. Маяковский даже декларировал этот принцип в самом тексте поэмы «150 000000»:
Ни цветов
ни оттенков,
ничего нет —
кроме
цвета, красящего в белый цвет,
и красного,
кровавящего цветом крови.
(2, 145)
Обобщенные образы представителей двух борющихся сил — «серединных» персонажей не было — создавались путем заострения, часто гиперболизации, того основного психологического качества, которое непосредственно определялось их социальным положением.
Мир капитализма — это уже не просто «массомясая быкомордая орава» или «слишком сытые тела», а персонажи с конкретными социальными адресами: «барыня в каракуле», «поп», «буржуй», «писатель-вития» («Двенадцать»), «заводчик», «банкир», «помещик», «поп», «барыня», «купец» («Герои и жертвы революции»), «купчина», «поп», «раджа», «паша» («Мистерия-буфф») и т. п.
В основе их характеристик — уже не антиэстетическое отсутствие человеческих качеств, но в форме, более заостренной, чем это было раньше,— социальный признак — собственничество. Их образы строятся на контрасте: «прежде — теперь». Всесильные хозяева в недавнем прошлом, они теперь лишены власти и богатства, им остается только вспоминать былое и жалеть о нем. В интонации автора «Двенадцати» явно звучит насмешка, издевка:
Что нынче невеселый, товарищ поп?
Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?
(V, 8)
В «Героях и жертвах революции» —
Заводчик
Резвясь, жила синица-птица
за морем и за водами.
И день и ночь бедняге снится,
Как он владел заводами.
(2У 90)
Каждый персонаж из «чистых» («Мистерия-буфф»), представляясь зрителю, прежде всего оплакивает свою собственность, свое имущество, уничтоженное революционным потопом.
Характеристика «бывших» — собственников и паразитов — дана от имени народа, с которым теперь слит лирический герой. В «Нашем марше», «Скифах», представляющих собой взволнованный авторский монолог, лирический герой слит с народом, нет отдельного лирического «я» — «нас тьмы, и тьмы, и тьмы» («Скифы»).
Если в дореволюционном творчестве Блока и Маяковского основной конфликт — «я» и «страшный мир», то теперь определяющим в их произведениях становится конфликт «мы» и «они», т. е. народ и буржуазия, революция и контрреволюция, — конфликт, изображенный в условном, обобщенном плане.
Резкое, эмоционально подчеркнутое противопоставление двух лагерей приводит к характерному сочетанию в одном произведении сатирического и героического начал, это сказалось в самом заглавии пьесы Маяковского — «Мистерия-буфф».
Героическое начало связано с темой борьбы и победы пролетариата. «Уличные тыщи», «каторжане города-лепрозория», «кто-то сильный в красном армяке», поднимающийся «из тьмы погребов»,— превращаются в рабочих, матросов, красногвардейцев. Определяющие качества революционного народа — ненависть к старому миру, воля к преобразованию жизни на началах справедливости, крепнущая революционная сознательность — сконцентрированы в образах блоковских красногвардейцев, а также «нечистых», Ивана, героев «Левого марша» Маяковского. Народ дан в движении. Путь красногвардейцев по улицам Петрограда, Ивана — к поединку с Вильсоном, «нечистых» — в поисках земли обетованной, приобретает обобщающее символическое значение. Это дорога революции, путь к будущему, каждый этап которого берется с бою.
Борьба со старым миром — не только схватка со смертельным врагом; это одновременно и борьба со всем тем в сознании народа, что порождено и воспитано старым миром, что мешает непримиримости и стойкости бойца. «Нечистые» свергают «чистых», а затем разрушают ад и рай, т. е* свои религиозные представления, они закаляются, духовно обогащаются в ходе борьбы-
Мучительный и сложный процесс происходит в душе красногвардейца Петрухи («Двенадцать»). Трагически пережив совершенное им убийство Катьки, он в то же время понимает, что Катька, продавшаяся старому миру,— жертва не только его ревности, но и классовой ненависти, и беспощадно мстит за нее врагам:
— Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку...
(V, 15)
С обострением классовой ненависти сочетается и окончательный отказ от «имени святого» — последнего, что связывало Петруху с моралью старого мира. И в финале поэмы героям уже «ничего не жаль», они «ко всему готовы» — это единый отряд, идущий вдаль «державным шагом».
Стремление передать то, что Блок называл «музыкой», а Маяковский — «распирающим грохотом революции»,— приводит поэтов к поискам новых ритмов, способствующих наибольшей динамичности и напряженности стиха. Для «Двенадцати» и произведений Маяковского (например, «150 000 000») характерна полиритмия, причем смена ритма несет большую смысловую нагрузку. Установка на произносимость стиха, на ораторскую интонацию ведет к широкому использованию свободного стиха, к введению маршевых ритмов.
Маяковский в статье «Как делать стихи» отмечал общность своей работы в этой области с работой Блока: «Сразу дать все права гражданства новому языку: выкрику — вместо напева, грохоту барабана — вместо колыбельной песни:
Революцьонный держите шаг!
(Блок)
Разворачивайтесь в марше!
(Маяковский)
В этой же статье Маяковский рассказывает о своем обращении к частушечным ритмам, что также характерно для поэмы «Двенадцать»: известно, что Блок называл поэму «двенадцатью частушками».
Обращение к традициям народного творчества, особенно к жанрам, наиболее активным в первые послереволюционные годы,— таким, как частушка или революционная песня,— характерное свойство советской поэзии эпохи военного коммунизма. У Маяковского связь с фольклором сказалась особенно наглядно в агитплакатах («Герои и жертвы революции», плакаты РОСТА). Работая над ними, поэт стремился прежде всего «дать слова для песен идущим на питерский фронт красноармейцам» (12, 87), т. е. сделать так, чтобы его творчество бытовало в народной среде, и, естественно, использовал фольклорные формы. Частушку, которую «усыновила петербургская улица» (12, 85), Маяковский считал своим «любимейшим стихом».
У Блока была другая цель: для него частушка, революционный марш, современная городская песня— все, что он слышал на улицах города в бурные дни 1917/1918 года,— было «музыкой революции», голосом эпохи, который он стремился запечатлеть на страницах своей поэмы. Это заставляет вспомнить о роли фольклора в поэме «Хорошо!», вообще тесно связанной с «Двенадцатью».
Но как бы то ни было, творческое обращение к традициям народной поэзии, впервые такое широкое у Блока и первое у Маяковского (если не считать малоудачного опыта с лубками 1914 г.), обусловлено близостью поэта к народу. Только в этом случае поэт может говорить от имени народа и его языком.
До революции Маяковский писал о «безъязыкой улице», о том, что «улица муку молча пёрла» (1, 182); Блока тревожило, что у людей с окраин, «поднимающихся из тьмы погребов»,— «незнакомые наречия». Теперь Маяковский и Блок стремятся сделать язык революционной улицы языком своей поэзии. Народные фразеологические сочетания, вульгаризмы, митинговая речь, распространенные газетные обороты, торжественная патетическая лексика — весь этот сплав, передающий неповторимое своеобразие языка эпохи, запечатлен на страницах поэмы «Двенадцать», «Мистерии-буфф».
Блок достиг, пожалуй, большего успеха в овладении этой новой стихией языка. Его «Двенадцать» выдержаннее в этом смысле, чем «Мистерия-буфф» и особенно «150 000 000». Большое значение для Маяковского в овладении стихией народной речи имели последующие годы, когда широко развернулась работа поэта в РОСТА. Именно в предисловии к сборнику плакатов РОСТА Маяковский написал: «Для меня эта книга большого словесного значения работа, очищавшая наш язык от поэтической шелухи на темах, не допускающих многословия» (12, 208).
Поэтическая близость «Двенадцати» к творчеству Маяковского была с удивлением отмечена критикой вскоре после выхода поэмы Блока. Критики останавливались только на наиболее бросающихся в глаза особенностях формы и упрекали Блока за несвойственную ему манеру.
«Необычайное явление — Блок, тихий поэт «лиры», пишет громкую, кричащую и гудящую поэму «Двенадцать», в которой учится у Маяковского»,— говорилось в журнале «Книжный угол» 14.
Глубже осознали эту творческую близость сами поэты. Маяковский встретил поэму «Двенадцать» восторженно. «Когда Блок написал «Двенадцать», он читал их без конца»,— рассказывает Л. Ю. Брик 15. В 1920 г., участвуя в заседании коллегии Наркомпроса и предлагая в дни Октябрьской годовщины «поставить новые пьесы исключительно революционного характера», он первый назвал — пьесу Блока «Двенадцать» (12, 242). В книжном шкафу Блока стоит сборник «Все, сочиненное Владимиром Мацковским 1909—1919». Блок был на премьере «Мистерии-буфф», и пьеса произвела на него глубокое впечатление; она слилась для него с общей атмосферой праздника первой годовщины Октября 16. Известен положительный отзыв Блока о «Левом марше» — «а все-таки хорошо!» 17.
Но, как и отношение Маяковского к «Двенадцати», так и оценки Блоком творчества Маяковского этого времени всегда содержали серьезную полемику: блоковское «а все-таки» — показательная оговорка.
Революция как бы выявила творческую близость обоих поэтов. Общность восприятия революции и ее оценки, отношение к народу как к основной движущей силе революционного процесса и воплощению его высокой справедливости — все это обусловило сходные черты в их художественных методах, что и обнаружилось в известной стилистической близости их произведений.
Но так же закономерно и неизбежно было то, что они по-разному понимали характер революции и ее будущее. Это разное понимание отразилось и в их прямой полемике, которая запечатлелась в документах — дневнике Блока, его неотправленном письме к Маяковскому, статье Маяковского «Умер Александр Блок». И в их поэзии.
Своеобразие блоковского восприятия революции проявилось прежде всего в самом характере конфликта поэмы «Двенадцать».
Если в творчестве Маяковского борьба двух лагерей воплощена в ве общем и вершинном проявлениях — «нечистые» свергают сначала
14 «Книжный угол», 1918, № 1.
15 Л. Брик. Маяковский и чужие стихи.— «Знамя», 1940, № 3.
16 См. «Записные книжки Ал. Блока». Л., изд-во «Прибой», 1930, стр. 201.
17 См. кн.: Г. Ш е н г е л и. Маяковский во весь рост. М., изд. Всероссийского союза поэтов, 1927, стр. 41.
монархию, потом буржуазную республику, Иван побеждает в гигантском поединке Вильсона — олицетворение мирового капитализма,— то в поэме Блока классовая борьба предстает в одном из частных проявлений, хотя и очень динамичном и напряженном.
Красногвардейский патруль совершает самосуд, в результате которого погибает субъективно ни в чем не виноватый человек. Убитая — гулящая Катька — конечно, связана со старым миром, она уже давно продалась ему: раньше «с юнкерьём гулять ходила», теперь пошла «с солдатьём»; но не она активно борется против революции, не она враг красногвардейцев, а ее спутник — Ванька, изменивший делу народа и перешедший в лагерь его врагов,— «был Ванька наш, а стал солдат!» (V, 10). Красногвардейцами движет острое классовое чувство ненависти к предателю революции, у Петрухи оно усилено и осложнено ревностью. Нападение их направлено в большей степени против Ваньки, но он остается в живых, а погибает невиновная Катька, причем — по мысли Блока — даже это убийство оправдано.
В такой постановке вопроса сказался романтический максимализм Блока, как это убедительно показано в литературоведческих работах о поз-ме 18. Даже то, что, казалось бы, трудно принять и оправдать,— моменты анархии, самосуды, грабежи,— все это Блок освящает величием революции. Он признает за революцией высокую моральную справедливость и право насилия над старым миром и всем, что в большей или меньшей степени с ним связано, и принимает и оправдывает это насилие во всех его проявлениях.
Маяковский и Блок, восторженно приветствовавшие революцию, которая разрушила ненавистный им мир капитализма, выдвигали в ее изображении на первый план разные ее стороны: для Маяковского основным было обновление жизни, праздник освобождения человека, превращение вчерашнего раба в хозяина жизни, а Блоку важно было утвердить право революции на насилие, исторически неизбежное.
В такой постановке вопроса проявились разные «исторические корни» Блока и Маяковского.
Блок, многими нитями связанный с буржуазной интеллигенцией, ощущал революцию как возмездие не только буржуазии, но и интеллигенции за ее отъединенность от народа. Эта мысль легла в основу его программных статей еще за десять лет до Октября (статьи '«Народ и интеллигенция», «Стихия и культура») и отразилась в лирике мотивами обреченности лирического героя перед лицом великой грозы, которую он тем не менее неустанно призывает и ждет.
С первых дней Октября Блок призывал интеллигенцию осознать свою историческую вину перед народом и полностью принять революцию.
18 См. статьи: Л. И. Тимофеев. Поэма Блока «Двенадцать» и ее толкователи.— «Вопросы литературы», 1960, № 7; Э. Шубин. Поэма А. Блока «Двенадцать».— «Филологический сборник научного студенческого общества», т. 2. М., Изд-во ЛГУ, 1959.
И темные моменты в революции — утверждает он — на совести интеллигенции,— так как в них виноват сам старый мир; ведь слепая ненависть и жестокость, проявляющаяся в грабежах, самосудах, воспитана веками господства «сытых».
«Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной «скорби, но ведь за прошлое — отвечаем мы? Мы — звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? — Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать «лучшие» (VIII, 52). Этим известным словам есть очень значительное «лирическое» подтверждение — запись в дневнике Блока от 6 января 1919 г.
Запись эта была вызвана недоразумениями с печатанием поэмы «Двенадцать» в государственном издательстве. В связи с этим Блок размышляет вообще об отношении революционного народа к культуре и искусству и приходит к выводу, что недоверие к книгам, которые пишутся бывшими «господами»,— вещь вполне естественная. Ведь эти книги, эта культура была создана за счет ограбления народных масс, которые своим тяжким трудом давали возможность «господам» создавать и приобретать духовные ценности. «...Эту силу я приобрел тем, что у кого-то (у предков) были досуг, деньги и независимость, рождались гордые и независимые (хотя в другом и вырожденные) дети, дети воспитывались, их научили (учила кровь, помогала учить изолированность от добывания хлеба в поте лица) тому, как... писать книги и... жить этими книгами в ту пору, когда не научившиеся их писать умирают с голоду» 19. Вспоминая о своей прежней жизни в Шахматове, Блок как бы смотрит на нее глазами народа, глазами тех крестьян, для которых он был «барин».
И разгром Шахматова, и недоразумения с изданием «Двенадцати» воспринимались Блоком как явления одного порядка, как исторически справедливое возмездие революции за то, что он, поэт, был связан с культурой и бытом старого мира.
Ведь книгу «даже несколько „заслуженного" перед революцией писателя, как А. Блок» выкидывают из станка «миллионы бедных рук; и глядят на это миллионы... голодных, исстрадавшихся глаз, которые видели, как гарцевал статный и кормленный барин... И посмеиваются глаза — как же, мол, гарцевал барин, гулял барин, а теперь барин — за нас? Ой, за нас ли барин?» 20. В конце этой записи вполне закономерно упоминается имя Маяковского в связи с тем отношением к проблеме культурного наследия, которое было высказано Маяковским в стихотворении «Радоваться рано», вызвавшем ответную статью Луначарского и письмо Блока Маяковскому, которое не было отправлено. Маяковский говорил в этом стихотворении о непригодности культуры прошлого для революционного народа, и Блок в своем дневнике, после слов о недоверии «миллионов глаз» к «барину», добавляет: «Подобное „социальное чувство" — у Мейерхольда;
19 «Дневник Ал. Блока. 1917—1921 гг.», Изд-во писателей в Ленинграде, 1928, стр. 143.
20 Там же, стр. 144—145.
по-другому, но политически в эту сторону — у Маяковского (о, ничего общего, кроме „политики"!)» 21.
Блок хочет сказать, что «ниспровергатель» Маяковский выражает народное чувство недоверия к культуре «господ», что такое же чувство и у Мейерхольда, хотя он и Маяковский — различные индивидуальности.
Не вдаваясь в существо спора о культурном наследии, заметим, что Блок сам ощущает, что у него и Маяковского — различные социальные корни и объясняет этим их разногласия. Безоговорочно принимая революцию, он не мог не ощущать ее и как возмездие себе и той среде, в которой он жил. Блок понимал, что у Маяковского нет такого чувства, что он по ощущению революции близок к революционному народу, творящему это возмездие.
У Маяковского не было и не могло быть ощущения исторической вины перед народом, и вопрос о праве революции на насилие не стоял для него столь остро и не был таким глубоко личным, как для Блока. Ему не надо* было в изображении революции выдвигать на первый план и оправдывать ее темные стороны, чтобы заставить людей своего круга принять их такг как принял он сам.
Отсюда — различие в самом характере конфликта их произведений, определившее различие масштабов изображения и самих поэтических средств. То, что в произведениях Маяковского становится главным, то у Блока — за пределами поэмы. После убийства Катьки товарищи говорят Петрухе:
— Не такое нынче время,
Чтобы няньчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!
(V,14)
Главное столкновение — впереди, и это неоднократно подчеркивается:
— Шаг держи революцьонный!
Близок враг неугомонный!
(V, 16)
Вот — проснется
Лютый враг...
(V, 17)
Если красногвардейцы только идут к решающему бою и он где-то вне поэмы, то Иван и «нечистые» уже ведут этот бой и выходят из него победителями. У Маяковского — вся «дорога революции», как он сам определил содержание «Мистерии-буфф» (2, 245), дорога, приводящая к «солнечной Коммуне», а у Блока — только отрезок этого пути, его начало.
21 «Дневник Ал. Блока 1917—1921 гг.», стр. 145.
У Маяковского — стальные «нечистые», сказочно-былинный Иван («рука у него — Нева, а пятки — каспийские степи» —2, 127), а враг — нечто вроде Идолища поганого:
Посмотришь в ширь —
йоркширом йоркшир!
А длина —
и не скажешь какая длина,
так далеко от ног голова удалена!
(2, 134)
Контраст двух лагерей у Маяковского всемерно подчеркнут фантастическими гиперболами. Все силы природы действуют или на стороне героя или на стороне его противника, и даже —
Наружу выпустив скованные лавины,
земной шар самый
на две раскололся полушарий половины
и, застыв,
на солнце
повис весами.
(2, 149)
Арена действия — не только весь земной шар, но даже космос — герои «Мистерии-буфф» взбираются вверх по тучам и разрушают небесную «твердь».
В поэме Блока масштабы значительно скромнее. Городская улица первых послеоктябрьских недель, ее плакаты («Вся власть Учредительному собранию!»), прохожие, лихачи с электрическими фонарями на оглоблях экипажей и красногвардейский патруль (просто двенадцать человек в рваных пальтишках с австрийскими ружьями, в картузах, с цигарками в зубах) — никаких былинных поединков.
Маяковскому, непосредственно передающему величие и грандиозность событий,—
Мы переходим
к событиям главным,
к невероятной,
гигантской сути,
(2, 138)
— нужна гипербола, фантастика, отвлечение от быта, сложность метафор, подчеркнутая эмоциональность языка.
У Блока же, передающего величие революции через совсем неграндиозный и невеличественный эпизод, воплощение романтики эпохи осуществляется по-другому.
Своеобразие конфликта «Двенадцати» обусловило то, что в поэме Блока меньше отвлеченности и схематизма, но этим же своеобразием порождается и определенная двуплановость поэмы. То, что у Маяковского звучит в самом тексте, у Блока — часто как бы в подтексте произведения. Гигантский образ Революции не столько вырисовывается; из рассказа о событиях — во бсяком случае в главах 1—10,— сколько встает за ним. Этому способствуют рефрены, концовки глав, которые сразу переводят повествование в более общий план и создают контраст между основным в революции — ее величием и высокой справедливостью — и тем, что Блок называл ее частностями или «гримасами»: «Не знаю (или — знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало — могло быть во много раз больше»,— писал он 3. Н. Гиппиус 22.
Антитеза двух лагерей — основная в произведениях Маяковского — очень важна и для Блока, на одном полюсе его поэмы — красногвардейцы, на другом — олицетворение старого мира — «буржуй», или «поджавший хвост паршивый пес». Но Блоку не менее важна другая антитеза — «уж я ножичком полосну, полосну» — и «впереди Исус Христос», т. е. контраст величия борьбы и сопутствующих ей темных явлений. Он подчеркнут контрастом цветов — черного и белого, проходящим через всю поэму, символическим образом ветра, разыгравшейся вьюги, а также характером использования евангельской легенды о Христе и его двенадцати апостолах.
Только в последних двух главах, когда красногвардейцы уже как бы выходят на тот отрезок пути, который ведет к последнему, решающему бою, романтическое утверждение высокой героики совершающегося выступает на первый план.
И сейчас же изображение становится более абстрактным, хотя героический пафос поэмы усиливается. Красногвардейцы теряют свои бытовые приметы — нет больше ни рваных пальтишек, ни цигарок, они — апостолы революции, идущие вдаль «державным шагом». Исчезает конкретность времени («и вьюга пылит им в очи дни и ночи напролет» — V, 17) и пространства, раздвигаются городские улицы:
В очи бьется
Красный флаг.
Раздается
Мерный шаг.
(V,16)
Позади — голодный пес, впереди — Исус Христос,— такой обобщенной символической картиной шествия революции заканчивается поэма.
Молодая советская поэзия еще не научилась сочетать показ «невероятной гигантской сути» с це конкретными проявлениями: или моменты абстрактности, отвлеченности, схематизма — или символика, как бы восполняющая отсутствие прямого показа этой ««(невероятной сути».
Часто то, что у Маяковского метафора, у Блока — символ.
Если вихрь, сопровождающий Ивана, нужен Маяковскому только для того, чтобы подчеркнуть силу революции, то ветер в «Двенадцати»
22 «Дневник Ал. Блока. 1917—1921», стр. 118—119.
олицетворяет самую революцию; здесь выступает только одна часть параллели:
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер—
На всем божьем свете!
Ветер веселый И зол, и рад.
Крутит подолы,
Прохожих косит.
Рвет, мнет и носит
Большой плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию»...
(У,7—8)
Лишены символического значения и цветовые контрасты у Маяковского, как это отмечалось нашими исследователями 23. В поэме «150 000 000» контрастирует красное и белое:
Багровое все становилось багровей.
Белое все белей и белее.
(2, 145)
Этот контраст не имеет скрытого символического смысла, он основывается на общераспространенном в те годы обозначении враждующих лагерей — «красные» и «белые»; точно так же, как строка «Идемидем! сквозь белую гвардию снегов!» (II, 120),— не является символом, это не вьюга в «Двенадцати», а троп, метафора, которая могла возникнуть у поэта именно в 1919 г., в напряженнейший период гражданской войны.
Не имеет символического значения у Маяковского и библейский сюжет, использованный в «Мистерии-буфф». Он превращен в аллегорию, в то время как у Блока легенда о Христе и его двенадцати апостолах становится символом шествия революции.
Обращаясь к древним легендам человечества о счастье, о достижении обетованной земли, об установлении царства справедливости, сопоставляя эти извечные мечты с революционной действительностью, поэты — Маяковский, Блок, Есенин, Д. Бедный — тем самым усиливали пафос утверждения революции как небывалого, грандиозного явления.
Но если Маяковский на первый план выдвигает момент переосмысления религиозного сюжета, создавая прозрачную аллегорию (потоп — революция, земля обетованная — коммуна, Христос — «Человек просто», поиски земли обетованной — борьба пролетариата за построение нового
23 См. 3. Паперный. О мастерстве Маяковского. М., изд-во «Советский писатель», 1957, стр. 11З.
общества), то в поэме Блока религиозная символика не переосмыслена: Христос и его двенадцать апостолов несут в мир учение, открывающее новую эру торжества справедливости.
За три года до создания «Мистерии-буфф» Маяковский своей программной поэме дал название «Тринадцатый апостол». Оно относилось к лирическому герою поэмы, который проповедовал учение, противоположное учению Христа: вместо апологии смирения и покорности — призыв к восстанию, к борьбе. В то же время бой религии давался ее же образами: апостол восстал против бога.
Образы другого ряда, перечеркивающие религиозные представления, характерны для поэмы «Человек», где дается сопоставление, вернее противопоставление жизни человека легенде о житии Христа. Это подчеркивается самими названиями глав — например «Рождество Маяковского».
В «Мистерии-буфф» это противопоставление углубляется и образы «второго ряда» образуют веселую, остроумную, последовательно проведенную аллегорию. Она помогает Маяковскому не только возвеличить революцию, но и разоблачить вредность религиозных представлений, воспитывающих покорность и пассивность.
Уже в прологе «Мистерии-буфф» Маяковский развенчивает романтику потустороннего, утверждая, что подлинное счастье — только в земной борьбе и труде.
Нам написали Евангелие,
Коран,
«Потерянный и возвращенный рай»,
и еще,
и еще —
многое множество книжек.
Каждая — радость загробную сулит, умна и хитра.
Здесь,
на земле хотим
не выше жить и не ниже
все этих елей, домов, дорог, лошадей и трав.
(2, 169—170)
Здесь Маяковский восстает не только против религии, но и против искусства, противопоставляющего земной жизни «миры иные». В этой декларации брошен камень и в огород символизма. Предыдущие строки:
Бывает —
станет пароход вдалеке,
надымит
и уйдет по зеркальности водней,
и долго дымными дышишь легендами,—
так жизнь ускользала от нас до сегодня,—
(2,169)
напоминают по контрасту одно из стихотворений Блока, которое Маяковский очень любил и часто читал наизусть,— «Ты помнишь, в нашей бухте сонной» — о кораблях, неожиданно вошедших в тихую бухту:
Мир стал заманчивей и шире,
И вдруг — суда уплыли прочь.
Нам было видно: все четыре
Зарылись в океан и в ночь.
И вновь обычным стало море,
Маяк уныло замигал...
(111,100)
Образ кораблей у Блока часто символизирует «нечаянную радость», уход от тусклой и серой обыденщины, романтическую мечту. В том же значении он употреблен здесь Маяковским. Но если в стихотворении Блока звучит грустная примиренность, сознание неизбежности разрыва мечты и действительности, то в прологе к «Мистерии-буфф» блоковский образ как бы отнесен в прошлое — «так жизнь ускользала от нас до сегодня», а с сегодняшнего дня, дня революции, этого уже быть не может. Народ борется за свое счастье, за полноту жизни и отвергает все, что мешает ему в этой борьбе. В самый кульминационный момент развития действия аллегорическое противопоставление «божественных легенд» и подлинной легендарной истории борьбы за коммунизм концентрируется в появлении «Человека просто» с «новой нагорной проповедью», естественно, противопоставленной проповеди Христа. Сам момент появления «Человека просто» заставляет вспомнить последнюю главу поэмы «Двенадцать» — несостоявшуюся встречу красногвардейцев с Христом, который невидимым для них возглавляет их шествие. Красногвардейцы не верят в Христа, они идут на свой подвиг «без креста» и «без имени святого». «От чего тебя упас золотой иконостас?» (7, 16),— спрашивают они Петьку, упомянувшего имя Спаса. Но тем не менее Христос идет с ними и именно Христос несет знамя революции. Красногвардейцы стреляют по Христу, но ведь они не знают, кому предназначаются их пули, к тому же Христос «от пули невредим».
«Нечистые», видя «Человека просто», который «идет по воде, что посуху», собираются стрелять по нему именно потому, что считают его Христом.
Кузнец
У бога есть яблоки,
апельсины,
вишни,
может вёсны стлать сева» раз на дню,
а к нам только задом оборачивался всевышний,
теперь Христом залавливает в западню.
Батрак
Не надо его!
Не пустим проходимца!
Не для молитв у голодных рты.
Ни с места!
А то рука подымется...
(2,210)
У Маяковского впереди революции пойдет не Христос. «Самый обыкновенный человек» объяснит «нечистым», что «Араратов нету», что глупо ждать пророков:
На пророков перестаньте пялить око,
взорвите все, что чтили и чтут.
(2,213)
Не о рае Христовом ору я вам,
.....................................................................................
Я о настоящих земных небесах ору.
(2,211)
И нечистые, разрушая ад и рай, поют:
Довольно пророков!
Мы все Назареи!
(2,215)
Последовательно дано противопоставление земного небесному и в поэме «150 000 000». Возможно, что само заглавие полемично по отношению к поэме Блока: революцию делают не двенадцать апостолов, а весь стопятидесятимиллионный народ, и в тексте опять дается антитеза «бог — человек».
Выйдь
не из звездного
нежного ложа,
боже железный,
огненный боже,
боже не Марсов,
Нептунов и Вег,
боже из мяса,
бог —человек!
Можно предположить, что это «звездное ложе» возникло в полемике с «нежной поступью надвьюжной» Христа в «Двенадцати».
Полемика завершалась в поэме «Хорошо!», в 7-й главе которой вместо Христа, ожидаемого Блоком, появлялись «живые люди» с революционной песней.
(2,123)
Маяковский не принимал концовку поэмы Блока24, и это нужно рассматривать не только в плане его полемики с романтикой «миров иных», но и в связи с более общими вопросами о характере и природе революции, о ее перспективах.
Дело в том, что в образе Христа, как в фокусе, сосредоточились все особенности понимания Блоком революционного процесса. Выдвигая на первый план проблему справедливости насилия, Блок вообще воспринимал революцию прежде всего и больше всего как силу разрушительную и стихийную. Речь идет не о побочных эпизодах, один из которых закономерно оказался в центре поэмы «Двенадцать». Блок понимал, что эти явления — самосуды, грабежи — могут быть остановлены. Недаром в его дневнике есть запись: «Совет народных комиссаров порицает самосуды» 25. Речь идет о понимании общего направления движения, его природы, считающей «порыв», «полет» своим единственным законом.
«Только — полет и порыв; лети и рвись, иначе — на всех путях гибель» 26,—-записывает Блок в своем дневнике меньше чем через месяц после окончания «Двенадцати».
Такое представление о революции связано с идеалистическим в своей основе мировоззрением поэта.
У Блока было специфическое, «музыкальное» восприятие мира, весь мир «растет в упругих ритмах» 27. Исток этой музыки — стихия, которая является первоосновой бытия. Взрывы стихии время от времени потря сают мир, и поэт обязан слышать и трудно уловимые подземные толчки, и музыку бунтующей стихии. «Понятие стихии объединяет одинаково и косную, неподатливую материю, и землетрясение, и революцию» (XII, 172). «... Стихия впервые в новой истории проявилась по-новому в духе народного мятежа... Это была как бы пятая стихия» (XII, 198). Именно взрывом этой новой стихии ощущал Блок революцию, о поэме «Двенадцать» он говорил, что она написана «в согласии со стихией» (VIII, 239).
Блок считал, что обновляет мир именно стихия, и поэтому необходимость соединения стихийного движения с теорией, с осознанием его целей и задач, с подчинением его определенному руслу — вряд ли могла быть им понятой.
Правда, в дневнике Блока есть запись о том, что задача русской революции — «буйство Стеньки и Емельки превратить в волевую музыкальную волну; ...организовать буйную волю» 28, или о том, что он понял «рабочую сторону большевизма, которая за летучей, за крылатой» 29, но эти
24 По воспоминаниям Л. Ю. Брик, Маяковский, беспрестанно читая поэму, всегда изменял ее последние строки — см. статью Л. Брик «Маяковский и чужие стихи» («Знамя», 1940, № 3).
25 Александр Блок. Сочинения в двух томах, т. II. М., Гослитиздат, 1955, стр. 492.
26 «Дневник Ал. Блока. 1917—1921 гг.», стр. 107.
27 Там же, стр. 155.
28 Там же, стр. 68.
29 Там же, стр. 101.
мысли, сформулированные в 1917 и 1918 гг., остались не реализованными в его творчестве и не развитыми ни в его публицистике, ни в дальнейших дневниковых записях. В статьях тех же лет и позднейших многие положения противоречат этим мыслям. Так, в предисловии к лекции о Каталине (1918) Блок разделяет «стихию большевизма» и «фракцию социал-демократической партии». При всем искреннем и большом уважении, с которым Блок относился к большевикам, при всем понимании того, что они выражают интересы масс, — недаром он само движение назвал именно «стихией большевизма», он все же не считал, что эта стихия в своем «полете» и «порыве» может быть подвластна кому-либо, подобно тем грозным природным стихиям, с которыми он все время отождествлял революцию.
Отсюда и неясность представлений о будущем. К чему идут его красногвардейцы, что наступит вслед за тем решающим боем, который ждет их впереди,— это в поэме неясно, очертаний будущего в ней нет.
«Что впереди?» — спрашивается в 1-й главе поэмы. «Впереди — Исус Христос»,— отвечает Блок в последней главе. «Исус Христос»,— т. е. моральное оправдание и утверждение святости разрушения. Образом Христа Блок пытается как бы «уравновесить» стихию, так как организующее начало революции ему не понятно.
У Блока было свое, специфическое понимание Христа, он трактовал его не в традиционном духе. Но как бы то ни было образ Христа не мог быть романтическим воплощением величия целей революции. Широко известна неудовлетворенность самого поэта этим образом и в то же время невозможность заменить его — «другого пока нет, а надо «Другого — ?» 30.
Вопросы о соотношении стихийного и сознательного, о разрушении и созидании в революционном процессе и тесно связанный с ними вопрос о перспективах революции решался Маяковским, всегда материалистом, в ином плане.
Это различие видно уже в одном из первых послеоктябрьских стихотворений — в «Оде революции». Стремясь запечатлеть романтику необыкновенного времени, Маяковский строит стихотворение как цепь контрастов, как сопоставление крайностей. Революция славит труд рабочего — и в то же время разрушает соборы и «тысячелетия Кремля», спасает котенка с тонущего корабля — и топит «седых адмиралов». Характерен сам подбор примеров,— Маяковский в это время убежден, что древние соборы никакой ценности для народа не представляют, их разрушение и казнь царских офицеров — с его точки зрения — явления одного порядка. Эта казнь — не убийство ни в чем не виноватой Катьки, хотя и тут есть элементы темной стихийной силы:
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе...
(2,13)
30 «Записные книжки Ал. Блока», 1930, стр. 199.
Эти разрушения не требуют никаких оправдапий, и Маяковский уже самим подбором этих контрастных примеров и тем, что созидание выступает наравне с разрушением, утверждает правоту революции. И все-таки это стихотворение еще не может быть полностью противопоставлено поэме «Двенадцать». Здесь у Маяковского насилие и человечность, разрушение и созидание выступают как два параллельных процесса и не подчеркнуто их диалектическое единство. Маяковский видит «два лица» революции. Он обращается к революции с вопросом:
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой, грудой развалин?
(2, 12)
В ходе бурной революционной борьбы это представление у Маяковского, чье мировоззрение было свободно от идеалистических концепций, конкретизировалось с большой быстротой. В стихотворении «Той стороне», написанном в конце 1918 г., Маяковский дает иное соотношение разрушения и созидания в революции:
Мы смерть зовем рожденья во имя.
Во имя бега,
паренья,
реянья...
(2, 22)
«Бег, паренье, реянье» — это еще очень абстрактные определения, так же как и «солнечный край непочатый» в «Левом марше». Но естественно и характерно, что по мере того, как в творческом сознании поэта вырисо-вываются — пусть еще самые общие — перспективы революции, усиливается и сознательное начало в изображении им самого движения. Матросы в «Левом марше» — уже не те, которые «пьяной толпой» появлялись в «Оде революции»; это — организованный отряд, подчиняющийся словам команды четкого марша. Здесь уже не мог бы возникнуть вопрос: «Каким лицом обернешься, двуликая?». Этот вопрос нельзя было бы задать и «нечистым», решительно устремляющимся к своей цели. Здесь расшифровывается понятие «солнечного края», или «бега, паренья, реянья». Завоевания революции — это радость человека-творца, обладающего материальными и духовными ценностями, которые он созидает, это полное проявление творческих сил человека, преображающего мир:
Мы — зодчие земель,
планет декораторы,
мы — чудотворцы...
(2% 240)
— говорится в «Мистерии-буфф», которая заканчивается сценой торжества «цеха созидателей мира, рабочих».
Финал поэмы «150 000000» — общество будущего, эпохи покорения природы и космоса:
... с отдаленнейших слетаются планет,
винтами развеерясь из-за солнца.
Пустыни смыты у мира с хари,
деревья за стволом расфеерили ствол.
(2, 162)
Конечно, будущее представлено еще в очень схематичном и наивно-фантастическом плане. Но самое существенное — это то, что в романтических картинах воплощено представление о будущем как о торжестве гармонической человеческой личности.
Этого Блок не увидел в «Мистерии-буфф». Очень характерен его отзыв о пьесе, в которой он сразу же уловил — невольную или сознательную — полемику со своим творчеством. «Вот вы отменяете нас,— сказал Блок Маяковскому,— Я это понимаю, но я не рад. И потом мне жалко, что у вас рифмуется «булкою» и «булькая». Мне жалко и вас и себя, что мы радуемся булке» 31.
Признавая, что искусство Маяковского больше, чем его собственное, соответствует задачам* времени, Блок тем не менее не все мог принять в пьесе. Будущее показалось ему изображенным слишком «заземление», а желания «нечистых» — примитивными. В эпилоге пьесы речь идет о дереве, которое цветет «не цветком, а булкою». Блок увидел в этом ограниченность, он решил, что Маяковский («отменяет» сложность внутреннего мира человека, обедняет его духовные запросы. Блок думал, что ни в характере, ни в деятельности нового человека не будет ничего общего с его сегодняшей психологией и практикой. В полном согласии со своей идеалистической концепцией музыкального восприятия мира Блок считал, что человек будущего будет прежде всего «ближе к стихии» и «потому — музыкальнее». «Цель движения — уже не этический, не политический, не гуманный человек, а человек-артист; он и только он будет способен жадно жить и действовать в открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо устремилось человечество» {VIII, 131). Эту деятельность Блок не смог сколько-нибудь ясно себе представить. В неотправленном письме к Маяковскому, написанном в конце 1918 г. по поводу стихотворения «Радоваться рано», Блок писал:
«...Разрушение так же старо, как строительство, и так же традиционно, как оно... Над ними — большее проклятье: мы не можем не спать, мы не можем не есть. Одни будут строить, другие разрушать, ибо «всему свое время под солнцем», но все будут1 рабами, пока не явится третье, равно непохожее на строительство и на разрушение» 32.
31 В. Шкловский. О Маяковском. М., изд-во «Советский писатель», 1940, стр. 111.
32 «Дневник Ал. Блока. 1917—19211 гг.», стр. 137.
Чем будет это «третье», Блок, разумеется, не знал. Но из этого высказывания видно, что сцены будущего в «Мистерии-буфф» его не могли удовлетворить, тем более, что мысли воплощены в пьесе еще схематично при помощи олицетворения вещей: «нечистых», достигших «земли обетованной», встречают ожившие машины, продукты, наконец, книга.
Кроме того, будущее — ив «Мистерии-буфф» и в «150 000 000» — выступает еще недостаточно связанным с настоящим: сегодняшний день, основное содержание которого — разрушение, и будущее, отмеченное созиданием, имеют мало точек соприкосновения. Для того чтобы увидеть в настоящем ростки будущего, понять разрушение и созидание в революционном процессе, в их диалектической взаимосвязи, нужно было четко представлять себе организующее, направляющее начало движения. В «150 000 000» его поглощали «миллионы», «вся Россия, смерчем скрученная в столб» (2, 128); в «Мистерии-буфф» это организующее начало заменял образ «Человека просто», который, хотя и противопоставлен блоковскому Христу, но тоже слишком абстрактен и отвлечен для того, чтобы романтически обобщить реальные черты революционного процесса.
Абстрактность и отвлеченность своих — и не только своих — первых послереволюционных произведений Маяковский почувствовал очень скоро, как он сам впоследствии рассказал об этом, вводя читателя в свою творческую мастерскую статьей «Как делать стихи?».
«Мало того, чтоб давались образцы нового стиха, правила действия словом на толпы революции,— надо, чтоб расчет этого действия строился на максимальную помощь своему классу».
Мало сказать, что «неугомонный не дремлет враг» (Блок). Надо точно указать или хотя бы дать безошибочно представить фигуру этого врага.
Мало, чтоб разворачивались в марше. Надо, чтобы разворачивались по всем правилам уличного боя, отбирая телеграф, банки, арсеналы в руки восставших рабочих. Отсюда:
Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй!
(12, 86)
Приводя свои произведения (в частности, «Левый марш») и «Двенадцать» Блока в качестве образцов нового революционного искусства, Маяковский тем не менее считает, что романтическая приподнятость, пафос и обобщенность должны сочетаться с большей конкретностью. Эти требования выдвигались самим временем; только искусство, связанное с революционной повседневностью, могло быть действенным средством воспитания масс.
В. И. Ленин говорил: «...побольше внимания самым простым, но живым, из жизни взятым, жизнью проверенным фактам коммунистического строительства — этот лозунг надо неустанно повторять всем нам, нашим писателям, агитаторам, пропагандистам, организаторам и так далее» 33.
В свете этих ленинских слов становится особенно ощутимым то значение, которое имела для Маяковского работа в РОСТА (октябрь 1919 — февраль 1922 г.), когда он оказался «в центре дел и событий» бурной эпохи гражданской войны. Это была школа, где Маяковский учился сочетать изображение конкретных явлений революционной повседневности с раскрытием их общего исторического смысла, здесь его романтика обретала все более и более твердую почву.
Уже в 1920 г. в стихотворении «Владимир Ильич» Маяковский провозглашает принцип партийности своего творчества, неразрывно связывая свою поэтическую судьбу с партией Ленина как воплощением разума революции, ее ведущего начала. А через полгода после смерти Блока — в конце 1921 г.— появился программный «Приказ № 2 по армии искусств» — страстная декларация служения искусства повседневным нуждам революции.
В начале 1922 г. в неоконченной поэме «Пятый интернационал» в знаменитой формуле:
Чтоб поэт перерос веков сроки,
чтоб поэт
человечеством полководить мог,
со всей вселенной впитывай соки
корнями вросших в землю ног,
(4,121)
— чувствуется ясное понимание того, что романтическое предвидение будущего и призыв к нему должен в искусстве основываться на понимании конкретной действительности и происходящих в ней процессов. Таким образом, вместе с развитием того нового метода, который получал все более и более четкое воплощение в поэтической практике Маяковского, происходило и теоретическое осмысление этого метода. Термина «социалистический реализм» тогда не существовало, но Маяковский в своих требованиях уже подходил к определению его сущности. И с высоты этих требований романтизм Блока, всегда остававшегося идеалистом в понимании исторического процесса, все меньше удовлетворял Маяковского. В недостаточности блоковского понимания революции он усматривал двойственное отношение к ней.
В 1921 г. был написан известный некролог «Умер Александр Блок». Маяковский рассказывает здесь о встрече с Блоком в первые дни революции, об их разговоре:
«Спрашиваю: «Нравится?» — «Хорошо»,— сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли».
Вот это «хорошо» и это «библиотеку сожгли» было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме «Двенадцать». Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие — славу ей.
33 В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 29, стр. 386.
Поэмой зачитывались белые, забыв, что «хорошо», поэмой зачитывались красные, забыв проклятие тому, что «библиотека сгорела» ...Славить ли это «хорошо» или стенать над пожарищем — Блок в своей поэзии не выбрал» (12,21—22).
Никак нельзя согласиться со словами Маяковского о том, что Блок не выбрал — радоваться ли разрушению старого мира или оплакивать его развалины 34. Выбор был сделан Блоком еще до революции, и все его поведение, его дневники, его статьи — свидетельствуют о том, что он всей душой желал, чтобы пожар революции разгорался «долго и неудержимо... пока не запылает и не сгорит весь старый мир дотла» (VIII, 96).
Конечно, поэма трактовалась разноречиво, но уже тот факт, что она была выпущена подпольно, в качестве листовки в тылу у Колчака, а также то, что в центральном органе партии большевиков — газете «Правда» в номере от 18 января 1919 г. говорилось о том, что Блоку в поэме «Двенадцать» удалось «в художественных образах выявить душу народа, или, что то же, душу революции»,— это уже достаточно явные доказательства неправоты Маяковского, утверждавшего, что поэма была одинаково приемлема для обоих лагерей.
Выбор был сделан Блоком решительно и бесповоротно. И если в душе его и возникало иногда чувство тоски или сожаления о своем прошлом, о Шахматове, с которым были связаны лучшие годы его жизни, то он всегда заглушал эти чувства, еще раз противопоставляя им высокую справедливость революции, ее возмездия прошлому. «Когда во время революции было разгромлено его имение Шахматово, он словно и не заметил утраты. Помню, рассказывая об этом разговоре, он махнул рукой и с улыбкой сказал: „туда ему и дорога"»,— вспоминает К. И. Чуковский35.
В одном из последних стихотворных набросков Блока («Русский бред») поэт решительно отказывает себе в праве на какие-либо сожаления о прошлом:
Потому что там и тут,
В кучу сбившиеся тупо,
Толстопузые мещане
Злобно чтут
Дорогую память трупа 36, —
т. е. старого мира, и поэт хочет оградить себя от всяких соприкосновений с этими плакальщиками.
34 Эта мысль в последние годы высказывается в работах наших литературоведов— см. например, статьи: Е. Аксенова. А. Блок. «Двенадцать».— «Вопросы литературы», 1957, № 7, стр. 33—34; кн.: 3. П а п е р н ы й. Поэтический образ у Маяковского. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 208, 237; Вл. Орлов. Поэма Александра Блока «Двенадцать». Страница из истории советской литературы. М., Гослитиздат, 1962, стр. 176.
35 К. Чуковский. Люди и книги (глава «Александр Блок»). М., Гослитиздат, 1960, стр. 534.
36 «Дневник Ал. Блока. 1917—1921 гг.», стр. 116—117.
Никогда для Блока не были равноценными ощущения — «хорошо!» и «библиотеку сожгли», и неправота Маяковского может быть объяснена только при учете большого накала и остроты той борьбы за новое искусство, которую вел поэт в сложных условиях литературной жизни начала 20-х годов. Одним из объектов этой борьбы были декадентские группировки, поэтому и сам Блок воспринимался Маяковским прежде всего как символист. Если до Октября Маяковский выделял Блока из среды символистов, то теперь он подчеркивал связи Блока с этим течением, считая, что именно эти связи помешали Блоку выбрать — «славить» или «стенать» («...Символисту надо было разобраться, какое из этих ощущений сильнее в нем» —12у 22), а также выработать новые поэтические средства для создания поэзии, соответствующей революционной эпохе.
«Блок честно и восторженно подошел к нашей великой революции, но тонким, изящным словам символиста не под силу было выдержать и поднять ее тяжелые, реальнейшие, грубейшие образы. В своей знаменитой, переведенной на многие языки поэме „Двенадцать" Блок надорвался» (12,21).
Конечно, близость Блока к символизму здесь явно преувеличена, эти связи были в значительной степени преодолены Блоком еще до революции, а что касается поэтики «Двенадцати», то Маяковский в более поздних высказываниях приводил ее как образец новаторства, рожденного революцией37. Но в начале 20-х годов статья о Блоке, связанная с общей борьбой Маяковского за новое искусство, оказалась в значительной мере направленной против символизма как одной из самых активных в недавнем прошлом декадентских группировок.
К 1927 году— году создания поэмы «Хорошо!» — борьба с символизмом уже стала историей. В 1928 г. Маяковский писал об этом: «Подъем и опадание многих литератур, символисты, реалисты и т. д., наша борьба с ними — все это, шедшее на моих глазах: это часть нашей весьма серьезной истории» (1, 29).
В поэме «Хорошо!», повторяя свою мысль о двойственном отношении Блока к революции, Маяковский объясняет эту двойственность уже не столько принадлежностью Блока к символизму, сколько его происхождением, связью его с «усадебной» Россией.
Непосредственная полемика с Блоком сконцентрирована в одной — седьмой главе поэмы, но вся концепция революции в поэме полемична по отношению к «Двенадцати». Конечно, нельзя считать, что поэма «Хорошо!» задумапа только как последовательная полемика с «Двенадцатью»; у Маяковского были иные творческие цели — осмыслить путь Советской страны в первое десятилетие ее существования, показать великую преобразовательную силу революции.
37 Статьи: «Как делать стихи?», 1926 г. (12, 85) и «Выступление в клубе рабкоров «Правды»», 11926 г. (12, 484).
Но в процессе работы Маяковский все время помнил о поэме «Двенадцать», как бы учитывал ее. Как известно, большую роль в созревании замысла Октябрьской поэмы сыграло предложение Управления академических театров — дать литературную обработку темы об Октябре для того, чтобы на этой основе мог быть поставлен праздничный спектакль, посвященный 10-летию революции. «Форма литературно обработанной темы может быть различна: поэма, стихи или проза (повесть, рассказ)... Пример формы: «Двенадцать» Ал. Блока» 38.
Нельзя не согласиться с исследователем С. Дрейденом, который считает, что предложение ориентироваться на форму «Двенадцати» сказалось на некоторых поэтических особенностях Октябрьской поэмы — речь идет
38 Цит. по ст.: С. Дрейден. Двадцать пятое (История одного спектакля).— «Звезда», 1957. Л» 7, стр. 176.
о ее динамизме, создающемся быстрой сменой коротких сцен — кадров, о роли диалога в характеристике персонажей, о полифонизме ритмов, об использовании народных песен и частушек.
Революционный процесс в поэме «Хорошо!», так же как и в поэме «Владимир Ильич Ленин», представлен во всей сложности, во взаимодействии разрушительного и созидательного начала, в подчинении стихии разуму и сознательности, в сочетании будничной каждодневной работы с героическим пафосом преобразования мира.
В седьмой главе вопрос о соотношении стихийности и сознательности ставится в центре, дается его осмысление уже не в связи с каким-то конкретным эпизодом, а в общем процессе. Здесь и появляется поэт Александр Блок, воплотивший революцию в образе «ветра на всем божьем свете». Скупые слова Блока о гибели библиотеки и отдельные строки его «Двенадцати» — «уж ножичком полосну, полосну», «запирайте етажи, нынче будут грабежи» — как бы подтверждаются и иллюстрируются строфами, сознательно выдержанными в рптмах разухабистых частушек. Маяковский использует блоковские образы пожара и вихря для передачи стихийного разгула. Но в отличие от Блока он показывает его не самодовлеющим, а подчиненным началу разума и организации — партии («Этот вихрь от мысли до курка...» — 8, 270).
Кроме того, Маяковский четко определяет социальную принадлежность носителей стихии — это прежде всего «глухие крестьяне». Их частушечным выкликаниям в седьмой главе предпослан и противопоставлен четкий марш — рабочая революционная песня, показывающая, что передовой отряд революции ясно понимает цели и задачи движения. Именно отряд рабочих, проходящих по улицам с революционной песней, появляется вместо ожидаемого Блоком Христа.
Уставился Блок —
и Блокова тень
глазеет,
на стенке привстав...
Как будто
оба
ждут по воде
шагающего Христа.
(8, 266))
Подобно швее из «Мистерии-буфф», Блок ждет Христа, шагающего по воде39. И в «Мистерии-буфф» чудо действительно происходило — в разливе потопа появлялся шествующий по волнам — правда, не Христос, а «Человек просто»,— но, в сущности, все равно пророк, указывающий людям
39 Как заметил исследователь Н. Калитин («Слово и мысль». М, изд-во «Советский писатель», 1959, стр. 84), образ очень органичен в этом контексте,—он связан с образом «тонущего Петербурга», проходящим через всю главу, и в то же время — с библейской легендой.
их путь. В поэме «Хорошо!» никакого чуда не происходит — появляются «живые люди», «люди просто», не только по названию, но и по существу.
Если уже в 1921 г. ограниченность блоковского понимания исторического процесса была воспринята Маяковским как двойственное отношение к революции, то в 1927 г. эта мысль была им повторена и усилена. Но Маяковский создал в седьмой главе поэмы не столько портрет поэта Блока, сколько литературное обобщение, персонаж, спор с которым необходим в общей концепции поэмы. Теперь «хорошо» Блока звучит совсем приту-шенно, на первый план выдвигается: «пишут... из деревни... сожгли... у меня... библиотеку в усадьбе» (5, 266). Тонущая старая Россия названа «Россией Блока», при виде ее гибели у Блока появляется «тоска у глаз», выражение его лица «скупее менял», «мрачнее, чем смерть на свадьбе». Такой Блок, каким он представлен в поэме Маяковского, не мог бы призывать: «всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию!» (VIII9 55) — это человек, тоскующий о старом, прочно связанный с миром «взорванной» России.
Конечно, в таком освещении сказался и яростный темперамент Маяковского и вместе с тем — отголоски вульгаризаторского подхода к искусству, присущие теоретикам Лефа. Кроме того, такая оценка Блока связана еще и с борьбой Маяковского против влияния символизма на молодую советскую поэзию.
Маяковский возражал против недифференцированного подхода к поэзии Блока. Естественно поэтому, что какому-то юноше-поэту, не признававшему никого в поэзии, кроме символистов, Маяковский «горячо, зычным, трубным каким-то голосом доказывал, что Брюсов — бездарность, а Блок — талантливый, но „никчемный" поэт» 40. Когда В. Саянов сказал Маяковскому, что любит стихи Блока, Маяковский ответил: «Любить Блока каждый гимназист может... Да и понимать надо, что именно можно любить у Блока... Я Блока, наверно, не меньше вашего люблю, но по-другому» 41.
В то же время он советовал тем молодым поэтам, которых считал достаточно закаленными от «гимназического» отношения к Блоку, учиться у него. «Маяковский разражается страстной речью: — Учитесь, Кирсанов! Учитесь у Блока! Знайте Блока, изучайте Блока. Это — величайший поэт! Через него не перескочишь!» 42.
При всей своей неудовлетворенности блоковским пониманием революции Маяковский счел своим долгом в печати вступиться за Блока, ограждая имя поэта от клеветнических нападок его бывших друзей — эмигрантов 3. Гиппиус и Д. Мережковского. И в этой ситуации Маяковский безоговорочно называет Блока «лучшим из старописательской среды, приявшим революцию» (4, 220).
40 В. Катанян. Маяковский. Литературная хроника. М., Гослитиздат, 1961, стр. 457.
41 В. Саянов. Встречи с Маяковским.—«Нева», 1957, № 4, стр. 172.
42 Евг. Хин. Как живой с живыми.— «Звезда», 1959, № 1, стр. 144.
Маяковский не упустил случая процитировать в 1928 г. блоковские строки, звучащие по-современному, вполне органичные в стихотворении о будущем нашей страны:
За горами угля
и рельс
поезда
пе устанут свистать.
Блок про это писал:
«Загорелась
Мне Америки новой звезда!»
(9, 14)
В своих воспоминаниях о Маяковском Л. Никулин рассказывает: «В мае двадцатого года в последний раз приезжал в Москву Блок. Он выступил в Политехническом музее и читал поэму «Возмездие». На следующий день, случайно, мы встретились с Маяковским в одной частной столовой на Дмитровке.
— Были вчера?
— Был.
— Что он читал? (Маяковский так и сказал «он», как будто речь могла идти не о ком ином, как только о Блоке и о его вечере).
— «Возмездие».
— Успех? Ну, конечно, хотя я не знаю поэта, который бы читал хуже.
Помолчав, он взял карандаш и начертил на бумажной салфетке в две колонки несколько цифр, затем разделил их вертикальной чертой. Я вопросительно посмотрел на него. Указывая на цифры, он сказал:
— У меня из десяти стихотворений — пять хороших, три средних, два плохих. У Блока из десяти стихотворений — восемь плохих и два хороших, но таких хороших мне, пожалуй, не написать. И задумчиво порвал в клочки бумажную салфетку» 43.
Восхищение мастерством Блока, неизменная, хотя и «критическая» любовь к его слову всегда были присущи Маяковскому. Он сумел пронести их сквозь многолетний спор с поэтом, который стал для него «целой поэтической эпохой» {12,21).
43 Лев Н и к у л и н. Воспоминания и встречи.— «Знамя», 1939, № 9.