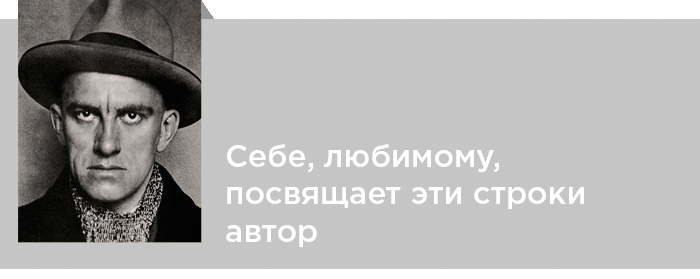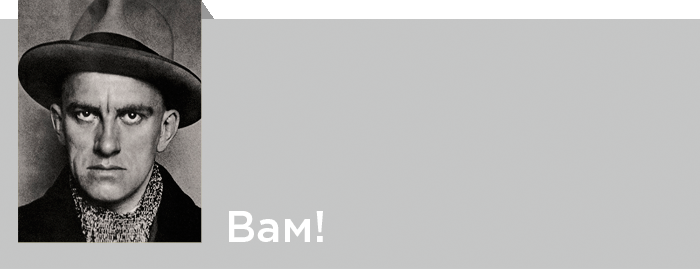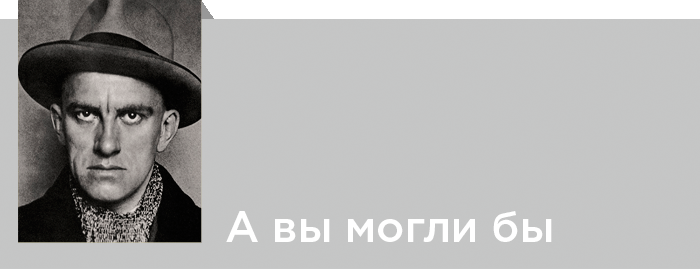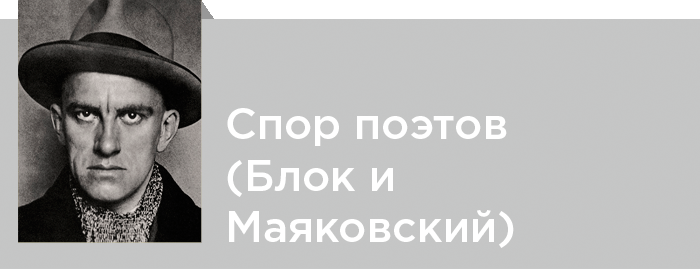Заметки о Маяковском

Харджиев Н. И.
1. ГОГОЛЬ В СТИХАХ МАЯКОВСКОГО
Ни один из русских классиков не упоминался и не цитировался Маяковским так часто, как Гоголь.
Наиболее ранние высказывания Маяковского о Гоголе относятся еще к 1914 г. Так, в статье «Теперь к Америкам» Маяковский говорит о «долгих, бурсацких периодах Гоголя»1.
На первый взгляд, это высказывание может показаться направленным против Гоголя, но в действительности в нем только развертывается обычный тезис молодого Маяковского о невозможности выразить динамику современной жизни в формах, заимствованных из классической литературы.
С теми же основаниями Маяковский мог подставить здесь имя какого-либо другого русского классика.
Характерно, что ни в одном из полемических выступлений молодого Маяковского нет выпадов против Гоголя.
В статье «Бегом через верниссажи», напечатанной в том же 1914 г., Маяковский уже заимствует образ Гоголя (из повести «Страшная месть») для заострения полемики с эклектиками и эпигонами, выставляющими в продолжение многих лет «совершенно одинаковые картины» под флагами разных художественных объединений:
«Смотришь на его <флага — Н. Х.> древко и боишься — вдруг зашатается, выползет из-под него костлявый мертвец и завоет по Гоголю:
— Ох, душно мне, душно!».
Сарказм применения гоголевского мотива в том, что здесь флаг вывески уподобляется намогильному деревянному кресту в повести.
В послеоктябрьский период Маяковский снова и снова возвращается к произведениям Гоголя.
Уже в 1920 г. в поэме «150 000 000» Маяковский в описании дворца гиперболизирует знаменитую фразу Хлестакова в «Ревизоре»:
За лакеями
гуще еще
курьер.
Курьера курьер обгоняет в карьер.
Нет числа.
От числа такого
дух займет у щенка Хлестакова.
Сатирическое стихотворение 1924 г. «Ух, и весело!» даже в своем заглавии ориентировано на заключительную сентенцию «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Скучно на этом свете, господа!».
Стихотворение начинается строками:
О скуке на этом свете
Гоголь говаривал много.
В стихотворении парижского цикла «Кафэ» (1925) Маяковский обращается к персонажам комедии Гоголя «Женитьба»:
Где вы, свахи? Подымись, Агафья!
Предлагается жених невиданный.
Любопытно, что в декабре 1912 г. Маяковский выступал в этой комедии в роли одного из женихов — экзекутора Яичницы. Спектакль был поставлен Д. Бурлюком в домашней обстановке, в Чернянке.
В 1926 г. Маяковский написал замечательное стихотворение «Долг Украине».
Первое четверостишие начинается перефразировкой начала II главы рассказа Гоголя «Майская ночь или утопленница»:
Знаете ли вы
украинскую ночь?
Нет,
вы не знаете украинской ночи!
Здесь
небо
от дыма
становится черно́,
и герб
звездой
пятиконечной вточен.
Маяковский изменил только интонацию, — на прямое отрицание. Ср. лирическое восклицание у Гоголя: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!»
В том же стихотворении Маяковский вспоминает и о герое другого произведения Гоголя — о Тарасе Бульбе.
Работа Маяковского над прозаическими пьесами, начавшаяся в 1926 г., воскресила его юношеский интерес к драматургии Гоголя. Я здесь не касаюсь вопросов о воздействии гоголевских комедий на структуру пьес Маяковского «Клоп» (1927) и «Баня» (1929), так как это выходит за пределы моей темы.
Отмечу только, что в набросках первой прозаической пьесы Маяковского «Комедия с убийством» (1926), над которой поэт предполагал возобновить работу в 1929 г., варьируется начальная сюжетная ситуация «Ревизора» и есть даже текстуальные совпадения:
Она: Министр? Он не министр, а полномочный министр.
Он: Так просто полномочный? Он — господин, господин полномочный!
Она: Так вот и господин? Он — его превосходительство господин.
И дальше:
Он: Слышишь? Едут!
Она: Едут!
И еще дальше:
Он: Подожди, подожди, как это он сказал: без шуму. Тэк-тэк-тэк-тэк-тэк. Тсс. Инкогнито. Всё — понимаю. Они инкогнито.
В сохранившемся наброске сцены (откуда приведены цитаты) зафиксирована следующая ситуация: мистер Соб Акин и его жена, живущие в одной из стран Латинской Америки (вероятно, в Мексике), ждут приехавшего по командировке из СССР своего родственника Смычкина, которого они считают «высокопоставленным лицом».
На диспуте о постановке «Ревизора» 3 января 1927 г. Маяковский дал такую оценку пьесы Гоголя: «„Ревизор“, несомненно, относится по тексту и по авторскому заданию к величайшим произведениям, которые у нас есть».
Тогда же — в стихотворении «Наше новогодие», напечатанном 1 января 1927 г., у Маяковского впервые оживают образы персонажей комедии «Ревизор» в сатирической проекции в современность:
Не купая
в прошедшем взора,
не питаясь
зрелищем древним,
кто и нынче
послал ревизоров
по советским
Марьям Андревнам?2
Ср. в сатирическом стихотворении «Стабилизация быта» (1927), где в строках:
жене,
приятной во всех отношениях
легко узнать «даму, приятную во всех отношениях» из девятой главы «Мертвых душ».
Еще более убедительно свидетельствуют о близости творчества Гоголя Маяковскому те случаи, когда Маяковский видоизменяет или развертывает образы Гоголя в своих стихах и поэмах.
Один из самых ранних примеров — в прологе к «Облаку в штанах» (1915). Самая тема сравнения:
Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке...
несомненно определяется гоголевскими образами ленивых слуг: Осип в «Ревизоре», любящий валяться на постели хозяина, чичиковский Петрушка, которому особенное удовольствие доставляет читать книжки «более в лежачем положении...», и особенно лакей майора Ковалева («Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок...»).
В поэме «Война и мир» (1916) Маяковский превратил гоголевский сказочный образ Вия в грандиозную метафору:
Слушайте!
Из меня
слепым Вием3
время орет:
«Подымите,
подымите мне
веков веки!».
В незавершенной поэме «Пятый Интернационал» (1922) образ Тараса Бульбы также переводится в план космического пейзажа:
Кажется,
над сечью облачных гульб
в усах лучей
головища Тарасов
Бульб.
Резко-сатирическая реализация метафоры в стихотворении «Сергею Есенину» (1926) основана на реплике городничего из комедии «Ревизор».
У Гоголя: «Что это за скверный город: только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор, черт их знает, откудова и нанесут всякой дряни».
У Маяковского:
Вам
и памятник еще не слит, —
где он,
бронзы звон
или гранита грань?
а к решеткам памяти
уже
понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь
В стихотворении «Екатеринбург-Свердловск» (1928) Маяковский развертывает образы из рассказа Гоголя «Заколдованное место»:
И...
Заколдованное место:
вдруг
проспект
обрывает разбег.
Просыпали
в ночь
расчернее могилы
звезды — табачишко
из неба кисета.
Примеры эти, конечно, не исчерпывают всех случаев обращения Маяковского к Гоголю.
Заглавия двух сатирических стихотворений 1928 г. восстанавливают в памяти читателя образы «поэмы» Гоголя: «Фабрика мертвых душ» и «Плюшкин (послеоктябрьский скопидом обстраивает стол и дом)», а в стихотворении «Юбилейное» (1924) есть ироническое сравнение пушкинистов с тем же Плюшкиным.
Упоминания о Гоголе — в поэмах «Рабочим Курска» (1923) и «Ленин» (1924) и в стихотворениях «Массам непонятно» (1927) и «Слегка нахальные стихи товарищам из Эмкахи» (1928).
Несомненно, что Гоголь был близок Маяковскому не только как сатирик, но и как гениальный новатор, величайший поэт русской прозы.
Уже в первой стихотворной пьесе Маяковского — трагедии «Владимир Маяковский» (1913) — есть отдельные места, непосредственно восходящие к Гоголю.
Так, характеристика поэта Маяковского, данная одним из персонажей трагедии — тысячелетним стариком:
...вижу в тебе на кресте из смеха
распят замученный крик
представляет собой поэтическую перифразу гоголевского «смеха сквозь слезы». Ср. в главе VII «Мертвых душ»: «И долго еще определено мне идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы» и в финале «Театрального разъезда» (монолог Автора): «Кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете!»4
Неожиданная персонификация «Поцелуя», у которого сначала «выросли ушки» и который потом начал вести самостоятельное существование, может быть сопоставлена со столь же фантастическим очеловечиванием Носа в повести Гоголя.
Маяковский ценил в произведениях Гоголя поэтическое видение внешнего мира (см. знаменитый динамический пейзаж в «Невском проспекте»), насыщенность языка Гоголя фольклорным материалом и экспрессивными словообразованиями, гиперболизм сравнений и неожиданность метафор, двуплановость гоголевского стиля, в котором пересекаются элементы комического и трагического, богатство и разнообразие интонаций и речевых характеристик героев.
Сравнительное изучение поэтических приемов Гоголя и Маяковского было начато Андреем Белым в его книге «Мастерство Гоголя» (М., 1934, глава «Гоголь и Маяковский»). Андреем Белым указано родство системы гиперболических образов Гоголя и Маяковского и сходство некоторых принципов их словотворчества.
Приведенный и проанализированный материал подтверждает необходимость дальнейшей разработки этих вопросов.
2. КАЛАМБУР МАРКИЗА БЬЕВРА
В стихах Маяковского есть образы, находящие неожиданные аналогии в русской и мировой поэзии. Не всегда можно доказать, что образ Маяковского непосредственно восходит к данному источнику (возможны совпадения, объясняющиеся близостью стилевых систем), но в некоторых случаях зависимость эта несомненна.
Маяковский читал и знал не только современных ему поэтов, но и русских классиков, и народную поэзию, и переводы стихов западноевропейских поэтов (преимущественно — французских).
Строки, начинающие стихотворение «Кофта фата» (1913):
Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего —
производили громадный эффект смелым сочетанием отдаленных понятий.
Валерий Брюсов в статье «Год русской поэзии» (1914)5 иронически заметил, что такую метафору «не хитро сочинить». Брюсов, вероятно, думал, что этот образ просто реализует разговорное выражение: «бархатный голос» (бархатный баритон). Между тем, источник этого образа — эпиграф к главе I «Египетских ночей» Пушкина: «— Quel est cet homme?— Ha, c’est un bien grand talent, il fait de sa voix tout ce qu’il veut.— Il devrait bien, madame, s’en faire une culotte»*. Эпиграф этот, заимствованный Пушкиным из «Альманаха каламбуров» (1771) маркиза Бьевра, в пушкинское время был элементом распространенного анекдота.
Новизна образа Маяковского в том, что он превратил каламбур в поэтическую реальность, связав его с метафорой разговорного языка6.
3. РОГ РОЛАНДА
В стихотворении «От усталости» (1913) Маяковский говорит о себе:
В богадельнях идущих веков,
может быть, мать мне сыщется;
бросил я ей окровавленный песнями рог.
Этот трагический образ восходит к средневековому французскому эпосу «Песнь о Роланде»7:
С усилием отчаянным и болью
Трубит Роланд — багряной, свежей кровью
Его уста покрыты...
4. «LE VASE BRISÉ»
Среди образов раннего Маяковского дважды повторяется метафора, выпадающая из системы его стиля. Она напоминает метафоры первых русских символистов, выражавших душевные состояния и проявления эмоций словами, имеющими конкретное, вещественное значение (см., например, в стихах Э. Мартова в третьем сборнике «Русские символисты», 1895: «Сердца луч из серебра волнений... и дрожа, звучит хрусталь молений...» — Курсив мой. — Н. X.).
У Маяковского:
Если станет жалко мне
вазы вашей му́ки,
сбитой каблуками облачного танца...
(«Несколько слов о моей маме», 1913)
...из севрской му́ки изваянных ваз.
(«Облако в штанах», 1915)
Л. Ю. Брик в беседе правильно объяснила генезис этого образа.
Маяковский хорошо знал поэзию Апухтина. Ироническое упоминание об Апухтине есть и в статье «И нам мяса!» (1914) и в стихах «Мое к этому отношение» (1915).
Апухтину принадлежит вольный перевод стихотворения Сюлли-Прюдома «Le vase brisé» («Разбитая ваза»). «Разбитая ваза» Апухтина вошла во все сборники стихов, предназначенных для чтения с эстрады, и на текст стихотворения были написаны романсы.
Лирический сюжет этого стихотворения основан на параллелизме: «разбитая ваза» — «разбитое сердце». Маяковский слил обе части параллелизма в один образ.
5. НЕБЕСНЫЙ ПЕЙЗАЖ
Некоторые образы «небесного пейзажа» в стихах молодого Маяковского имеют непосредственным источником произведения его старших современников.
Вот одна из параллелей.
В поэме Маяковского «Война и мир» (1916):
металось солнце,
сумасшедший маляр,
оранжевым колером пыльных выпачкав.
У Д. Бурлюка в первой строфе восьмистишия, напечатанного в сборнике «Требник троих» (М., 1913):
Закат-маляр широкой кистью
Небрежно выкрасил дома.
Маяковский ценил это стихотворение Д. Бурлюка и даже записал его текст, подвергнув вторую строфу стилистической правке.
Особый случай резкого изменения идейно-эмоциональной установки и конструктивной функции заимствованного образа мы находим в поэме «Хорошо!» (1927). В главе 14-й, посвященной годам блокады и интервенции, есть строки:
И вот
из-за леса
небу в шаль
вползает
солнца
вша.
Декабрьский
рассвет,
изможденный
и поздний
встает
над Москвой
горячкой тифозной.
В этой метафоре есть внешнее сходство с началом стихотворения Бурлюка (1913):
Луна, как вша, ползет небес подкладкой
Однако это сравнение Бурлюка имеет целью деэстетизацию, развенчание традиционного поэтического «небесного пейзажа» и восходит к поэтике французских «проклятых поэтов» (Корбьер, Рембо, Лафорг).
Маяковский же придал этому образу «локальный» и социальный характер, связав его с проходящей в 14-й главе поэмы темой голода и тифозной эпидемии.
6. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ
В поэме «Облако в штанах» Маяковский говорит:
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!
Вторично этот образ возникает через три года в пьесе «Мистерия-буфф» (1918), с усложненной системой фонетических повторов:
крушенья Помпеи помпезней, картина разверзлась.
Харджиев Н. И.: Заметки о Маяковском
«МИСТЕРИЯ-БУФФ» С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ МАЯКОВСКОГО А. Е. КАРЕВУ
«Кареву, станковому живописцу, столовый железняк Маяковский»
Ниже надпись Карева, удостоверяющая подлинность автографа Маяковского
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, г. Ленинград
Происхождение образа, несомненно, связано с интересом Маяковского к живописи. В особенности второй вариант заставляет предположить, что поэтическая картина «помпезного» разрушения города восходит к театрально-эффектной композиции Карла Брюллова.
7. ЦИТАТЫ И ПЕРЕФРАЗИРОВКИ
В статье «Два Чехова» (июнь 1914 г.) Маяковский называет Пушкина «веселым хозяином на великом празднике бракосочетания слов». В этой характеристике великого русского классика Маяковский использовал поэтическую формулу В. В. Каменского: «Поэзия — праздник бракосочетания слов» (в сборнике стихов «Танго с коровами», вышедшем в начале 1914 г.). Впервые это определение было дано Каменским в докладе, прочитанном 14 декабря 1913 г. в Харькове, на совместном выступлении с Маяковским и Бурлюком8.
_______
Цитата из рассказа Чехова «Жалобная книга» содержится в литературной автобиографии Маяковского «Я сам» (1922). Цитата эта (заключенная Маяковским в кавычки) находится в главке «Новый сатирикон»: «„В рассуждении чего б покушать“ стал писать в „Новом сатириконе“». См. запись дьякона Духова в «Жалобной книге»: «Проезжая через станцию и, будучи голоден, в рассуждении чего бы покушать, я не мог найти постной пищи».
________
В одном из газетных отчетов о «Первом в России вечере речетворцев» (13 октября 1913 г.) довольно точно зафиксированы высказывания Маяковского, выступившего с докладом «Перчатка»: «Нашелся у него <Маяковского> недурной образ в ответ на указания, что футуризм не нов: и у других могли быть проблески „истинной“ поэзии. Но египтяне, которые гладили черных сухих кошек, может быть, тоже извлекали иногда электрическую искру9. Однако <...> мы прославляем не их, а тех, кто дал огненные зрачки мертвым головам фонарей и тысячи рук поющим дугам трамваев»10.
Через год Маяковский повторил эти высказывания в заключительной части статьи «Без белых флагов»: «Ведь когда египтяне или греки гладили черных и сухих кошек, они тоже могли добыть электрическую искру, но не им возносим мы песню славы, а тем, кто блестящие глаза дал повешенным головам фонарей и силу тысячи рук влил в гудящие дуги трамваев».
Часть фразы, выделенная курсивом, находится в прямой зависимости от начальных строк «урбанистического» стихотворения В. Брюсова «Духи огня», навеянного произведениями Э. Верхарна:
...Как горящие головы темных повешенных,
Фонари в высоте, не мигая, горели.
(«Венок», М., 1906)
_________
Словообразования Маяковского обычно складываются в определенную систему. Но вот в «поэтохронике» «Революция» (1917) можно найти архаическое слово, чуждое его стилевым принципам:
Идем
запутавшемуся миру на выручу!
Это — перефразировка строки из стихотворения Асеева «Осада неба», посвященного памяти юноши-поэта Божидара (в сб. «Леторей», 1915):
Идем, идем к тебе на выручу!
_________
В сатирическом куске поэмы «Во весь голос» (1930), написанном четырехударным хореем, есть строки, перекликающиеся с стихотворным «шаржем» Саши Черного «Мясо» (сб. «Сатиры», СПб., 1910).
У Маяковского:
Кудреватые Митрейки,
мудреватые Кудрейки —
кто их, к черту, разберет!
Ср. у С. Черного:
Дипломат, шпион иль повар?
Но без формы — люди братья —
Кто их, к черту, различит?..
Последняя строка с незначительным изменением (замена рифмового слова) вошла в поэму Маяковского.
Как известно, в стихотворении «Сергею Есенину» (1926) Маяковский полемически перефразировал две последние строки предсмертного стихотворения Есенина:
В этой жизни
помереть не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.
У Есенина:
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Эти строки восходят к заключительной сентенции басни Крылова «Крестьянин и смерть» (1807):
Из басни сей
Нам видеть можно,
Что как бывает жить ни тошно,
А умирать еще тошней.
8. МАЯКОВСКИЙ И ЕЛЕНА ГУРО
Н. Асеев в письме к М. В. Матюшину (от 4 мая 1915 г.) назвал Елену Гуро «первым новатором (по старшинству)» и отметил, что «Маяковский сильно обязан ей...»11.
Это утверждение Асеева слишком категорично, но не лишено некоторых оснований.
Общая идейно-эмоциональная концепция города и буржуазной действительности в творчестве Елены Гуро (в ее первой книге «Шарманка», 1909) имеет родственные черты с творчеством молодого Маяковского.
В стихах и прозе Елены Гуро проходит образ поэта-мученика, одинокого и непонятого буржуазным обществом. Поэт Елены Гуро близок тому образу поэта — трагического шута и непризнанного пророка, который с особенной силой выражен в трагедии «Владимир Маяковский».
В стихотворении Гуро «Город» есть и прямое обращение к сытой буржуазной толпе, предвосхищающее один из идеологических лейтмотивов дореволюционного Маяковского:
...Так встречайте каждого поэта глумлением!
Ударьте его бичом!
Чтобы он принял жизнь свою как жертвоприношение,
В царстве вашей власти шел с окровавленным лицом!
...Чтоб любовь свою, любовь вечную
Продавал, как блудница, под насмешки и плевки,
А кругом бы хохотали, хохотали в упоении
Облеченные правом убийства добряки!
Есть и некоторые аналогии между эмоционально-лирическим и эстетическим восприятием городского пейзажа у Гуро и у Маяковского.
Из книги «Шарманка»:
«Невозможно красивыми кажутся подоконники и водосточные трубы. По дороге к искусству проходят мимо водосточных труб и железных подоконников и они красивы, точно они часть музыкальной пьесы; точно все это на театральных подмостках» (стр. 21).
Это из прозы. А вот из стихов (стр. 158):
...Улыбается вывеске фонарь
И извозчичьей лошади.
Все эти водосточные трубы, фонари и вывески, вещи, населяющие улицу города, становятся героями ранних стихотворений Маяковского.
В 1917 г. А. М. Горький предполагал издать неопубликованную прозу и стихи Елены Гуро. Однако это издание, требовавшее большой подготовительной работы, не осуществилось.
Любопытно, что с произведениями Елены Гуро познакомил Горького именно Маяковский. По свидетельству самого Горького12, Маяковский, беседуя с ним летом 1915 г., «весьма хвалил» книгу Гуро «Небесные верблюжата».
9. ОПЫТ АНАЛИЗА СТИХОТВОРНОГО НАТЮРМОРТА
Поэтические образы не бывают однозначными, одноплановыми. Даже простейший вид метафоры (например, «лысина купола» у Маяковского) предполагает по меньшей мере два смысловых плана: условно говоря, «реальный» объект метафоры (в данном случае — купол собора) и переносный, метафорический — субъект метафоры (лысина). К этим планам в каждой метафоре присоединяются семантические обертоны, дополнительные смысловые и эмоциональные оттенки, вызванные обычным употреблением слова — субъекта метафоры (в приведенном примере слово «лысина» вносит не только дополнительные признаки старости в образ собора, но и эмоциональный тон некоторой пренебрежительности).
Многие стихотворения раннего Маяковского отличаются смысловой многоплановостью. Метафорическая система их сложна и в некоторых случаях требует расшифровки.
Пример — стихотворение 1913 г. «А вы могли бы?»:
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
Это первое декларативное стихотворение Маяковского, где он утверждает право поэзии преображать будничную действительность. Эта основная идея понятна каждому квалифицированному читателю, но ее метафорическое оформление раскрывается не сразу.
Смысловая структура стихотворения определяется двумя основными тенденциями поэзии раннего Маяковского: изображением жизни современного города одновременно в двух планах: живописном (зрительном) и музыкальном (звуковом).
Первый метафорический ряд — своеобразный «натюрморт»: карта (будня), краска из стакана, блюдо студня, чешуя жестяной рыбы. Второй ряд — звуковой: ноктюрн, флейты. Третий ряд, связывающий два предыдущих, — динамические образы: смазал — плеснувши — показал — прочел — сыграть.
Нет необходимости расшифровывать первую метафору, идейно-эмоциональная направленность которой ясна. Это — реализация разговорного выражения: превратить будни в праздник, скрасить (или украсить) жизнь.
Сложнее вторая натюрмортная метафора: «я показал на блюде студня косые скулы океана».
Здесь неожиданный смысловой скачок от студня к океану и, на первый взгляд, неясен объект метафоры. В дешифровке образа может помочь высказывание самого Маяковского, относящееся к тому времени, когда стихотворение еще не было напечатано. 24 февраля 1913 г. на диспуте о современном искусстве, устроенном обществом художников «Бубновый валет», Маяковский назвал это общество «кучкой, размазывающей слюни по студню искусств»13. Ясно, что в переносном значении «студня» Маяковский охарактеризовал застывшее, холодное, неживое искусство и сквозь него показал грандиозный образ бурного океана действительности.
В третьей метафоре — переключение системы образов из живописного ряда в звуковой. Отталкиваясь от зрительной схожести очертания губ с чешуей жестяной вывесочной рыбы (ср. «лунный сельдь» в другом стихотворении 1913 г. — «Уличное»), Маяковский строит образ, подчеркивающий умение поэта видеть в малом большое (даже в уличной вывеске он чувствует зовы новых губ — голоса будущего).
Отсюда уже естественный переход к другому аксессуару городского натюрморта. В финале стихотворения Маяковский задает прямой вопрос тем, кто не умеет претворять жизнь в искусство:
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
Каламбурно-метафорическим путем (трубы-флейты) водосточные трубы превращаются в музыкальный инструмент, на котором поэт — настоящий поэт города — может сыграть даже такие тонкие и нежные музыкальные пьесы, как ноктюрн или колыбельную песню — berceuse (ср. в тезисе доклада Маяковского 1913 г.: «berceuse оркестром водосточных труб»).
Так основная метафора рождает ряд производных, подчиненных одной цели, одному идейному заданию.
10. ТЕМА И МЕТОД АННЕНСКОГО
Первый сборник стихов Маяковского «Я!» (1913) вызвал несколько отзывов в журналах и газетах.
Из этих отзывов заслуживают внимания только два: В. Брюсова и С. Боброва.
Брюсов в своем обзоре «Год русской поэзии» (1914) отметил, что у Маяковского в «маленьком сборнике» («Я!») и в «его стихах, помещенных в разных сборниках, и в его трагедии встречаются и удачные стихи и целые стихотворения, задуманные оригинально»14.
В полемической статье С. Боброва, напечатанной в девятом альманахе эгофутуристов (1913), мы находим следующее высказывание о стихотворении «Несколько слов обо мне самом»: «В брошюре Маяковского „Я!“ последнее стихотворение действительно совсем приятно, но большое влияние Анненского налицо»15.
Это утверждение основано на чисто внешнем сходстве нескольких слов из последней строфы стихотворения И. Ф. Анненского «Тоска припоминания» с начальными строками стихотворения Маяковского.
Тема стихотворения Анненского — бессонница одинокого поэта, тема Маяковского — одинокий поэт ночью на улице большого города.
По развитию темы и по ее метафорическому напряжению Маяковский далеко отходит от интимно лирического сюжета Анненского.
У Анненского ночь дана только через импрессионистическую метафору абсолютной тьмы — небытия:
Мне всегда открывается та же
Залитая чернилом страница.
Я уйду от людей, но куда же,
От ночей мне куда схорониться?
У Маяковского ночь персонифицирована, она (как и другие предметы городского пейзажа) становится участником лирической трагедии:
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор.
Неожиданная начальная фраза об умирающих детях в стихотворении Маяковского в свое время вызвала упреки в «аморальности». Упреки эти объясняются полным непониманием социальной основы и идейного задания стихотворения.
Это — горький сарказм поэта, перед глазами которого не раз проходили похоронные процессии («гроба том»), поэта, который знает непрерывное чередование радостных и сумеречных эмоций («прибой смеха за тоски хоботом»).
Ср. в стихотворении «Вывескам» (1913) тот же контраст быстрого веселого мелькания световых реклам с медлительно-печальным шествием похоронной процессии:
А если веселостью песьей
закружат созвездия «Магги» —
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.
Заключительные строки стихотворения «Несколько слов обо мне самом» развертывают фантастическое сравнение:
Я одинок, как последний глаз
У идущего к слепым человека.
Это — предельное выражение одиночества, не «камерного» одиночества поэта в своей комнате, а социального одиночества поэта на улице.
Сходство между Анненским и Маяковским нельзя искать в отдельных темах или стихотворениях, но несомненно, что некоторые черты поэзии Анненского были близки Маяковскому в период его поэтического формирования.
О том, что Маяковский знал стихи Анненского, свидетельствует упоминание имени автора «Кипарисового ларца» в стихотворении «Надоело» (1916) наряду с именами Тютчева и Фета.
Для Анненского характерно синтаксическое напряжение стиха, неожиданные ходы импрессионистических метафор и сравнений, сдвигающих привычные отношения к предметам, перебои высокой поэтической лексики прозаизмами и словами специальных технических диалектов (все эти конструктивные элементы получили развитие в стихах Пастернака).
У Анненского были и опыты «демократических» жанров: базарного раешника («Шарики») и сатирического стихотворного фельетона «Нервы» (с характерным подзаголовком «Пластинка для граммофона»). Здесь Анненский предвосхищает многочисленные «антимещанские» стихи поэтов «Сатирикона» (Саша Черный, П. Потемкин, В. Горянский).
Особенно интересно стихотворение Анненского «Разлука (Прерывистые строки)», построенное целиком на перебоях метров и на резких контрастах длинных строк с короткими, вплоть до односложных и даже однофонемных («Как в забытьи/И...»).
Истерические восклицания и повторения в этом стихотворном монологе временами напоминают об «Анафеме» (1916) Маяковского:
Этого быть не может,
Это — подлог...
(Анненский)
Нет.
Это неправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!
(Маяковский)
В исследовании возникновения и развития поэтического метода Маяковского нужно стремиться не столько к установлению случаев текстуальной близости его произведений к стихам того или иного поэта (кстати, благодаря новаторской установке Маяковского такие случаи крайне редки), сколько к выяснению диапазона поэтической культуры Маяковского: нужно исследовать стиховые системы тех поэтов, которых он знал и у которых были отдельные конструктивные элементы, близкие к его поэтическому методу.
11. РАЗОРВАННАЯ РИФМА ЭДГАРА ПО
Ранние стихотворения Маяковского, в которых он применял рифмовку начала строк и рифмовку целого слова со словами, рассеченными на части («Утро» и «Из улицы в улицу»), получили противоречивую оценку в статье Валерия Брюсова «Футуристы» (1913)16.
С одной стороны, Брюсов считал эти рифмы «крайностями», с другой стороны — он указал на то, что подобные приемы применялись задолго до Маяковского, а именно в поэме «Eldorado» Эдгара По:
Over the moun-
Tains of the moon17
Брюсовым правильно указан первоисточник, но интересно проследить путь, по которому прошли эти рифмы от Эдгара По до Маяковского.
У Эдгара По разорванная рифма применена в лирической функции в стихотворении балладного строя.
Шарль Бодлер, переводивший По на французский язык и пропагандировавший его творчество, написал стихотворение, целиком построенное на разорванных рифмах. Это — «Бурлескный сонет» («Sonnet burlesque», 1845), из которого следует процитировать заключительные шесть строк:
О Meuri —
Ce! il mûri —
Ra, momie.
Ce truc-là
Mène à l’A
Cadémie.
В отличие от Эдгара По, в сонете Бодлера каламбурное использование системы разорванных рифм придало им комическую функцию18.
Иннокентий Анненский, поэт, связанный со стиховой культурой французского символизма, следовал за Бодлером в своем шуточном сонете «Перебои ритма»:
Узнаю вас, близкий рампе,
Друг крылатый эпиграмм, Пэ —
— она третьего размер.
Вы играли уж при мер —
— цаньи утра бледной лампе
Танцы нежные Химер19.
В ранних стихотворениях Маяковского встречаются разорванные рифмы такого же типа, как у По, Бодлера и Анненского: Ночь — поч-та в стихотворении «В авто»; но́ги — но ги́-бель в стихотворении «Утро» (вторая рифма — случай, осложненный несовпадением ударений). В основном же стихотворения раннего периода построены на составных рифмах, в которых используются и служебные части речи: союзы и предлоги (глаза — а за).
В дальнейшей своей поэтической работе Маяковский применял три принципиально новых и очень тонких приема рифмовки.
Первый тип может быть назван перекидной составной рифмой20. В ней конец строки рифмует с концом другой и с началом третьей:
Теперь и мне на запад!
Буду идти и идти там,
пока не оплачут твои глаза
под рубрикой
«убитые»
набранного петитом
(«Война и мир», 1916)
Второй тип — разнесенная рифма, в которой рифмуют начало и конец одной строки с концом другой:
Последний на штык насажен.
На̄ш̄и отходят на Ковно,
на сажень
человечьего мяса нашинковано.
(«Война и мир», 1916)
Третий тип — спрятанная рифма, в которой начальное или срединное слово одной строки рифмует с концом другой:
Раздражало вначале:
нет тебе
ни угла ни одного
ни чаю,
ни к чаю газет.
Постепенно вживался небесам в уклад.
Выхожу с другими глазеть...
(«Человек», 1917)
И наконец, возможны случаи совмещения двух принципов, например, перекидная и одновременно спрятанная рифма:
Сразу —
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
по́ сто
ринулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.
(«Революция», 1917)
12. ЭВОЛЮЦИЯ РИФМЫ МАЯКОВСКОГО
Процесс развития составной рифмы у Маяковского очень интересен для исследования, если только рифма не рассматривается как деталь звукового оформления стиха. В действительности рифма, как и все другие элементы стиха, является частью сложной словесной конструкции, в которой смысловые и фонетические стороны слова находятся в неразрывной взаимосвязанности и взаимодействии. Поэтому в количественном накапливании признаков новой рифмы у Маяковского и в качественном ее изменении, так же как и в других сторонах его поэзии (в языке, в системе образов, в ритмико-синтаксических построениях и пр.), можно видеть одно из проявлений общего процесса: диалектический переход старой стиховой системы в новую — классических камерных форм в чисто тонический, ораторский, митинговый стих.
Оставляя в стороне два или три экспериментальных по заданию стихотворения молодого Маяковского («Утро», «Из улицы в улицу» и отчасти «В авто»), мы видим в его ранних стихах, нередко написанных правильными метрами (четырехударным ямбом и амфибрахиями), полное отсутствие сложных рифм.
Здесь важно отметить, что и в стихах, написанных классическими ямбами и хореями, рифма не только маркирует конец строки, но и играет своеобразную роль усилителя смысла. Это объясняется, с одной стороны, общими ритмическими условиями ямбических и хореических стихов, в которых последнее ударение в конце ритмического ряда не может быть утрачено, и поэтому каждое слово, попадающее на рифмовое место, увеличивает свою весомость по сравнению с остальными. С другой стороны, здесь играет роль фонетическая энергия рифмы: слово в конце строки дает импульс, настраивает на ожидание созвучия, а ответная рифма, возвращая ассоциации к предыдущим строкам и сопоставляя рифмующие слова, создает перекрестную систему словесных смыслов.
В ранних стихах Маяковского мы встречаем чрезвычайно простые с формальной точки зрения типы рифмы, например рифмовку слов одинаковых грамматических категорий (существительных в одинаковых падежах и др.):
Слезают слезы с крыши в трубы,
к руке реки чертя полоски,
а в неба свисшиеся губы
воткнули каменные соски.
(«Кое-что про Петербург», 1913)
Читайте железные книги!
Под флейту золоченой буквы
Полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.
(«Вывескам», 1913).
Несмотря на элементарность своей конструкции, эти рифмы чрезвычайно действенны, потому что в них закреплены наиболее знаменательные для сюжета стихотворения слова, организующие всю его смысловую систему. В первом примере рифмующие слова в третьей и четвертой строках являются носителями метафорических смыслов (губы туч, со́ски фабричных труб). Во втором примере все четыре рифмовых слова ведут вперед тему. Сначала она дана в зашифрованном, перифрастическом виде (железные книги — вывески), но уже в следующих строках она раскрывается через предметные смыслы рифмующих слов, усиленных зрительными, живописными эпитетами. Особенно любопытен здесь тот факт, что основной образ (вывески — железные книги города) развертывается при помощи своего рода рифмовых каламбуров.
Взятые отдельно рифмы «книги — сиги» и «буквы — брюквы» могли бы послужить темой для «буримэ», стихотворения на заданные созвучия. Вне контекста эти рифмы комичны, так как они сталкивают отдаленнейшие смысловые ряды. Однако в общей структуре стихотворения каламбуризм этих звуковых сопоставлений утрачивает свою комическую функцию, сглаживается интонацией патетического воззвания («Читайте!»).
Дальнейшим этапом в развитии поэтической техники Маяковского были поиски более свободных ритмических форм, которые могли дать больший простор для интонации нового поэта, поэта улицы (лирический цикл «Я!» и лирическая «трагедия» «Владимир Маяковский»).
Маяковский разрывает классическую закрепощенность силлаботонической системы стиха и переходит к стиху тоническому. Этот процесс, очень сложный, заслуживает особого детального исследования. Отметим здесь только, что на пути к принципиально-новой поэтической системе у Маяковского возникали и гибридные формы, в которых находились в неустойчивом равновесии новаторские и традиционные элементы. Таковы, например, стихотворения «По мостовой...» и «Несколько слов о моей жене». Первое стихотворение на всем своем протяжении несет в себе инерцию «вольного» ямба, преодолеваемую синтаксисом и рифмами. Во втором стихотворении ямбическое начало перебивается наплывом импульсов амфибрахия и нарушениями законов классической метрики (добавочными слогами или выпадением слогов).
В ряде стихотворений 1913—1914 гг. еще доминирует силлабическая скованность и определенная метрическая канва, но в некоторых стихотворениях уже выкристаллизовываются формы типичного для Маяковского тонического четырехударного стиха.
Одновременно с ритмикосинтаксической перестройкой стиха появляются и составные рифмы: от простейших типов женской рифмы (могла бы — баба, влип как — скрипка) до более сложных дактилических (фраз пяты — распяты, фетровой — ветра вой, мглистый вал — перелистывал). Первый разряд рифм, с лингвистической точки зрения, представляет собой звуковое сопоставление целого вещественно-значимого слова с комплексом: значимое слово плюс служебное слово, попавшее в неударенный слог (такие слова утрачивают ударение и в разговорной речи, примыкая к предыдущему или последующему). Во втором разряде значимое слово рифмует с комплексом: два самостоятельных слова, последнее из которых занимает один или два неударяемых слога. Однако, оставаясь полновесным по смыслу, это слово не может полностью утратить свое разговорное ударение, и в результате столкновения прозаического и ритмического акцентов возникает особый эффект частичного несовпадения рифм (рифмы дактилическая и мужская).
Составные рифмы, впервые появившиеся в сборнике стихов «Я!», становятся одним из основных признаков рифмовой системы Маяковского второго периода (см. в поэмах 1915—1917 гг.).
13. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ПОЭТА
В литературной автобиографии Маяковского есть раздел, озаглавленный «Память». Здесь Маяковский приводит слова Д. Бурлюка: «У Маяковского память, что дорога в Полтаве, — каждый галошу оставит».
Это шутливое высказывание Маяковский относит к своей профессиональной памяти. «Лица и даты не запоминаю», — пишет он там же.
Зато образы и впечатления, дающие импульс для создания стихов, не исчезали из памяти Маяковского.
Один из замечательных случаев воскрешения казалось бы давно забытого образа стал известным благодаря воспоминаниям Д. Бурлюка, напечатанным при жизни Маяковского:
«В 1913 году мы ехали с Владимиром Владимировичем из Москвы в Петроград читать лекцию. Вагон покачивался от быстрого хода. Мы стояли в сенях вагона — в окна чернела беспроглядность пустынной ночи над болотами, мимо которых мы проносились. На черном стекле искрились капельки дождя... Похоже было на паюсную икру. Я сказал Маяковскому об этом.
— Это надо стихами:
Метали рыбы черной ночи
На стекла блесткую икру, —
выразил он одним взмахом.
Позже, года через три, я напомнил ему его экспромт, спросив, не напечатал ли он его где-нибудь.
— Нет. Да мне это теперь и не понравилось бы! Надо сказать: метала рыба, одна, огромная и т. д.»21.
Прошло около десяти лет, и этот образ внезапно возник в более обобщенной и грандиозной форме в поэме «Пятый Интернационал» (1922):
...И на горизонте
где Америка,
небо кроя,
сплошная чернотища выметалась икрою.
По свидетельству Л. Ю. Брик, летом 1916 г. Маяковский прочел ей свое новое произведение, «большую поэму» «Дон-Жуан», которую тогда же уничтожил22. Вероятно, в тот же период Маяковский читал знаменитую поэму Байрона. Через четырнадцать-пятнадцать лет образы, близкие к поэме Байрона, появляются в последней поэме Маяковского «Во весь голос».
У Байрона:
XXXVII
Когда наш мир, из хаоса рожденный,
Вторично будет в хаос превращен,
Когда он, на погибель обреченный,
Исчезнет в мраке будущих времен,
Разрушенный, раздавленный, сожженный,
И допотопным миром станет он, —
Быть может, к удивлению потомков,
Мой труд найдут среди других обломков.
XXXVIII
В том ничего несбыточного нет,
(К трудам Кювье питаю я почтенье).
Рассматривать служивший нам предмет
Грядущие так будут поколенья,
Как смотрим мы на мамонта скелет, —
Как смотрим мы, полны недоуменья,
На остовы гигантов прежних дней
И крокодилов сгинувших морей23.
Тематическую параллель 37-й главки поэмы Байрона мы находим в начальных строках поэмы Маяковского (труд поэта, найденный потомками).
С заключительными строками 38-й главки перекликаются строки 213—216 поэмы Маяковского:
С хвостом годов
я становлюсь подобием
чудовищ
ископаемо-хвостатых 24.
Произведения Байрона были близки Маяковскому злободневностью публицистичностью, сарказмом, столкновением лирического и сатирического планов. Родственен Маяковскому был и самый образ поэта с его обращениями к читателю, разрывающими «объективное» эпическое повествование.
14. О ПРОТЕКАЮЩИХ ОБРАЗАХ
Метафоры, эпитеты и сравнения Маяковского всегда новы и оригинальны. Но любопытно, что в каждом периоде его поэтической работы встречаются образы, повторяющиеся и варьирующиеся в нескольких вещах. Изучение этих «протекающих образов» необходимо, так как они характеризуют идеологическую направленность и эмоциональную тональность его поэзии в определенный период.
Для Маяковского (в каждом циклически завершающемся периоде его творчества) характерно диалектическое развертывание одной или нескольких основных тем (так, например, для периода 1912—1916 гг. — тема борьбы «поэта отверженных» с буржуазным обществом, неразделенная любовь и т. д.). Есть и такие большие темы, которые проходят сквозь все творчество Маяковского, например коллизия между любовью и бытом («Флейта-позвоночник» — 1915 г.; «Про это» — 1923 г.; последние лирические фрагменты — 1930 г.).
Органичность тематических лейтмотивов Маяковского до сих пор еще не подверглась серьезному исследованию. Однако изучение тематики поэта не может быть плодотворным, если темы отвлекаются, абстрагируются от каждого отдельного стихотворения и потом подвергаются арифметическому сложению или сопоставлению.
Тематика — это не сумма тем, а комплекс идейно-эмоциональных мотивов, пронизывающих ряд поэтических произведений. Поэтому нужно изучать процесс развития тем Маяковского, анализируя и сопоставляя не изолированные «темы», а конкретные образы, повторяющиеся, протекающие во многих вещах.
Для раннего Маяковского характерен образ заломленных рук — жест отчаяния. Этот образ переносится и на элементы городского пейзажа и на природу:
Кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?
(«Несколько слов о моей маме», 1913)
...а у мчащихся рек
на взмыленных шеях
мосты заломили железные руки.
(Трагедия «Владимир Маяковский», 1913)
...Слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна
(«Мама и убитый немцами вечер», 1914)
<Земля>
Над вздыбленными волосами руки заломит,
выстонет:
«Господи,
что я сделала!»
(«Война и мир», 1916)
Кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.
(«Себе, любимому, посвящает эти строки автор», 1917)
И даже внешние выражения мажорных эмоций — улыбки, персонифицированные в стихотворении «Чудовищные похороны» (1915), повторяют тот же жест, идя за гробом «умершего смеха»:
...это целые полчища улыбочек и улыбок
ломали в горе хрупкие пальчики.
(«Чудовищные похороны», 1915)
С этим лейтобразом тесно переплетается и другой — образ слез:
Слезают слезы с крыши в трубы.
(«Кое-что про Петербург», 1913)
С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я...
(Трагедия «Владимир Маяковский», 1913)
спрятав глубже слезы морей
(Там же)
Слезя золотые глаза костелов...
(«Мама и убитый немцами вечер», 1914)
Простоволосая церковка бульварному изголовью
припала — набитый слезами куль.
(«Я и Наполеон», 1915)
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.
(«Облако в штанах», 1915)
Число этих метафор можно было бы увеличить, но мы остановимся только на одном примере:
Небо плачет,
безудержно,
звонко;
а у облачка
гримаска на морщинке ротика,
как будто женщина ждала ребенка,
а бог ей кинул кривого идиотика.
(Трагедия «Владимир Маяковский»)
«Небо плачет» — банальное, затасканное в поэзии метафорическое изображение дождя. В нем совершенно выветрился и первичный смысл слова «плачет» и его эмоциональная окраска.
Маяковский развертывает и реализует эту метафору, подкрепляя ее вторичными метафорами, ярко-эмоциональными характеристиками и сравнениями («безудержно», «звонко», «как будто женщина»). И этот воскрешенный образ перерастает свою функцию (изображение дождя) и становится выражением одной из лейттем раннего Маяковского: беспросветный, угнетающий быт городского «адища».
15. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ
Анализ семантики Маяковского обнаруживает наличие в некоторых стихотворениях параллельных метафор, которые нужно отличать от протекающих образов.
Так, в стихотворении «Мы» (1913), прокламируя безграничные возможности, открытые для людей нового поколения техническим прогрессом, Маяковский в заключительных строках внезапно срывается в космический план:
Перья линяющих ангелов бросим любимым на шляпы,
будем хвосты на боа обрубать у комет, ковыляющих вширь.
Антирелигиозная направленность образа вызвала цензурную купюру в первопечатном тексте. В метафоре сплетены два очень важных для идеологии и эстетики раннего Маяковского смысловых лейтмотива: богоборчество и непризнание красоты традиционного в поэзии небесного пейзажа.
Дублируется этот образ в монологе Старика с кошками в трагедии «Владимир Маяковский» (1913), в период работы над которой Маяковский написал стихотворение «Мы»:
Мы солнца приколем любимым на платье,
из звезд накуем серебрящихся брошек.
Ср. прозаическую параллель в ироническом обращении Маяковского к «публике»: «...северное сияние никак не пришить вашей жене на юбку...» («О разных Маяковских», 1915).
16. СМЫСЛОВЫЕ ЛЕЙТМОТИВЫ
В поэзии Маяковского мир оркестрован. Маяковский персонифицирует неодушевленные предметы и абстрактные понятия, делает их участниками грандиозной симфонии. Стих Маяковского живет его голосом. Этим объясняется его декларативное обращение к аудитории и к другим поэтам:
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
(«А вы могли бы», 1913)
Наряду с образами зрительно-предметными, идущими от современной Маяковскому живописи, в его стихах первого периода часто встречаются образы, основанные на слуховых восприятиях:
Был вой трубы — как будто лили
любовь и похоть медью труб.
(«Порт», 1912)
Маяковский создает также синкретические образы, сливая зрительные и слуховые ощущения:
Заиграет вечер на гобоях ржавых.
(«Несколько слов о моей маме», 1913)
Иногда в стихах Маяковского лейтмотивные образы плача переплетаются с образами оркестра:
Скрипка издергалась, упрашивая,
И вдруг разревелась
(«Скрипка и немножко нервно», 1914)
...обиженный выбежал дирижер,
приказал музыкантам плакать.
...Труба — изловчившись — в сытую морду
ударила горстью медных слез.
(«Кое-что по поводу дирижера», 1915)
Нетрудно было бы перечислить метафоры и сравнения Маяковского, в которых фигурируют оркестровые инструменты: «Геликон, меднорожий и потный» (в стих. «Скрипка и немножко нервно»), «любовь на литавры ложит грубый» («Облако в штанах»), «в бубен брюха веселье бейте» (трагедия «Владимир Маяковский») и т. д.
В монументальной поэме «Война и мир» весь мир становится театром, с эстрадой, «колеблемой костром оркестра». Здесь же впервые в русской поэзии Маяковский вносит в ткань стиха музыкальную мелодию (ноты «Аргентинского танго»). В произнесении поэмы Маяковский подчеркивал этот контраст музыки и речи, напевая мелодию.
Однажды Маяковский декламировал свои стихи на фоне звучащего оркестра, перекрывая его мелодии. Об этом свидетельствует неопубликованное письмо Д. Бурлюка и Н. В. Николаевой В. Хлебникову25, посланное 17 марта 1914 г. из Ростова-на-Дону (во время литературного турнэ): «... После лекции — кафэ. Колючки оркестра. Маяковский что-то декламирует. И музыканты и Маяковский заливаются о чем-то».
17. ОРКЕСТР ГОРОДСКИХ ШУМОВ
О стихотворении Маяковского «Шумики, шумы и шумищи» В. Шершеневич писал (1913): «„По эхам города“ слегка напоминает „Смехачей“ Хлебникова (в методе), но превосходит оригинал в своей внутренней обоснованности»26. Это верно только в применении к одному языковому приему: варьированию суффиксов слова «шум». Но сюжет и образы этого стихотворения более тесно связаны с манифестом итальянского художника и музыканта-новатора Луиджи Руссоло «Искусство шумов», опубликованным в марте 1913 г. и переведенным в том же году на русский язык.
В стихотворении Маяковского:
По эхам города проносят шумы
на шепоте подошв и на громах колес...
Проносят девоньки крохотные шумики.
Ящики гула пронесет грузовоз.
Рысак прошуршит в сетчатой ту́нике.
Трамвай расплещет перекаты гроз.
Сравните сформулированные в манифесте музыкально-шумовые темы: «Рысь удаляющейся лошади, скрип повозки по мостовой, торжественное, чуткое дыхание ночного города <...> Звучное скольжение трамваев по рельсам, щелканье хлыстов, колыханье флагов»27.
Композитор С. С. Прокофьев в заметке об изобретенных тогда в Италии шумовых инструментах писал, что они могут прибавить к симфоническому оркестру «любопытные краски»28.
Шумы города вошли как тема не только в поэзию и в музыку, но и в живопись. Не подлежит сомнению, что Маяковский знал композицию М. Ларионова «Уличный шум» (1912).
18. ЗВЕРИНЫЕ ОБРАЗЫ
Сатирическое стихотворение «Вот так я сделался собакой», написанное Маяковским в 1915 г., по заглавию похоже на стихотворение Федора Сологуба «Когда я был собакой».
Стихотворение Сологуба было впервые напечатано в журнале «Новая жизнь» (март 1914 г.), где в том же году сотрудничал Маяковский.
Тема как будто общая, но в развитии сюжета Маяковский отталкивался от чуждой ему идейно-эмоциональной концепции Сологуба. Поэтому, в противоположность обычным сопоставлениям цитат, здесь необходимо их противопоставить.
У Сологуба в образе собаки зашифрован поэт-лирик. Он обращается к прохожему:
Что же ты, глупый, так испугался?
Ведь я же на тебя не лаю.
В жизнь мою никогда я не кусался,
Я только песни, да поэмы слагаю.
Ты не поймешь, что я живу не напрасно,
Что мой подвиг собачий чего-нибудь стоит.
Ведь в полночь никто так печально и страстно,
Как я, на луну не завоет.
У Маяковского, наоборот, поэт, затравленный окружающим его буржуазно-мещанским обществом, неожиданно для самого себя «превращается» в собаку:
Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
Как собака лицо луны гололобой —
взял бы
и всё обвыл.
Превращение поэта в собаку носит еще несколько гротесковый оттенок, но в написанном в следующем году стихотворении «Анафема» Маяковский транспонирует этот мотив в высокий трагический план:
Собакой забьюсь под нары казарм.
Это еще повторение лейтобраза, но дальше возникают апокалиптические видения:
Ночью вско́чите!
Я
звал!
Белым быком возрос над землей...
Лосем обернусь,
в провода
впутаю голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.
Другие фантастические метаморфозы поэта есть в произведениях 1916 г. — «России» («заморский страус»), 1922 г. — «Пятый Интернационал» (сказочный гибрид «людогусь») и в поэме 1923 г. «Про это» («человек-медведь»).
19. ПОЛЕМИКА В СТИХАХ
О молодых русских поэтах, выступивших в 90-х годах XIX в., было написано много статей, доказывающих, что все они — люди психически больные, что их произведения находятся за пределами «здравого смысла».
Некоторые поэты демонстративно принимали эти обвинения и заявляли, что они — вдохновенные безумцы, владеющие тайнами внеразумного постижения мира.
Газетные рецензенты, нападавшие на Брюсова, Бальмонта, Блока, впоследствии выступили с такой же издевательской критикой первых произведений Маяковского.
В 1901 г. реакционный критик В. Буренин писал: «У г. Добролюбова, очевидно, довольно мирное помешательство. А вот г. Бальмонт иногда, кажется, требует „горячечной рубашки“»29.
Через двенадцать лет тот же В. Буренин объявил психически больными Маяковского и его литературных соратников («...обсуждение их опытов... может происходить только в психиатрических заведениях, и эти опыты могут оцениваться специалистами-докторами не с литературной, но с патологической стороны»)30.
Подобные же утверждения повторяются в многочисленных газетных статьях 1912—1915 гг.
Против поэтов-футуристов выступили и некоторые врачи-психиатры. Так, например, в конце 1913 г. д-р Е. П. Радин издал книжку «Футуризм и безумие», где он пытался провести аналогии между словотворчеством молодых поэтов и произведениями душевнобольных.
В стихотворении «Гимн здоровью» (1915) Маяковский делает полемический выпад против авторов этих псевдонаучных сочинений:
И по камням острым, как глаза ораторов,
Красавцы-отцы здоровых томов,
потащим мордами умных психиатров
и бросим за решетки сумасшедших домов!
Отголоском этого стихотворения Маяковского являются строки из неопубликованного варианта стихотворения Хлебникова «Воспоминания» («Достойны славы пехотинцы...»), 1915—191631:
Вас было много: вам был даден
Сам Кусевицкий волче-четкий,
И самым мягким был врач Радин,
Грозя безумного решеткой.
И что ж, вы сами в нее сели,
Да, да, меж нами уже прутья...
20. ЭХО-РИФМА
В «легкой» (юмористической) французской поэзии XVIII в. существовала эхо-рифма (veres en écho), основанная на том, что вторая рифмующая строка состоит из одного слова, целиком входящего в первую рифму.
Она часто применялась в комических стихах Панара (XVIII в.). Позже она встречается и в «высокой» лирике, например в балладе Виктора Гюго:
Si tu fais ce que je désire,
Sire,
Nous r’édifierons un tombeau
Beau...
Из французской поэзии эхо-рифмы были перенесены в XIX в. и в русскую поэзию (в юмористической функции, например в переводах В. Курочкина из Беранже, но изредка применялись и в лирике).
Элементарный пример у Северянина в стихотворении «Эхо»:
Ради шутки, ради смеха
Я хотел бы жить всегда!
Но ответило мне эхо:
«Да!».
(«Златолира», 1914)
Маяковский возродил эту форму, применив ее к стихам с агитационным заданием (1920):
...Если Врангеля и пана добьем,
мир будет тогда?
Да!32
Как всегда у Маяковского, конструктивные элементы, примененные в мелких и даже комических жанрах, в дальнейшем, изменяя свою функцию, переходят и в его монументальные поэмы. Так и «эхо-рифма» в усложненном виде вошла в главу 2-ю поэмы «Хорошо!» (ропот солдат, не желающих повиноваться Временному правительству):
Что же
дают
за февраль,
за работу,
за то,
что с фронтов
не бежишь?
Шиш.
21. ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ РИФМЫ
Маяковский с полным правом мог сказать в статье «Как делать стихи» о своей системе рифм, что до него она «не употреблялась и в словаре рифм ее нет».
Рифма Маяковского — всегда носитель смысла, поэтому она возможна только в определенном контексте.
Маяковский не только не повторял чужие рифмы, но очень редко пользовался дважды рифмами собственными.
Вот единичные исключения.
Знаменитые рифмы концовки «Хорошо!» в эмбриональном состоянии находятся в сатирическом цикле «Маяковская галерея» («не лет же до ста расти — в старости»).
Другой случай — повторение рифмы из «Левого марша» (1918) в агит-стихотворении Роста «Товарищи, смотрите за шептунами» (1920):
Пусть бандой окружат нанятой
...России не быть под Антантой
(«Левый марш»)
В агитстих перешла не только рифма, но и целый синтактико-смысловой комплекс:
...для этого работают агенты Антанты.
Товарищи, следите за бандой нанятой.
С очень интересными изменениями идейной установки и эмоциональной окраски образов связано повторение и варьирование системы рифм на слова: труб, труп.
В трагедии «Владимир Маяковский» (1913) ими скрепляется гротескная метафора:
...в будуарах женщины,
— фабрики без дыма и труб —
миллионами выделывали поцелуи, —
всякие,
большие,
маленькие, —
мясистыми рычагами шлепающих губ.
В 1916 г. в стихотворении «Эй!», иронически проповедующем «театрализацию» будничного быта и возрождение средневековых традиций в современности, есть такая строфа:
И, наконец, ощетинясь как еж,
с похмелья придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.
В 1918 г. Маяковский написал программное стихотворение «Поэт-рабочий», в котором доказывал, что работа поэта — сложный и трудный производственный процесс:
...Может быть,
нам
труд
всяких занятий роднее.
Я тоже фабрика.
А если без труб,
то, может,
мне без труб труднее.
Здесь в новом качестве возродилась метафора из трагедии «Владимир Маяковский»33. Гротескно-сатирическая окраска образа сменилась высокой патетикой.
Почти десять лет спустя — в 1927 г. — все четыре рифмы, встречающиеся в цитированных стихотворениях, воскресли в строфе стихотворения, посвященного строительству новой Москвы:
Вечером
и поутру,
с трубами
и без труб —
подымал
невозможный труд
улиц
разрушенных
труп.
(«Автобусом по Москве»)
22. ПУНКТУАЦИЯ И СМЫСЛ
Вопрос о пунктуации в стихах Маяковского почти не разработан. В рукописях и первопечатных текстах его ранних стихотворений пунктуация вообще отсутствует («...у меня ненависть к точкам. К запятым тоже», — шутливо писал он в автобиографии).
В послереволюционный период Маяковский применял общепринятую пунктуацию, но уделял ей мало внимания. В результате — большинство прижизненных печатных текстов Маяковского отличаются полным отсутствием пунктуационного единообразия.
Встречаются в них и опечатки и неправильности пунктуации, не только противоречащие синтаксису или интонационной установке стиха, но и искажающие смысл.
Так, во многих изданиях произведений Маяковского, прижизненных и посмертных, четвертая строфа «Нашего марша» (1917) печаталась с лишней запятой:
Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг,
лет быстролетным коням.
При такой пунктуации две последних строки приобретают неправильное осмысление (для наглядности приведу их в прозаической конструкции): «Радуга, дай дуг <и дай> лёт быстролетным коням».
В действительности запятая после слова «дуг» не нужна. Тогда получается правильное чтение (опять-таки для наглядности устраняю инверсию и привожу фразу в прозаической редакции): «Радуга, дай дуг быстролётным коням лёт».
Этот динамический образ «коней лет» противопоставляется развернутому в первой строфе образу «быка дней», который «медленно» тащит «арбу лет».
23. ГОРЬКИЙ О МАЯКОВСКОМ
4 декабря 1920 г. в петербургском «Доме искусств» состоялся вечер Маяковского. Поэт прочел свое новое произведение, сказочную эпико-сатирическую поэму «150 000 000».
Во время пребывания в Петербурге (8 декабря) Маяковский написал в альбом К. И. Чуковского «Чукоккала» шуточное стихотворение с иллюстрациями — автошаржами и карикатурными портретами А. Ахматовой и К. Чуковского — «Окно сатиры Чукроста» (текст и рисунки см. выше, стр. 186—187)34.
Пародийное «Окно сатиры Чукроста» представляет собой полемический ответ на лекцию «Ахматова и Маяковский», впервые прочитанную К. Чуковским за 24½ месяца до приезда Маяковского. В этой лекции К. Чуковский охарактеризовал Маяковского, как «вдохновенного громилу», поэта, у которого нет никаких предков.
«Окно сатиры Чукроста» (хотя оно и не было опубликовано поэтом) задело Чуковского и он послал Маяковскому письмо. Маяковский ответил лаконичной запиской и четверостишием «Обязательное постановление», датированным 10 декабря 1920 г.:
Всем в поясненье говорю:
для шутки лишь Чукроста.
Чуковский, милый, не горюй —
смотри на вещи просто!
Ср. в записке Маяковского: «Мое „Окно сатиры“ — это же не отношение, а шутка и только!»35.
«Обязательное постановление» является автопародией на разговор поэта с солнцем — «Необычайное приключение...» (1920), тогда еще неопубликованное:
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!».
После возвращения Маяковского в Москву лекция Чуковского была напечатана в № 1 журнала «Дом искусств» (1921). Одним из членов редакционной коллегии был А. М. Горький. У Чуковского сохранился интереснейший автограф Горького — его критический отзыв о статье «Ахматова и Маяковский». Парадоксальное утверждение Чуковского о том, что у Маяковского отсутствуют литературные «предки», вызвало со стороны Горького решительный отпор36. Привожу неопубликованный отзыв Горького полностью:
«Маяковский — „сам свой предок“37 — недопустимо, и здесь некоторая оговорка — указание на его зависимость — подмеченную автором — от Игоря Северянина и — раньше — от Саши Черного. Последний давал в стихах своих не мало резкостей и грубостей, порою не менее значительных и правдивых, чем Маяковский. Это не важно, что острие сатиры Черного было направлено против интеллигента, — здесь речь идет о форме, о преемственности. Как-то, в Мустамяках, Маяковский изъяснялся в почитании Черного и с удовольствием цитировал его наиболее злые стихи».
Горький всегда отрицательно отзывался о пошловатой «ресторанно-будуарной» тематике Игоря Северянина, но ценил подлинность его лирического дарования. В известной статье «О футуризме», напечатанной в апреле 1915 г., Горький упомянул Северянина наряду с Василием Каменским и Маяковским, которого он считал наиболее талантливым из молодых поэтов.
В статье Чуковского отмечены глагольные эксперименты Маяковского и Северянина. Несмотря на частые срывы в языковую и стилистическую безвкусицу, Северянин все же создал ряд словообразований, соответствующих законам русского языка. Несомненно, что некоторые типы неологизмов были подсказаны Маяковскому Северянином. Таковы, например, производные глаголы (олунить, окалошить, оэкранить и т. п.). Ср. у Маяковского: огромить, овазиться.
Еще большей меткостью отличается второе замечание Горького — о связи поэтической системы Маяковского с сатирой Саши Черного. Продолжатель традиции обличительной фельетонной поэзии 1860-х годов, Саша Черный был близок Маяковскому тенденциями к деканонизации высоких лирических тем. Публицистическая установка и «непоэтическая» фразеология произведений Маяковского, напечатанных в журнале «Новый Сатирикон» (1915—1916), восходят к стихотворным памфлетам Саши Черного38. Впоследствии, в своей краткой литературной летописи «Я сам» (1922), Маяковский назвал Сашу Черного «почитаемым» поэтом.
24. МАРШИ МАЯКОВСКОГО
Между поэзией и музыкой в разные периоды устанавливаются различные взаимоотношения, и исследование этих притяжений и отталкиваний может многое объяснить в вопросе о возникновении новых поэтических стилей.
Русские поэты-символисты ориентировались или на камерную музыку импрессионистского направления (Скрябин периода прелюдов, Дебюсси, Григ), или на монументальные, «соборные» музыкальные формы (Скрябин эпохи «поэм»).
Сам Скрябин находил «много сходства» между словоновшествами Бальмонта и своими «гармониями раннего периода»39.
Второе поколение символистов в своей практике приблизилось к салонной музыкальной культуре модернизма.
Так, например, В. Гофман писал стихотворения на темы о вальсах, построенные на характерных трехдольных вальсовых ритмах («Valse masquée»).
Вскоре Игорь Северянин, продолжая традицию Бальмонта — Лохвицкой — Гофмана, начал писать многочисленные стихотворные вальсы.
Особое явление — идущая от Аполлона Григорьева и Полонского ориентация Блока на цыганские романсы.
Начавшееся в 1909 г. расслоение символизма и возникновение новых поэтических школ повлекло за собой вторжение в поэзию фольклорного материала.
Начало этого процесса — в творчестве Андрея Белого, который в своем сборнике «Пепел» воскресил жанры Некрасова.
В стихи Белого ворвалась мелодика и ритмика фольклорных плясок («Веселье на Руси», «Песенка комаринская»).
Установка Белого на уличный, «босяцкий» фольклор была воспринята поэтами «сатириконцами», работавшими в области публицистических и юмористических жанров.
У П. Потемкина в стихотворении «Пьяница» воспроизводится мотив разгульной плясовой:
Пьян-то кто? Пьян-то я!
Почему я пьян-то?
Разлюбила меня,
Полюбила франта.
(«Смешная любовь», 1908)
Саша Черный пишет стихи на мотив польки («Совершенно веселая песня») и пародирует звон колоколов, сводя его к ритму барабанной дроби (ср. фольклорные песенки о «барабанщиках»):
Дал-дам! Праздничные взятки.
Дам-дал! И этим, и тем.
Пили-ели! Визиты в перчатках.
Ели-пили! Водка и крем.
(«Пасхальный перезвон» в сб. «Сатиры», 1910)
А. Н. Толстой, дебютировавший как поэт и вслед за Бальмонтом и Городецким разрабатывавший в своих стихах фольклорный материал, дал образец острого плясового ритма в стихотворении «Заклятье смерти»:
Мы распашем твердь, твердь!
Заклинаем смерть, смерть!
Чур огневый, глянь, глянь!
По оврагам прянь, прянь!
Смерть таится, выгонь, выгонь!
К нам на ровный выгон, выгон...
(«За синими реками», 1911)
Эта экстатическая пляска уже предсказывает казацкую «Песню сотен» Н. Асеева:
Соловее, вей, вей,
Запороги, гей, гей,
Запороги-вороги —
Головы не дороги!
(«Зор», 1914).
В том же 1914 г. Асеев впервые применил на протяжении всей строки сплошные «спондеи» — столкновение полнозначных ударных слов:
Ой, в пляс, в пляс, в пляс!
Есть князь, князь, князь —
Светлоумный, резвоногий,
Нам его послали боги.
(«Оксана», 1916)
Ритмическое новаторство Маяковского — внесение в поэзию орхестических ритмов — было предопределено и подготовлено проанализированными здесь произведениями.
Маяковскому были хорошо известны и плясовые стихи Белого, и стихи «сатириконцев», оказавших непосредственное воздействие на его поэтический метод, и ритмические опыты его соратника и друга Асеева40.
Здесь — истоки созданных Маяковским небывалых в русской поэзии ритмов стихотворных маршей.
Первый опыт — «Наш марш» (1917), в котором нечетные строки пронизаны спондеями:
Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.
В 1918 г. написан наиболее популярный из маршей Маяковского «Левый марш», переведенный на множество языков.
Жанр стихотворных маршей разрабатывался Маяковским до последних лет его поэтической деятельности (в 1920 г. написан «III Интернационал», в 1922 — «Мой май», в 1923 — «На цепь», «Барабанная песня», «Марш комсомольца», в 1924 — маршевые рефрены в стихотворениях «Комсомольская», «На учет каждая мелочишка», в 1925 — «Выволакивайте будущее» и марш в поэме «Летающий пролетарий», в 1926 — «Мюд», «Октябрь», в 1927 — «Осторожный марш», в 1928 — «Солнечный флаг», «Марш — оборона», «Привет, Ким», «Вперед, комсомольцы», в 1929 — «Даешь!», «Урожайный марш», «Октябрьский марш», «Марш ударных бригад», «Марш двадцати пяти тысяч», «Марш времени»).
Во многих главах поэмы «Хорошо!» (1927) также возникают маршевые ритмы. Например, в заключительной 19-й главе:
Приспособил
к маршу
такт ноги:
вра-
ги
ва-
ши —
мо-
и
вра-
ги.
Богатство и разнообразие маршевой ритмики Маяковского объясняется тем, что и в музыке его увлекали не мелодические ходы и гармонические сплетения41, а энергия ритма и насыщенность тембрами.
В «Парижских очерках» (1923) поэт рассказывает о своем посещении Стравинского. Заметку о Стравинском Маяковский заканчивает так: «Мне ближе С. Прокофьев — дозаграничного периода. Прокофьев стремительных грубых маршей»42.
В начале 1929 г., беседуя с Д. Д. Шостаковичем о музыке для феерической комедии «Клоп», Маяковский сказал, что «музыка должна быть очень простая, ясная, вроде как марши, которые исполняют пожарные». Композитор, следуя этому указанию поэта, написал к пьесе несколько маршей43.
Эльза Триоле вспоминает, что во время своего пребывания в Париже Маяковский «испытывал зависть» к таким песенкам, как
Hard hearted Hannah,
The vamp of Savana44.
Эту американскую джазовую песенку о «бессердечной Анне, вамп из Саваны» упоминает и сам Маяковский в статье «Как делать стихи», приводя ее в русской транскрипции:
Хат хартед Хена
Ди вемп оф совена
Ди вемп оф совена
Джи-эй.
Маяковского заинтересовал в этой песенке синкопированный ритм, еще не встречавшийся в русских стихах. Это ясно из следующего сопроводительного замечания Маяковского: «Есть нравящийся мне размер какой-то американской песенки, еще требующей изменения и русифицирования».
Становящееся уже банальным мнение о том, что стих Маяковского исключительно ораторский, справедливо только до известной степени. Диапазон стиха Маяковского не покрывается ни термином «говорной», ни термином «ораторский».
У Маяковского есть и марши и песни (например, ряд пионерских песен 1927—1929 гг.). Но особенно много музыкальных ритмов в его монументальных вещах.
Если в поэмах дореволюционного периода Маяковский вводил отрывки музыкальных произведений в ткань говорного стиха только как контрастирующий материал («Аргентинское танго» и молитвенные гимны «Спаси, господи, люди твоя» и «Вечная память» в поэме «Война и мир» — 1916; ария из оперы Верди «Риголетто» в поэме «Человек» — 1917), то в последней своей поэме «Хорошо!» (1927) он создал совершенно новую симфоническую конструкцию.
В связи со сменой идейно-тематических и эмоциональных регистров отдельных глав поэмы, в систему говорного и ораторского стиха включаются музыкальные элементы: ритмы и мелодии революционных песен, крестьянских частушек, маршей, уличных куплетов, танцев.
Примечания
1 О «витиеватой речи» Гоголя Маяковский упоминает и в другой статье 1914 г. — «Два Чехова» (I, 301).
2 См. сатирическое использование образов Бобчинского и Добчинского в выступлениях на диспуте о постановке «Ревизора» (3 января 1927 г.) и на заседании сотрудников «Нового лефа» (5 марта 1927 г.). — ПСС 1934, т. XII, стр. 364; ПСС 1939, т. X, стр. 339.
3 См. также в стихотворении «Письмо Татьяне Яковлевой» (1928):
вспухнут веки
впору Вию.
4 Выражение «смеяться сквозь слезы» в качестве характеристики гоголевского юмора впервые было употреблено Пушкиным в его высказывании о «Старосветских помещиках» (см. В. В. Гиппиус. Гоголь. Л., 1924, стр. 233).
5 «Русская мысль», 1914, № 5, стр. 30.
6 Ср. реплику «человека с растянутым лицом» в трагедии «Владимир Маяковский», написанной незадолго до стихотворения «Кофта фата»:
А из моей души
тоже можно сшить
такие нарядные юбки!
7 «Песнь о Роланде». Перевел размером подлинника Ф. де ла-Барт. С предисловием А. Н. Веселовского. СПб., 1897, стр. 62.
8 «Утро» (Харьков) от 16 декабря 1913 г.
9 Тезис «Египтяне и греки, гладящие сухих и черных кошек», связан с монологом Старика из трагедии «Владимир Маяковский», незадолго до того написанной.
10 «Утро России» от 15 октября 1913 г., № 237.
11 Письмо находится у автора статьи.
12 Письмо Горького к И. А. Груздеву от апреля 1930 г. (Архив Института мировой литературы им. Горького).
13 «Московская газета» от 25 февраля 1913 г., № 239.
14 «Русская мысль», 1914, № 5, стр. 30—31.
15 «Развороченные черепа». СПб., 1913, стр. 7.
16 «Русская мысль», 1913, № 3, стр. 132.
17 Перевод этих строк из поэмы Э. По был помещен В. Брюсовым в его заметке «Кое-что о рифме еще»:
На склоне чер-
ных Лунных гор
(«Москва», 1920, № 4, стр. 14)
18 Есть сведения о том, что автором этого пародийного сонета был Теодор де Банвиль (Ch. Baudelaire. Oeuvres posthumes. Paris, 1908, р. 41).
19 В той же юмористической функции с обнажением рифмового задания разорванная рифма вошла и в немецкую поэзию (стихотворение мастера гротесков Кристиана Моргенштерна в его сборнике «Galgenlieder»: «Das aesthetische Wiesel»).
20 Аналогичный прием рифмовки см. в стихах Д. Бурлюка (сб. «Дохлая луна», 1913, стр. 102) и Н. Асеева «Боевая сумрова», «А мы убежим», 1915 и др.
Применение перекидных составных рифм в стихах Арагона (сб. «Crève-Coeur») подсказано поэтической практикой Маяковского.
21 «Творчество» (Владивосток), 1920, № 1, стр. 13.
22 Л. Ю. Брик. Из воспоминаний. — Альманах «С Маяковским». М., 1934, стр. 76.
23 Байрон. Дон-Жуан. Пер. П. А. Козлова. М., 1910, т. I, стр. 421.
24 Наличие в поэме Маяковского образов, восходящих к «Дон-Жуану» Байрона, установлено Т. С. Грицем, которому приношу благодарность за сообщение.
25 Письмо находится у автора статьи.
26 «Нижегородец», от 19 декабря 1919 г.
27 Журн. «Маски», 1912/13, № 7—8, стр. 43.
28 Журн. «Музыка», 1915, № 219 от 18 апреля, стр. 256.
29 «Новое время» от 27 апреля 1901 г., № 9037.
30 «Новое время», от 12 апреля 1913 г.
31 Стихотворение В. Хлебникова предоставлено мне А. Е. Крученых.
32 См. тексты плакатов РОСТА (ПСС 1939, т. IV, стр. 166, 176).
33 См. реализацию этой метафоры в замечательном сценарии Маяковского «Как поживаете», 1926 (ПСС 1939, т. XI, стр. 154—155).
34 Текст «Окна сатиры Чукроста» в собрания произведений Маяковского до сих пор не входил.
35 Сб. Ин-та мировой лит-ры им. Горького «Маяковский». М., 1940, стр. 36.
36 Против такой характеристики Маяковского выступил и Луначарский. См. его рецензию: «Печать и революция», 1921, № 2, стр. 224.
37 Ср. в статье К. И. Чуковского: «Предков у него никаких. Он сам предок» («Дом искусств», 1921, № 1, стр. 41).
38 См. статью В. В. Тренина и Н. И. Харджиева «Маяковский и „сатириконская поэзия“». — «Лит. критик», 1934, № 4, стр. 122—127.
39 Л. Сабанеев. Воспоминания о Скрябине. М., 1925, стр. 251.
40 См. также «Безумную песню» (1913) Н. Асеева и маршевые строфы в его стихотворении «Боевая сумрова» (1915).
41 См. характерное высказывание Маяковского об «Острове смерти» С. В. Рахманинова: «мелодизированная скука» (литературная автобиография «Я сам», 1922).
42 По свидетельству Б. В. Асафьева, в июле 1917 г. Маяковский подсказал ему тему статьи о Прокофьеве, помещенной А. М. Горьким в газете «Новая жизнь» (сб. «С. С. Прокофьев», М., 1956, стр. 4).
43 «Литературная газета» от 9 октября 1956 г.
44 Е. Triolet. Maïakowski, poète russe. Paris, 1939, р. 15.
Сноски
* — Что это за человек? — О, это очень большой талант, он делает из своего голоса всё, что хочет. — Ему бы следовало, сударыня, сделать из него штаны (франц.).