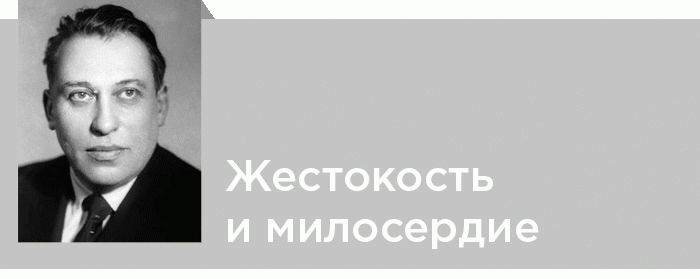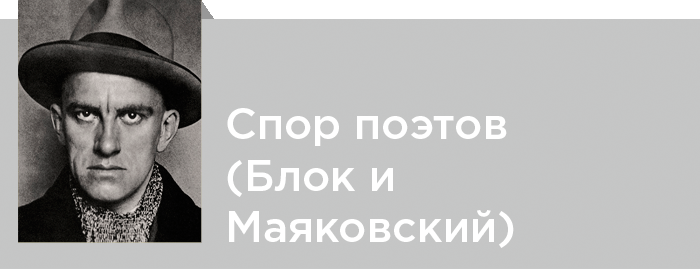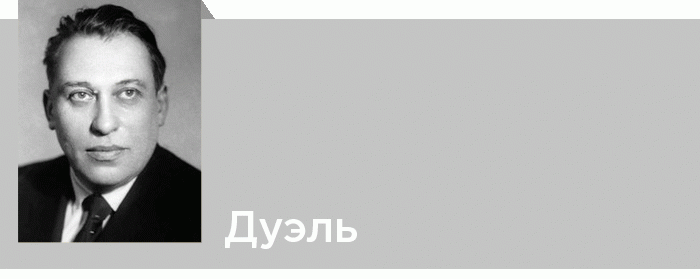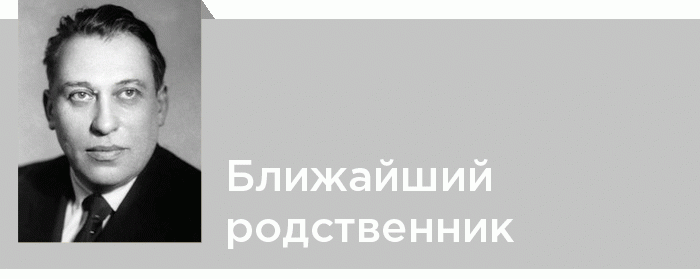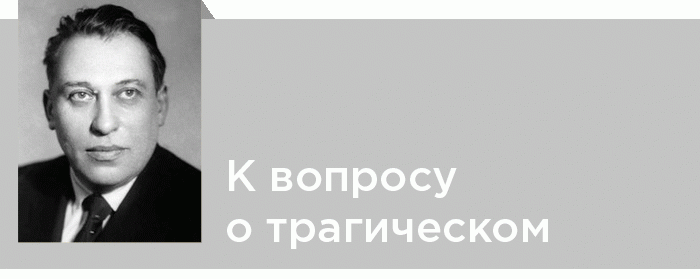Об одном библейском мотиве в прозе П.Ф. Нилина

Молько А.В.
Творчеству известного советского прозаика и кинодраматурга П.Ф. Нилина посвящена уже довольно обширная литература, на фоне которой выделяются монографические работы В. Кардина, Л.А. Колобаевой, Н.А. Терениной, охватывающие весьма широкий круг проблем. Но остаются и многочисленные «белые пятна». Настоящая статья касается одного из них. Нами делается попытка рассмотреть некоторые особенности художественного мира П.Ф. Нилина, содержательно и структурно связанные с интерпретацией писателем «вечной книги», Библии, конкретно — образа Страшного суда. Подобный аспект рассмотрения представляется весьма важным и плодотворным для осмысления идейно-эстетического своеобразия нилинской прозы. Ведь, называя вслед за А.Н. Веселовским традиционные образы и сюжеты «нервными узлами произведения», Л. Гинзбург подчеркивает особое их место в литературном процессе и пишет, что им «не только присуща ценность, освященная веками, но в них спрессованы вековые наслоения постепенно накапливающихся знаний. Их смысловая энергия поэтому несравненна. На них основана сама возможность образования литературных стилей, предрешающих определенное восприятие произведения».
Образ Страшного суда впервые появляется в рассказе «Знаменитый Павлюк», который был написан в 1937 году и стал первой и самой яркой удачей П.Ф. Нилина-новеллиста. Существенной особенностью этого рассказа является наличие в нем символического плана, в рамках которого и реализуется библейский мотив. Среди множества дефиниций, потребовавших уже специального исследования, достаточно убедительно выглядит мнение ученых, определяющих символ «как предметный или словесный знак, условно выражающий сущность какого-либо явления с определенной точки зрения, которая и определяет самый характер, качество символа (революционного, реакционного, религиозного и др.)». Следует добавить, что «символом называют также художественный образ, воплощающий в себе с наибольшей выразительностью характерные черты какого-либо явления, его определяющую идею». Необходимо еще отметить, что символическая образность всегда лишена самодовлеющего значения, в смысловом отношении она содержит свидетельство о том или ином новом «мире». Это замечание А.Ф. Лосева восходит к концепции Гегеля, указывавшего, что «символ должен вызывать в вашем сознании не самого себя как данную единичную вещь, а лишь как всеобщее качество, которое подразумевается в его значении». Символический план, выступающий как некое «измерение философской проблематики рассказа, «вводит» отдельную личность в координаты универсально-обобщенных понятий Жизни и Смерти», «аккумулирует» авторские размышления о кратковременности, ограниченности человеческого существования и фатальной предопределенности трагической развязки. А эти вопросы всегда волновали П.Ф. Нилина, о чем свидетельствует следующее высказывание: «Нет ничего трагичнее человеческой жизни, если иметь в виду неизбежное ее завершение в каждом конкретном индивиде. Литература не может и не должна скрывать этого факта. Но, по-моему, литература должна утверждать раньше всего добрые чувства, рассказывать, как упоительна жизнь при всей ее контрастности».
Отмеченная позиция П.Ф. Нилина и получает непосредственное выражение в образе Страшного суда, эпизоды которого были отражены на «больших картинах», висевших в жилище мастера-жестянщика Андрея Петровича Павлюка, под началом которого постигал в детстве основы ремесла герой-повествователь. Он выделяет особо одну из картин, на которой томился грешник, совершенно голый, худой и взлохмаченный, с глазами черными и печальными. Он сидел на широкой сковородке, укрепленной на серых камнях, и малиновые черти с веревочными хвостами сосредоточенно раскладывали под ним огонь». Детальное изображение ее, занимающее три абзаца, приобретает в тексте рассказа характер автосемантии. И.Р. Гальперин, рассматривая этот прием, указывает: «В том поступательном движении текста автосемантия служит как бы паузой, остановкой, передышкой. Она отключает внимание читателя от линии повествования, иногда поднимая какое-либо явление на уровень философского обобщения».
«Линия повествования» в произведении формируется как воспоминание-рассказ героя: «У всех людей бывают какие-нибудь родственники. А у Павлюка никого не было. Жил он один в каменном подвале на Маложайке». Далее герой характеризует свое довольно прохладное поначалу отношение к «жестяночному делу», переходит к квартире Павлюка, и вот здесь логика развертывания воспоминания как бы нарушается: возникает обстоятельное описание картины. И лишь вслед за ним появляется ее владелец: «Павлюк был мрачный, молчаливый человек». Так, конкретная и как будто ничем не примечательная деталь интерьера начинает абстрагироваться, приобретать символическое звучание.
«Художественная символика — множественность направлений смысла. ...Лучеиспускание смысла во все стороны, и в эту, и в противоположную. Смыслы окружают символ. Смыслы севера и юга, востока и запада, северо-востока и юго-запада, юго-востока, северо-запада. Солнце, окружающее другое, как на некоторых древних изображениях», — подчеркивал Н. Берковский. В каких же «направлениях» пронизывает образ-символ Страшного суда целостность рассказа П.Ф. Нилина? Прежде всего, Страшный суд выступает, как и в Библии, мерилом ценности человеческой личности, «моментом истины», когда происходит окончательное и не подлежащее пересмотру подис дение итогов, начертанных в «книге жизни»: «Тогда отдало ми ре мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, и судим был каждый по делам своим». Причем, эта оценка дается в двояком аспекте: в отношении старого мастера Андрея Петровича Павлюка и как самооценка героя-повествователя.
Отмеченные линии тесно переплетены между собою. В рассказе проводится сопоставление судеб учителя и ученика. Герой-повествователь утрачивает в определенный момент память. Он оказывается втянутым в вихрь революционных событий, и «величественные дела» вытесняют из его сознания детские годы, дни, проведенные вместе с мастером: «Павлюк угасал в моей памяти. В ряду больших и признанных героев, увиденных мной, он, казалось, не мог найти себе места. Ведь он ни о чем не мечтал и ничего как будто не добивался. Он так бы и остался жестянщиком». Однако затем происходит корректировка этого представления. В одной из жарких схваток с бандитами повествователя настигла пуля, и товарищи переносят его, истекающего кровью, в небольшую лесную сторожку. И здесь, в критический момент биографии, на грани «смертельного круга», испытывая жгучее желание сказать в эти последние минуты «что-нибудь необыкновенно важное», герой-повествователь вновь встречается со своим учителем, казалось, навсегда отошедшим в небытие. Дрова вспыхивают в маленькой печке, и ярко высвечивается выбитое на ней большое слово «ПАВЛЮКЪ». Так старый мастер Андрей Петрович Павлюк приходит на помощь своему попавшему в беду ученику. И в произведении реализуется библейская идея «окончательных итогов»: утверждается мысль о бессмертии мастерства, предметным воплощением которого служит творение золотых рук Павлюка, и одновременно герой-повествователь решительно пересматривает свой нигилизм по отношению к прошлому, без опоры на лучшие традиции которого невозможно существование человека на Земле.
С другой стороны, наблюдаем в рассказе и парадоксальное переосмысливание библейской ситуации, в которой к числу «грешников» относились люди, погрязшие в грехах и вполне закономерно обреченные на страшное наказание: «...псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Павлюк же прямо соотносится именно с грешником. Это сопоставление задается уже деталями внешнего сходства. Персонаж картины — худой, взлохмаченный, с черными, печальными глазами, с коричневой, вяленой кожей. Павлюк — мрачный, молчаливый, высокий, худой, с большой головой на длинной, тонкой шее, «похожий на птицу без крыльев». И мастера ожидает медленная и мучительная смерть как бы вопреки его несомненным человеческим достоинствам, чудесному мастерству, которым он владеет. Все эти качества несомненно ставили Павлюка в ряд «праведников», которым библейский миф пророчил вечное блаженство в сверкающем городе, подобном «чистому золоту», «чистому стеклу». Однако Павлюк ассоциируется с теми, чья «участь в озере, горящем огнем и серою». На это указывает и герой-повествователь: «Огонек мигал, и в мигании его, мне казалось, начинает наконец шевелиться до невозможности измученный грешник на картине. ...Пламя лижет его, хватает за выпуклые ребра, за голову косматую, и лицо искажается в смертной муке. Худо ему, грешнику, на сковороде. И, наверно, так же худо, думал я, будет учителю моему, когда он умрет и его призовут на страшное судилище».
Ключ к подобному истолкованию Библии находим в концепции личности нилинского рассказа. Автору важно подчеркнуть именно ее способность к сопротивлению самым неблагоприятным обстоятельствам, выявить внутренние источники ее стойкости перед лицом самых тяжелых испытаний. Не случайно грешник на картине «...Сидел... как ни в чем не бывало — прямой, неподвижный и как будто сконфуженный немножко: вот смотрите, мол, добрые люди, как раздели меня донага и жарят заживо, а я ничего поделать не могу...». Павлюк обнаруживает точку опоры в любимом деле, которым самозабвенно увлечен и в котором находит источник высокого вдохновения и душевной гармонии. Так в рассказе появляется песня: «Песня возбуждала его. А может быть, работа его возбуждала. И из работы возникала песня, украшавшая жизнь»; «...он пел и работал, выпрямляя железный лоскут, скручивая его и изгибая всячески до тех пор, покуда холодное железо, согретое прикосновением горячих человеческих рук, не принимало, наконец, нужную форму — затейливый профиль ножки, трубы или печной дверцы». Так ремесло, в котором герой достиг подлинных высот, как бы уравновешивает драматизм его жизненного положения.
Парадоксальная тема «наказания праведника» имеет в рассказе и социальное измерение. Оно связано с показом судьбы мастера-художника в современном ему обществе. «Малиновые черти с верёвочными хвостами», занятые раздуванием пламени на картине, оживают в сюжетно-композиционной структуре произведения в облике обывателей, предчувствующих наживу после кончины одинокого жестянщика и с нетерпением ее нам дающих. Алчность заслонила в них все остальные чувства «...всякому человеку, собравшемуся жить бесконечно, было бы обидно уступать соседу законную свою часть имущества на неизбежном дележе после смерти.... жестянщика. И всякий хотел знать поэтому: когда же умрет Павлюк?
Это необходимо было знать, чтобы раньше всех поспеть к дележу».
Вот владелец дома, где снимал подвал Павлюк, «ласковый, круглый и пушистый старичок, любивший в летнее время ходить по двору в одних кальсонах...». Узнав от доктора о безнадежном состоянии здоровья своего постояльца, он начал настойчиво требовать плату за несколько месяцев вперед, которые, возможно, и не были отпущены судьбой Павлюку. Причем, он старался еще подкрепить свои претензии «вескими аргументами»: «Ввойди ты, ради бога, в мое положение, Андрей Петрович, — говорил Хозяин. — Клозеты я обязан чистить? Обязан. Мусор мне полиция велит выносить? Велит. А где же я денег наберусь на такое в пожилые, преклонные мои годы?». И, услышав в ответ молчание, начинает шантажировать тяжело больного мастера, угрожая ему выселением. Затем в рассказе появляются другие подобные «типы»: извозчик Хохлов, дружески посоветовавший отказать хозяину и тут же спросивший, не продается ли самовар; «известный всей... улице ...гармонист и алкоголик Яшка Новосильцев», облюбовавший американские тиски; парикмахер Хинчук, попросивший, «точно в магазине», примерить зимнее пальто; добродушная на вид старушка Захаровна, «претендующая» на «большого и сильного, породистого кота Антона, уже загодя прикармливающая его и ставшая «в гневе и злорадстве своем даже ростом... выше», когда кот вырывается из ее рук. А однажды, ненастным дождливым днем, раздался стук в окно. Мастер подошел. «Со двора, прижавшись к мокрому стеклу, смотрела на него рыжеусая, багровая морда лавочника Варкова. И лавочник кричал:
— Продаешь грамофон-то? А?»
Так замыкается круг «адских мук» Павлюка, человека, по существу, похороненного еще при жизни теми, в ком господствует хищническое начало, стремление к обогащению любой ценой. А вскоре последовавшая кончина старого мастера и его похороны, когда «ранним утром, часов, может быть, в семь или в половине восьмого, тело его, говорят, положили в телегу, в желтый полицейский гроб...», становятся своеобразной модификацией апокалиптической «второй смерти».
Образ страшного суда возникает вновь в историко-биографической повести «Интересная жизнь», которая создавалась на протяжении нескольких десятилетий. Замысел возник еще в 30-х годах, когда П.Ф. Нилин только начинал свой путь в большую литературу. Тогда был написан рассказ «Профессор Бурденко», увидевший свет на страницах журнала «Новый мир» в 1937 году, но не ставший творческим достижением писателя. В конце 60-х годов, будучи уже зрелым и признанным художником, П.Ф. Нилин возвращается к этому материалу. Появляется первая редакция повести, а затем и окончательный вариант. «Новая встреча» с героем давнего рассказа состоялась под знаком углубления исследования процесса формирования человека в контексте большой Истории. Художественно обрабатывая факты, П.Ф. Нилин стремился прежде всего к воплощению концепции духовно одаренной личности, разрушающей в процессе становления сословно-классовые и субъективно-психологические ограничения.
Образ Страшного суда «входит» в произведение, когда главный герой делает решающий шаг в борьбе с самим собой, в преодолении страха перед «мрачноватым двухэтажным зданием» анатомического театра, где занимались студенты-медики Томского университета. Конкретно-жизненное описание мертвецкой, куда приходит Николай Бурденко, «развертывается» через библейскую ассоциацию: «Ад с кипящими котлами и шипящими сковородами, на которых, как известно, поджаривают грешников, ад, знакомый Бурденко с детства по лубочным картинкам «Страшного суда», выглядел бы в натуральном виде едва ли намного страшнее того, что можно было здесь увидеть.
На цементном полу лежали в разных позах обнаженные покойники и покойницы с оскаленными зубами, с выпученными глазами и распоротыми внутренностями. И в ваннах, заполненных чем-то желтым, тоже лежали покойники. А один застыл в сидячей позе на столе — мужчина, но с длинными волосами, «как у священника». Перед героем открывается глобальная катастрофичность человеческого бытия. И точкой опоры, как и в рассказе «Знаменитый Павлюк», выступает профессиональное мастерство, овладение секретами которого мыслится одновременно и как личностное становление.
Служитель анатомического театра Тимофеич так говорит, предупреждая возможный вопрос Николая Бурденко, о трупе, находящемся в столь странной позе: «Это ассистент Зверев его тут положил. Хотел с ним заниматься. Да вот, видишь, не пришел. А я-то знал этого волосатика. Это певчий из церковного хора, Федор Федорович». Возникает резкий контраст с предшествующим абзацем, обусловленный спокойной, будничной интонацией этой фразы, дополнительно усиливаемой просторечным словом «волосатик» и замечанием-ремаркой о том, что, произнося ее, Тимофеич «стал закуривать». Смерть, таким образом, как бы отступает перед личностью, сумевшей освободиться от страха и «... вступить ...в этот скорбный мир, где конец человеческого существования чуть приоткрывает пытливому глазу хотя бы некоторые из самых сокровенных тайн», и утвердиться там. Образ Страшного суда, следовательно, выступает в повести «Интересная жизнь» как одно из средств соединения «достоверности документа, очерка с бесконечностью проблем философского жанра».
Размышляя о наиболее характерных и плодотворных тенденциях в развитии литературы, П.Ф. Нилин говорил: «В молодости я любил слово «диапазон», понимая под этим умение писателя рассматривать малое в большом и большое в малом. Диапазон, размах замысла, имеющий в виду главные проблемы жизни, сообщает произведению общечеловеческое звучание. Чем шире у писателя диапазон, тем необходимее он оказывается человечеству. Именно в соответствии с диапазоном литераторы могут быть расценены как великие, большие и не очень большие».
Л-ра: Классические традиции в русской советской литературе. – Куйбышев, 1985. – С. 111-119.
Произведения
Критика