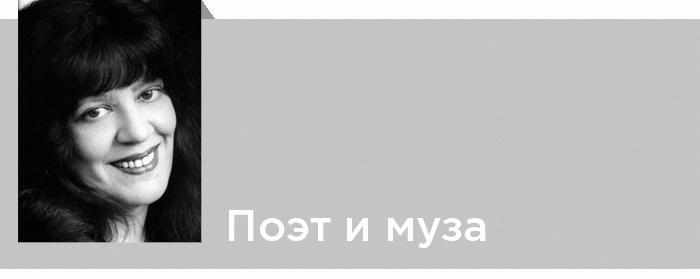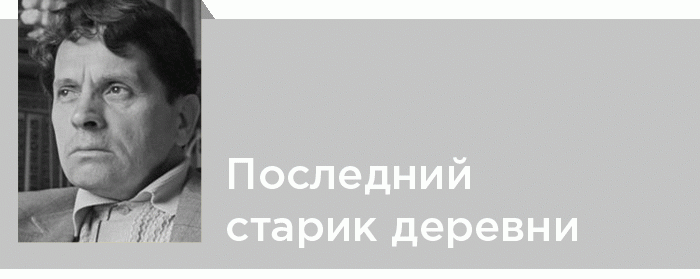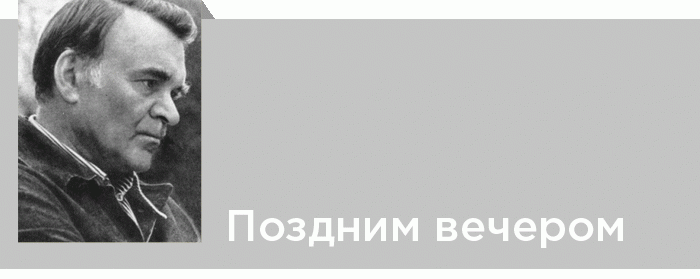Человечный талант: О творчестве Ю. Бондарева

Олег Михайлов
При имени Юрия Бондарева в памяти тотчас возникают герои его книг. Они воспринимаются в сознании как живые, реально существовавшие люди — капитан-артиллерист Борис Ермаков («Батальоны просят огня»), командир батареи Дмитрий Новиков («Последние залпы»), демобилизованный офицер-москвич Сергей Вохминцев («Тишина»), бывший командир роты, а после войны инструктор автоклуба Алексей Греков («Родственники»), наконец, наши современники — писатель Никитин («Берег») и живописец Васильев («Выбор»). Все это образы — прочно вошедшие в материк нашей культуры.
Взлет Бондарева был неожиданным и стремительным.
В короткий срок, с 1957 по 1960 год, были опубликованы повести «Батальоны просят огня», «Последние залпы» и роман «Тишина» — произведения, которые, по сути, выводили на новые пути литературу послевоенной поры.
В движении от «Тишины» к «Горячему снегу» росла известность писателя. Прослеживая конфликты его нынешних героев-интеллигентов (романы «Берег» и «Выбор»), обнаруживаешь некую логическую закономерность. Если разобраться, это продолжение того же процесса, но на более позднем этапе, когда раскаленный газовый шар, постепенно остывая и сжимаясь, обнажил невиданный рельеф, по которому страшно ступать. словно по горячему снегу, — уже от воспоминаний о том, как это начиналось.
Все начиналось под Сталинградом, о защитниках которого можно повторить слова древнего летописца, охарактеризовавшего легендарного Евпатия Коловрага и его дружину: «Сии бо люди крилати и не имеющие смерти...» Отсюда Юрий Бондарев, в скромном и гордом сержантском звании, в должности командира противотанкового орудия, прошел около его колеса тысячеверстным, иссеченным свинцом и железом путем до Германии. Прошел на обмороженных в Сталинградской битве ступнях, у которых родительская подошва покрылась навсегда мертвой бесчувственной коркой. Воистину — по горячему снегу!
Я подрастал среди этого поколения и навсегда запомнил обжигающие детское сердце рассказы возвращавшихся с боевых полей офицеров-воспитателей и сыновей полков. Запомнил близость жарко дышащего фронта, Курск осенью сорок третьего года, его улицы в руинах и баррикадах. Запомнил мелькающих саперов с миноискателями; текущий мимо окон нашего суворовскою училища бесконечный скорбный кортеж — шло перезахоронение тысяч расстрелянных фашистами мирных курян; наконец, литые строки приказов Верховного Главнокомандующего.
Но разве лишь благодаря этой памяти так больно и остро задевает душу «военная» проза Бондарева? Разве лишь оттого потрясает трагическая судьба батальонов Бульбанюка и Максимова, вставших на пути танковой лавины врага, или современная сага о капитане Новикове, рыцаре без страха и упрека, гибнущем на глазах у любимой? Конечно, нет. Всегда будет волновать предельная правда о человеке на войне, запечатлены ли картины давнего прошлого в «Севастопольских рассказах» Льва Толстого или близкой нам Великой Отечественной в «Судьбе человека» Михаила Шолохова.
«Батальоны просят огня». На авансцене этой короткой, трагической, мужественной и прекрасной повести — солдаты, сержанты, офицеры, совершившие невозможное: сковавшие огромные силы немцев и тем облегчившие всей дивизии рывок через Днепр.
Они запоминаются все — и мягко картавящий старший лейтенант Кондратьев, филолог по образованию, «сутуловатый, в мешковатой шинели», стыдящийся своей интеллигентности, слабого здоровья, вынужденной неопрятности в окопной жизни; и худенький, с мальчишеской фигурой и золотым пухом на щеках подносчик снарядов Лузанчиков; и пожилой, многодетный старшина Цыгичко, «с острым хрящевидным носом» и пухлым, откормленным — «тыловым» — лицом, которого отправляет рядовым в роту полковник Гуляев; и вечно занятый починкой часов Елютин, ленинградец, мастер, «золотые руки, золотая голова»; и черный, как жук, замковой Деревенко; и маленький, круглый связной Скляр, влюбленный в своего капитана Ермакова; и белокурый, беспечный Жорка Витьновский, носившийся до войны по Харькову на такси, подмигивая знакомым милиционерам, воюющий легко и просто; и командиры орудий, «два ладных, подтянутых сержанта», «одинаково большеглазых...» — братья-близнецы Березкины; и начинала батальона старший лейтенант Орлов, с цыганским лицом и нестерпимо зелеными глазами; и пунцово краснеющий лейтенант-мальчик Ерошин с длинными, как у девушки, и загнутыми вверх ресницами; и батарейный санинструктор Шурочка, «тонкая, с высокой грудью, в ладной, всегда чистой гимнастерке, в хромовых сапожках». Читателя переполняет странное, почти болезненное ощущение соучастия с героями, которые благодаря дарованию художника становятся ему родственно-близкими и за судьбой которых он следит с обостренной заинтерсованностью в ее благополучном исходе.
Уже эта повесть показала, что бесстрашие в изображении, человеческой психики, человека на войне сочетается у Ю. Бондарева, писателя и солдата, с особенной эстетикой в изображении самой войны, имеющей свои неповторимые краски, звуки, запахи. Можно без преувеличения сказать, что Ю. Бондарев открывает в литературе новую эстетику в изображении войны. Даже орудия смерти, механизмы войны и убийства — вражеские самолеты, бронетранспортеры, танки — предстают в его описании как особенные, живые, страшные и в то же время обладающие своей хищной красотой существа.
Толстовские традиции в изображении человека на войне явственно проступают в ранних повестях Ю. Бондарева, только эти традиции берутся, так сказать, «в разукрупненном» и как бы интимно приближенном читателю виде. Такова повесть «Последние залпы». Она заметно отличается от «Батальонов» — большим художественным лаконизмом, концентрированностью действия, сосредоточенностью внимания писателя на одном герое, его жизни, его подвиге, его любви и гибели. В «Последних залпах» показан конец войны, последние судороги вермахта.
Как и «Батальоны просят огня», «Последние залпы» — тоже трагедия или, лучше сказать, современная сага — сага о человеке, совершенно земном, реальном и в то же время несущем в себе черты идеального, опрокидывающем своим существованием и поведением бытующую в литературе теорию об обязательности у каждого некоей «червоточинки», «слабинки», «порочинки»...
В образе Новикова с еще большей силой, чем в полюбившемся нам характере Бориса Ермакова, открылось драгоценное стремление писателя к человеку, который стоят над обыденностью, тоска по идеалу. И Бондарев добивается убедительной победы в своей художнической устремленности.
Замечу, что максимализм фронтовиков бондаревские герои перенесли и на разрешение конфликтов мирной жизни.
Новый поворот народного сознания как неодолимого раскрепощения жизни, возрождення жизни отразился всем своим глубинным смыслом в романе «Тишина», вышедем в 1960 году и поднявшем целые пласты социально-нравственных проблем задолго до перепевов и вариаций на ту же тему. Как и повесть «Родственники», роман отмечен остросовременным мышлением, гражданской активностью и смелостью вторжения в действительность. Торжество любви Вохминцева и Нины, Корабельникова и Аси — наперекор всем испытаниям и невзгодам — звучит мажорно и мощно, как гимн природе и человеческому в человеке на полотнах Пластова, пишущего примерно в эти же годы свою знаменитую «Весну». Весеннее, смелое, молодое начало, словно бурный поток, сметало человеческий сор и дрянь, открывая в бондаревских героях подлинное, до святости чистое, близкое идеалу.
В произведениях Юрия Бондарева господствует художественная стратегия, а не сиюминутная тактика. Отсюда длительные перерывы, которые подчас разделяли его романы. За этим кажущимся молчанием писателя таился всепоглощающий труд, который сам Бондарев назвал как-то «сладкой каторгой».
«Не только Ева рождает нелегко, в муках рождает и Адам, ибо создание духовной ценности — книги — совсем не праздное удовольствие, не игра прихотливого воображения, не легкость игривого бурлеска, — сказал он, — Это акт великого каждодневного напряжения, медленная и одержимая — до последнего часа — исповедь человека о человеке... Какие бы должности ни занимал писатель, как бы ни был он обуреваем честолюбием равного рода деятельности, писатель должен умирать не от административной усталости...»
Предельная требовательность художника обращена и внутрь, и вовне. Она понуждает писателя работать в атмосфере постоянного ощущения присутствия классики. Недаром в бондаревских книгах так явственны традиции Толстого и Достоевского — в обнажении жизненных ситуаций и в вечной проблеме выбора, встающего перед героями. А если говорить о его старших современниках, то сотоварищами, духовными ориентирами Юрия Бондарева были Шолохов и Леонов, роль которых лишь возрастала с расширением его художественного сознания. Когда в 1932 году Бондарев только пошел в школу, они уже были классиками, наперед определив магистраль нашей литературы. Именно у них учился он священному отношению к слову.
Где бы ни были, чем бы не занимались молодые герои бондаревских произведений, но и в мирной обстановке, и посреди опасностей и бед войны они нет-нет да и вспомянут, мысленно вернутся к самому тяжкому испытанию, которое прошли, — великой битве на Волге. И чем дальше отодвигается время войны, тем ярче, сильнее, зримее в памяти, как символ решительного перелома в битве с фашизмом, видится им Сталинград. От руин Сталинграда начинается непрерывный путь к победе, путь через новые, неизбежные, страшные утраты (на Курской дуге, на Днепре или в Карпатах), но именно победная перспектива Сталинградской битвы решительно меняет все освещение картины войны.
Иногда случайная ассоциация заставляет вспыхнуть в памяти пережитое: жестокий мороз с солнцем, режущий глаза сухой блеск напоминают посреди послевоенной Москвы Сергею Вохминцеву наступление на Котельникове («звон орудийных колес по ледяной дороге, воспаленные лица солдат с примерзшими к щекам, как пластыри, подшлемниками, деревянные негнущиеся пальцы в железном холоде рукавиц»). В другом случае память о Сталинграде рождает обобщение, идущее от имени целого поколения. Алексей Греков («Родственники») подводит скорбный итог: «Вообще нашего поколения нет... Наш год призывался в сорок втором. И сразу — под Сталинград. Нам просто повезло».
Есть, очевидно, своя внутренняя закономерность, что Ю. Бондарев сначала запечатлел драматические события форсирования Днепра в повести «Батальоны просят огня», затем — в «Последних залпах» — эпизод, трагически предворяющий конец войны, еще позже — нравственные испытания, выпавшие на долю пришедших с фронта («Тишина» и «Двое»), и уж потом вернулся к истоку истоков, к той кровавой купели, в которой крестили молодых командиров двадцать четвертого года рождения и которая стала решающим испытанием в судьбе всей огромной страны.
На пересечении классических традиций создавался «Горячий снег» — эпопея, сжатая в объем повести. Здесь — только на принципиально новом материале — воплощена та «мысль народная», которую, по его признанию, любил Лев Толстой, когда писал «Войну и мир». Отсюда изображение «героизма миллионов». Именно в «Горячем снеге» проза Юрия Бондарева окончательно теряет отсвет щеголеватости, лишается некоего желания писателя продемонстрировать свои изобразительные возможности. Он как бы осуществляет в художественной практике боевой принцип Суворова — сразу к цели, сближение, бой! Нет техники, нет мастерства: есть текучая, живая, гипнотизирующая нас жизнь.
До подлинного народного пафоса поднимается писатель в заключительных страницах романа, когда на выжженных, разбитых, но не мертвых позициях батареи появляется сам Бессонов, приказав взять с собой все имеющиеся в распоряжении Деева ордена. Он не может, не позволяет себе обнимать этих выживших, выстоявших героев, говорить им «растроганным голосом», как это делает взволнованный Деев. Все слова кажутся сейчас командарму никчемными, пустопорожними. Вручая им орден Красного Знамени, он только способен «насилу выговорить»:
«— Все, что лично могу... Все, что могу... Спасибо за подбитые танки. Это было главное — выбить у них танки. Это было главное...»
Человек — частица в бегущем гераклитовом потоке времени. Остановить эту вечно движущуюся реку только и можно с помощью волшебного заклинания искусства. По «Войне и миру» не изучишь Аустерлицкого сражения с точки зрения оперативного хода. Более того, Толстого упрекали историки в несоответствиях и фактических неточностях. Но осталось навсегда, как образ огромной емкости, небо Аустерлица, в которое глядит раненый Болконский. Такова сила художественного слова.
У Бондарева в «Горячем снеге» слово стало документом, оно преображает действительность в уже не подвластную тлению форму инобытия. То самое русское слово, хранить которое завещал, обращаясь к нам, потомкам, Бунин:
Молчат гробницы, мумии и кости, — Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте, Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья! Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, Наш дар бессмертный — речь.
Бондаревское Слово — о вечном и о сегодняшнем. То, как стихотворение в прозе — книга «Мгновения», то раздвигающее пространство до философского романа, оно объясняет нам нас самих, наше общество, перед которым вырастает множество непредугадываемых задач, с разладом, уходом от семьи, одиночеством, проблемой личного счастья и поисками гармонии, возвращением в прошлое, в начало, не ушедшее из нас, наконец, с воспоминаниями о будущем. Мы отвыкли от экспериментов в литературе, которыми она была так богата от Достоевского до Леонова. В своих последних романах «Берег» и «Выбор» Юрий Бондарев выходит к рубежам интеллектуального романа, требующего от художника смелых поисков и неожиданных решений.
Никитин выбирает себе трудный путь (или, лучше сказать, это путь выбрал его). Он прикасается к высшей мудрости, осознавая как бессилие познать вечную истину, так и необходимость идти в поисках ее все дальше и дальше. Писатель и мыслитель, он ощущает на себе всю тяжесть нагрузок нашего времени — сжигает себя в подвижническом труде, в нравственной обязанности брать на себя чужую боль, в постоянном духовном поиске. Он невидимо тратит себя во имя постижения истины, хотя и вопрошаемая бездна молчит.
Среда, в которой живет писатель, постоянна. И тут остаться подлинным, не придумывая искусственно каких-то мучительных ситуаций, — значит быть самим собой. В Никитине и Васильеве — и это понятно — мы угадываем черты, родственные другим героям Юрия Бондарева, прошедшим через испытания войной. Его интеллигент был там, в самом пекле, и там состоялся. Он нашел подтверждение своим идеалам среди тех артиллерийских сержантов и командиров, которые, смертью смерть поправ, отстояли нашу Родину. Здесь совершаемый подвиг еще резче оттеняется некоей неудобностью функции, идущей от сконфуженности русского человека, который выполняет в обшем-то вынужденное, из-за крайностей обстоятельств, дело. Пример: народный рассказ сержанта Зыкина («Берег») о неожиданной встрече с немцем в разбитой квартире на Тиргартене. И вместе с тем длящаяся биография главного героя знакомит нас с его усложненным внутренним миром, богатством эмоциональной и духовной жизни, изощренным интеллектом. Писателя теперь особенно привлекает творческое начало в человеке. Под его пером оно раскрывается как высшая суть человека, его наиболее полное самовыражение.
В одной из ключевых сцен, на кладбище, после похорон Рамзина («Выбор»), покончившего с собой от ностальгии, более жестокой, чем грызущий его рак, Васильев встречает скромную процессию - толпу людей и маленький — детский гробик. Кто они, эти люди? Бог весть! Но он «вдруг испытал такую родственную, такую горькую близость с этим Потрясенным светловолосым парнем, с этой некрасивой, дурно плачущей молодой женщиной, со всеми этими обремененными авоськами людьми на дороге, как если бы он и они звали друг друга тысячи лет, а после, в гордыне, вражде, зависти предали, безжалостно забыли одноплеменное едино кровие, родную простоту человечности...»
Опыт и мудрость приходят с болью. «Может быть, ради этой боли стоило родиться на свет... Нет, среди тысяч смыслов и выборов есть один — великий и вечный...», — рассуждает Васильев. Здесь, после тяжких испытаний, ему — художнику, человеку, мыслителю, возвращается первородство, то, что Пушкин, желая возвысить своего современника, определил словами:
Для жизни ты живешь…
Юрий Бондарев определил однажды жанр романа как «вымысел, вылепленный памятью из самой действительности». Он наполняет этим живым содержанием взрывчатые конфликты, рассматривая состояние отдельного человека в общечеловеческом космосе, в околоземных пространствах мысли и духа. Таково, скажем, вторичное пересечение линий судьбы Васильева и Рамзина, который теперь уже господин Рамзин, понуждающее нас размышлять о судьбе как осознании выбора. Рамзин не просто жертва слепых стихий, ведь в Пучину их был вброшен и Васильев, выполняющий на войне тот же невыполнимый приказ. Но из этой Ниагары имелся выход, хотя бы в смерть. Его Рамзин не нашел, и это тоже был выбор.
Замечательная проза наша последних лет — это огромный духовный капитал. Но мы с надеждой смотрим: а что будет дальше?.. Нравственно-философская проблема бондаревского творчества дает нам, думается, перспективу на одном из генеральных направлений литературы.
Известный художник-гуманист, творец новаторских, рассчитанных на долгую жизнь книг, подвижнически преданный классическому русскому слову, Юрий Бондарев пишет, живет, думает, убежденный, что будущее за человечеством.
Л-ра: Дон. – 1984. – № 4. – С. 155-158.
Произведения
Критика