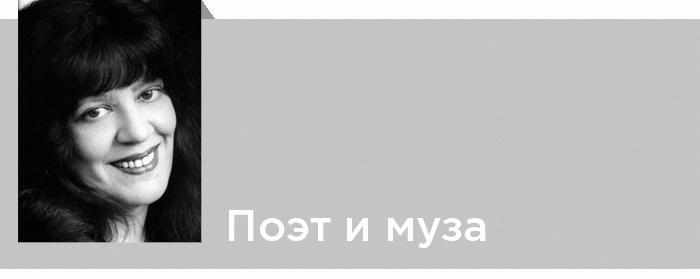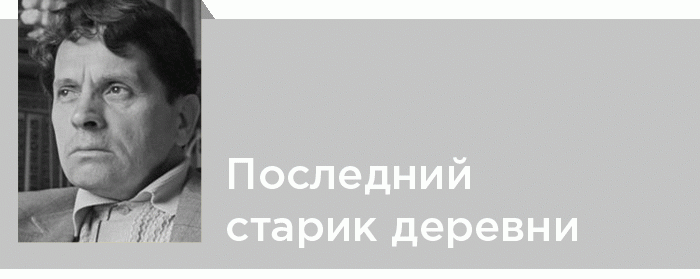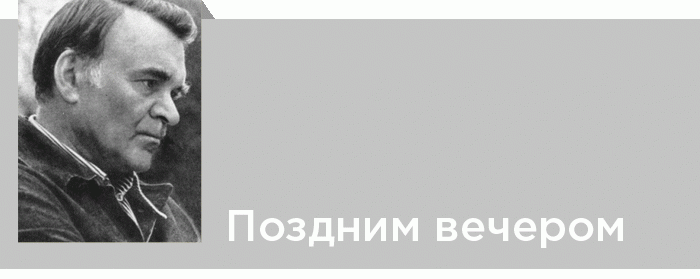Перечитывая заново (О ранней прозе Юрия Бондарева)

В.В. Бузник
Один из самых крупных современных русских писателей Юрий Васильевич Бондарев (родился в 1924 году) принадлежит к славному «военному поколению» юношей 1941 года, которые прямо со школьных, студенческих скамей отправились на фронт защищать отечество, «наше поколение — наполовину вырубленная роща», — с болью скажет потом Сергей Наровчатов о себе и своих ровесниках, кому в начале войны было всего по 18—20 лет. И это будет еще не вся горькая правда. На самом деле с кровавых полей сражения живыми вернутся лишь трое из каждых ста его молодых участников.
После повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» (1946), которая положила начало правдивому и человечному изображению военного лихолетья, произведения Бондарева стали уверенно и по-своему развивать это благородное направление послевоенной литературы. И особенно ценным явилось то, что несли они в себе неподдельную правду не только о батальной стороне войны, но, главное, о людях, чье нравственное достоинство строго испытывалось в безошибочных обстоятельствах, на грани жизни и смерти.
Правдивость и гуманность в соединении с впечатляющим искусством живописания, с умением художника рисовать живую жизнь во всех подробностях, оттенках, одухотворяя изображение напряженной мыслью, романтически яркими страстями, — все эти качества закрепились в последующем творчестве Бондарева, прежде всего в цикле нравственно-философских романов «Берег» (1975), «Выбор» (1980), «Игра» (1985), «Искушение» (1991), в лирических миниатюрах «Мгновения» (1977—1987).
На протяжении почти сорока лет его книги находились в центре внимания современников. О них, переведенных на многие языки мира, узнал зарубежный читатель. В них искали и находили ответы на вечные «проклятые вопросы» бытия — о жизни и смерти, добре и зле, любви и ненависти, верности и предательстве, чести и подлости. С их помощью приобщались к человечности, учились дружелюбию, милосердию и терпению, обретали веру. Подтверждением этому служат бесчисленные письма читателей Бондареву.
Его по-отечески привечал Леонид Леонов, им дружески восхищался Василь Быков, на опасных перекатах писательской жизни он находил поддержку у таких своих единомышленников, как Василий Белов, Валентин Распутин. Видные литературоведы написали о Бондареве яркие, талантливые монографии (И. Золотусский, В. Коробов, Е. Горбунова, О. Михайлов, Н. Федь), не говоря уж о множестве статей, рецензий, очерков, эссе. Известные критики уважительно отзывались не только о профессиональных достоинствах писателя, но также о его гражданской позиции (Ф. Кузнецов, А. Хватов, А. Овчаренко). Как далеко не пустячное и достойное внимания свойство личности, характера Бондарева отмечалось, например, то, что он «никогда не льстил разного рода начальству и руководству, не выражал восторгов по поводу их дел или их наград, не сочинял и не подписывал верноподданнических посланий ни Сталину, ни Хрущеву, ни Брежневу, ни последующим вождям».
Конечно, было бы неверным представлять отношения Бондарева с читателями, критиками как однозначно благостные. Нет, такими они не были никогда. Вокруг книг писателя постоянно разгорались жаркие дискуссии, в ходе которых высказывалось и несогласие с автором, и предлагались свои решения тех или иных творческих проблем.
Уже первые «воинские» повести Бондарева, наряду с положительными отзывами, встретили характерные упреки. Некоторые критики усомнились в главном у Бондарева — в бесстрашной правде его кровоточащей прозы, кощунственно назвав ее «заземленной», «окопной». И должно было пройти немало времени, прежде чем критики заговорили об авторе «Батальонов...», «Последних залпов», «Горячего снега» как о художнике, способном «с узкой площадки факта подняться до крупного взгляда на время, на поколение, на человека». Остается только подивиться тому, что критика пришла к этой истине с большим запозданием. Маршал Жуков, например, еще в 50-е годы протестовал против обвинений Бондарева и других писателей-фронтовиков в пресловутой «окопной правде».
Сегодня, когда приходится фактически заново воссоздавать объективную картину русской литературы пореволюционных лет, в том числе и послевоенных десятилетий, нет, по-видимому, более верного способа достичь этой цели, как перечитать «старые» книги «новыми» глазами человека, умудренного нынешним знанием жизни, но свободного от ее конъюнктурных повелений. Думается, что Бондарев нуждается в такой повторной встрече более, чем кто-либо из его соратников. И не только потому, что как раз вокруг него за последнее время накопилось особенно большое количество всевозможных домыслов. Существенно то, что именно юбилейный год Победы способен благоприятствовать заинтересованному и непредвзятому подходу к творчеству писателя-фронтовика.
Итак, ранняя проза Бондарева — шаг за шагом, книга за книгой. Какой видится она нам сегодня? Что в ней может обрадовать нас, подобно встрече со старым другом, а что, возможно, вдруг откроется по-новому и заставит удивиться, отчего прежде оставалось незамеченным? И какие из существующих критических суждений об этой прозе подтвердят свою справедливость, тогда как другие предстанут если и не ошибочными, то устаревшими? По-видимому, в настоящее время, когда общество опасно теряет прочные жизненные ориентиры и жадно тянется к высоким и вечным истинам человеческой жизни, вернее всего избрать путь рассмотрения бондаревского творчества, следя за развитием присущих ему нравственно-философских идей.
Высокое право на заинтересованное и благодарное внимание современников Юрий Бондарев завоевал давно. Только самые ранние его рассказы (сборник «На большой реке», 1953), а также последовавшая за ними первая повесть («Юность командиров», 1956) прошли мало замеченными. В целом доброжелательно встреченные рецензентами, произведения эти не стали, однако, событием текущей литературной жизни. Зато увидевшая свет всего через год после «Юности командиров» повесть «Батальоны просят огня» явилась для автора настоящим триумфом. Ее публикация вызвала всеобщий интерес: «Разговоры о повести шли тогда повсеместно — в редакциях, библиотеках, за обеденным столом, среди профессионалов-литераторов и читателей».
Содержание ее составило как будто всем известное и многими лично пережитое — суровые будни минувшей войны, каждодневное мужество ее рядовых участников. Однако подвиг народный писатель запечатлел с тем истинным новаторством, которое рождается из редкостного совпадения типа личности, гражданской биографии художника и насущных духовных запросов времени.
Непосредственный участник великих и грозных событий 1941—1945 годов, боевой офицер-артиллерист, прошедший весь тяжкий путь войны от самого ее начала и до конца, Бондарев поведал обо всем перечувствованном и увиденном на фронте так человечно, с такой пронзительной достоверностью и нескрываемым драматизмом, каких в ту пору уже жаждала (вспомним, как интенсивно развивались в 50-е годы мемуарные жанры, документальный очерк), но почти еще не знала советская литература о войне, хотя на счету ее уже имелось немало прекрасных поэтических книг на эту тему (А. Недогонов, С. Гудзенко, М. Дудин, М. Луконин, С. Орлов). Фактически это была новая страница художественной летописи Великой Отечественной войны, славное начало ныне знаменитой «военной прозы», которую вместе с Бондаревым создавали его фронтовые сверстники — Григорий Бакланов, Владимир Богомолов, Василь Быков, Виктор Астафьев, Евгений Носов, Константин Воробьев, Анатолий Ананьев, Юрий Гончаров и другие писатели, принадлежащие к легендарному «огненному поколению» молодежи 40-х годов.
Актуальность бондаревских художественных решений была отмечена и по достоинству высоко оценена критикой. И саму обращенность к недавнему военному прошлому, и, еще более, бесстрашную правдивость изображения его — эти особенности повести «Батальоны просят огня», а затем и «Последних залпов» рассматривались и как значительное, и, главное, как закономерное явление литературы тех лет. «Они должны были появиться, — писал в 1961 году И. Золотусский о произведениях Бондарева, — и если бы их написал не он, это сделал бы кто-то другой из его поколения». Само время, по мнению критика, «требовало от писателей оглянуться и вновь рассказать о том, что было. Оно требовало честной исповеди, пусть самой жестокой, но правды».
Однако, отдавая должное обусловленности бондаревских произведений спецификой и задачами породившего их исторического времени, в суждениях критиков подчас чувствовалось, что однажды счастливо найденные Бондаревым темы, конфликты, герои как бы навсегда закреплялись за ним, расценивались как доминантный признак всего его будущего творчества. И если от писателя ожидали новых шагов, то связывали их больше всего с разведкой нового жизненного материала послевоенной действительности, в которой будут развертываться судьбы персонажей, уже знакомых по прежним его произведениям.
Думается, что в таком подходе была повинна не только впечатляющая сила бондаревских героических повестей, убедительная пластика их образов, человеческое обаяние запечатленных героев, с которыми критикам, как и всем читателям, трудно было расставаться. Имело значение, по-видимому, и то, что художественный мир писателя уже в ту пору, как и сейчас, отличался большой и завидной внутренней целостностью.
В самом деле, присмотритесь внимательней к произведениям Бондарева, написанным в разные годы, и вы непременно заметите, что в них нерушимо и полновластно царят общие идеи, прежде всего — идеи социальной справедливости и гуманизма. И герои их действительно зачастую типологически, как личности родствены между собой, являются даже как бы предтечами друг друга. Достаточно назвать обладающих высочайше развитым чувством совести и долга Ермакова из повести «Батальоны просят огня», Новикова из «Последних залпов», Княжко из романа «Берег». Очень схожи нарисованные художником женские характеры, в особенности фронтовые героини, мужественные и нежные девушки-сандружинницы — Шура из повести «Батальоны просят огня», Лена из «Последних залпов», Зоя из романа «Горячий снег». Есть нечто общее, определяемое и недюжинными задатками, и болезненным самолюбием, даже у таких разных лиц, как Брянцев из «Юности командиров», Овчинников из «Последних залпов» и Рамзин из «Выбора». Нетрудно уловить некое сходство в непререкаемо жестких характерах полковника Иверзева из повести «Батальоны просят огня» и майора Воротюка из «Выбора». В его художественном мире неизменно свята память о героях и жертвах Великой Отечественной войны, являющаяся не только необходимой и естественной данью бессмертному прошлому, но и безошибочной, неподкупной мерой духовных ценностей настоящего.
Все это так. И тем не менее, несмотря на всю свою определенность, творчество Бондарева никогда не было расположено к самоповторам или спокойно-постепенной эксплуатации собственных достижений. В характере бондаревского таланта была изначально заложена, запрограммирована та спасительная неугомонность, что отличает большого писателя и толкает его на постоянный поиск новых и новых, все более глубоких истин о человеке и жизни. На поиск, который требует непременного и решительного развития, обогащения, совершенствования всей творческой системы, начиная от ее тематически-проблемных сторон и до изобразительных средств.
Стоит сопоставить даже очень близкие мезду собой и по времени написания, и по материалу, и по жанру повести «Батальоны просят огня» и «Последние залпы», чтобы со всей очевидностью заметить, как даже в этом случае от произведения к произведению не просто совершенствовалось писательское мастерство, но существенно развивалась проблематика, а вместе с нею — и поэтика. Поставленная еще в первой повести проблема столкновения на войне таких разных категорий, как жестокость и человечность, приобрела в «Последних залпах» и гораздо большую сложность, и трагичность, отчего теперь решение ее автор, поручил главному герою. Крупный план изображения внутреннего мира капитана Новикова, вынужденного посылать людей на смерть, позволяет писателю раскрыть всю мучительность переживаний человека, на плечи которого легла ответственность и за выполнение гражданского долга, и за чужие жизни. И гуманистическая проблема повернулась своим острием уже. не только против отдельных нарушений принципа человечности, но одновременно и против самой войны, которая неумолимо обрекает мир на кровопролитие и жертвы.
Вместе с тем более подробный, чем в первой повести, рисунок психологических состояний не только главного героя, но и других персонажей позволил автору в полный голос сказать о самом, пожалуй, важном, к чему впоследствии он еще не раз будет возвращаться в своих произведениях, чтобы вновь задуматься и об интересах личности, и о суровой необходимости долга. Речь идет о том, что нравственная атмосфера «Последних залпов» полна добрых чувств сострадания, участия, понимания, которые живут в человеческих душах вопреки и наперекор жесточайшим обстоятельствам фронтовой действительности. Сама любовь во всей своей беззащитности и, вместе, силе не гибнет среди крови и пожарищ, хотя героям бывает трудно, «чудовищно странно» и почти невозможно говорить о ней своими огрубевшими, «хриплыми», как бы чужими голосами.
Прошло совсем немного времени, и в творчестве Бондарева обозначился новый, еще более наглядный сдвиг. Писатель выступил с романом «Тишина» (1963—1964), который во многих отношениях оказался новаторским и для него самого, и для литературы тех лет в целом. Здесь ему впервые удалось вплотную подойти к материалу послевоенной действительности с заметным намерением передать всю ее сложность. Такой задачей объясняется, по-видимому, и возвращение автора к объемной, расположенной и к анализу, и к синтезу романной форме, но уже на несколько ином, более высоком художественном уровне. По сравнению с первой повестью «Юность командиров», в «Тишине» резко усилился драматизм действия, что отвечало насущным потребностям тогдашней литературы, развивавшейся под знаком непримиримой борьбы с бесконфликтностью.
В отличие от целого ряда первых послевоенных произведений о фронтовиках, пришедших с войны, в бондаревском романе давалось и более глубокое, и более развернутое представление о трудностях, с которыми встретились эти люди, в особенности молодежь. Писатель не ограничился постановкой таких вопросов, как трудоустройство, поступление в институт, о чем писал, например, В. Добровольский в своих ранних повестях («Трое в серых шинелях», 1945). Он тесно связал судьбы вчерашних воинов с противоречиями и конфликтами общественной жизни послевоенных лет, с фактами нарушения законности, прав человека.
Мотив этот прозвучал в «Тишине» трагически, сильно. Постоянную напряженность сюжетному действию романа сообщал конфликт главного героя Сергея Вохминцева с «улыбчивым негодяем» Уваровым, который когда-то и на фронте совершал подлые, граничащие с преступлением поступки, а теперь увертливо приспосабливался к мирным обстоятельствам. И остроту этого конфликта писатель подчеркивал особенным способом, который впоследствии будет многократно использоваться им. Своих любимых героев он наделял обостренной «памятью войны», которая проявлялась в повышенной чувствительности к добру и злу, правде и лжи, в болезненной нетерпимости к демагогии, карьеризму, малодушию, словом — в той нравственной бескомпромиссности, которая не допускает легких развязок.
Разумеется, неверным было бы полагать, что развитие бондаревского творчества совершалось безболезненно и гладко. Были на этом пути и свои неудачи. Трудно давалась писателю крупная повествовательная форма. В той же «Тишине» начало повествования было социально более насыщенным, чем конец. Вторая часть романа, опубликованная под заглавием «Двое», носила более камерный характер. В повести «Родственники», которая писалась вслед за «Тишиной», автору явно не хватало пространства для того, чтобы круто замешанная семейная драма получила достаточно убедительное психологическое объяснение и обоснование.
Тем не менее Бондарев не только не отступал перед трудностями, но сознательно шел им навстречу. После «Тишины» и «Родственников», кажется, естественным было дальше разрабатывать тему современности. Но писатель поступил иначе. Он создал свой знаменитый «Горячий снег», в котором тематически словно бы возвращался назад, к своим первым батальным повестям. А на самом деле, если рассматривать этот роман в целостном единстве его тематики, проблематики и стиля, на самом деле опять совершал бросок вперед, решительно и смело пробиваясь к новым художественным истинам.
О. Михайлов считает, что в изображении войны и человека на ней здесь у Бондарева впервые раскрылось новое для него «шолоховское начало», суть которого в умении «спрессовать огромное число людских судеб, характеров, событий в единое целое, в некий художественный монолит».
Думается, что начало это присутствовало и по-своему проявлялось еще в ранних повестях писателя. Вспомним «Батальоны просят огня», где одной из главных особенностей воссозданной картины явилась именно множественность действующих лиц, непохожих друг на друга и вместе с тем существующих нераздельно, как нечто целое, как нерушимое братство людей, объединенных общими жизненными целями, общей бедой и общим мужеством. И если уж говорить о шолоховском начале в «Горячем снеге», то скорее следует отметить удивительную гармоничность сплетения в этом романе истории и факта, масштабности и конкретности, великого и рядового.
Критика уже не раз справедливо отмечала, что с появлением в «Горячем снеге» такой фигуры, как командарм Бессонов, в военную прозу Бондарева вошло то, чего ранее в ней не было, — укрупненный масштаб действия, пределы которого раздвинулись так широко, что фронтовой «пятачок», на котором мужественно сражались и умирали герои прежних произведений писателя, оказался как бы частью огромной панорамы Отечественной войны. Одновременно автору удалось раскрыть нераздельность большого и малого. Оттого и безграничен героизм рядовых бондаревских артиллеристов, что чувствуют они себя на войне не горсткой храбрецов, брошенных на произвол судьбы, а надежными защитниками чего-то очень большого, бессмертного — своей Отчизны. И никто иной, как именно Бессонов, которому дано «великое и опасное право командовать и решать судьбы десятков тысяч людей», помогает укреплению в этих людях столь высокого и спасительного чувства сопричастности. Это он неколебимо посылал их на смертный бой с врагом. И он же, задыхаясь от неподдельного волнения, вместе с орденами Родины награждал оставшихся в живых героев своей отеческой благодарностью: «Все, что лично могу... Все, что могу... Спасибо за подбитые танки. Это было главное — выбить у них танки. Это было главное...».
Бондарев от книги к книге двигался по существу в одном направлении. Его постоянно манила проза, предельно нагруженная содержанием. Более того, проза, в которой впечатляющая пластика живописания органично соединялась бы с устремленностью в самые высокие сферы мыслительности, в область нравственной философии.
Тайна искусства крупного, емкого волновала Бондарева всегда еще в ту пору, когда творческая система автора повестей «Батальоны просят огня» и «Последние залпы» только складывалась, свой выбор в пользу литературы многомерной, всеобъемлющей он уже сделал. Молодой писатель не сомневался, что само наше «стремительное время» нуждается в произведениях концентрированной мысли, требует «коротких, строгих по языку романов и повестей». Он мучился проблемами художественного синтеза, искал у Л. Толстого секретов передачи настроения целой сцены с помощью одной только интонации, повествовательного ритма; присматривался к умению Бунина создавать атмосферу произведения повтором точно найденного слова; учился у выдающихся мастеров русской прозы — от Чехова до Шолохова — такому построению сюжета, когда он используется не ради «возбуждения интереса читателя», но служит выражению идей, несет в себе большую смысловую нагрузку, составляет «глубинное движение вещи, как бы подводное течение». Тяготение и к эпичности, и к масштабности так или иначе обнаруживалось в бондаревском творчестве на всем его протяжении.
Правда, начинался литературный путь писателя с жанровых форм, как будто бы мало расположенных к объемности. Первыми его произведениями явились небольшие рассказы. «Я был увлечен жанром рассказа, — вспоминал позже Бондарев, — убежденный, что только короткая, почти пейзажного рисунка новелла — мое. призвание в литературе, моя судьба». Крупные жанры повести, а тем более романа казались ему тогда «недосягаемыми». Останавливала неуверенность «в собственных силах и возможностях» создавать вещи развернутые, «со множеством героев, с длительным и подробным изложением событий».
Тем не менее при всей действительной ограниченности и во времени, и в пространстве, при небольшом количестве действующих лиц рассказы Бондарева вовсе не получились замкнутыми в самих себе. Напротив, где-то в их глубине прослушивалось пусть не совсем отчетливое, но все же несомненное биение, так сказать, эпического пульса.
Ранние рассказы Бондарева довольно-таки долго считались как бы «нейтральными». Однако теперь, с высоты всего созданного писателем в дальнейшем, хорошо просматривается как их своеобразная значительность, так и особенно показательность для его таланта. Некоторые из рассказов не случайно с такой полноправностью вошли в последующие издания сочинений Бондарева. Как убедительно показывают тщательные исследования, в них четко обозначилось многое из того, чем сегодня определяется творческий почерк писателя, отразились те авторские «пристрастия и склонности», которым далее предстояло «крепнуть и развиваться»: «Внимание к социально-психологическим коллизиям, живописно-пластическое запечатление событий и характеров героев, способность создавать определенное настроение, углублять внутренний драматизм сюжета». К этим перспективным «пристрастиям и склонностям» следовало бы отнести также отдельные особенности самой жанровой структуры рассказов, которая по-своему красноречиво говорила о подспудном тяготении автора к искусству большого размаха, крупных художественных обобщений.
Форма рассказов была разной — от делового очерка и до пейзажной новеллы. Однако некоторые из них — в том числе и те, что позже переиздавались, — заметно тяготели к этюдности. В них почти не ощущалось интриги, а начала и концы были словно оборваны, отсечены. Все внимание автора сосредоточивалось на максимально выразительном, пластичном рисунке одномоментной ситуации и психологического состояния, переживаемого героями. Так построен, например, наивно трогательный рассказ «Поздним вечером», где художник как бы остановил одно из замечательных и таинственных мгновений человеческой жизни, когда ребенок начинает осознавать себя личностью. Сходная композиция и у другого рассказа — «Незабываемое», в котором автор впервые прикоснулся к столь органичной для него впоследствии теме Отечественной войны, чтобы запечатлеть лишь один щемяще правдивый кадр из огромной панорамы народного мужества и страданий.
Иначе говоря, некоторые бондаревские рассказы несли в себе определенный заряд эпичности. Они были написаны так, словно предназначались стать фрагментами более крупных повествовательных полотен. Масштаб изображения по существу был единым, рассчитанным на емкую полноту последнего. Поэтому, скажем, «Незабываемое» нетрудно представить в тексте крупноформатной «военной прозы» Бондарева.
Разумеется, у такого традиционного для русской литературы жанра, как рассказ, всегда имелись в обращении и другие, более изощренные способы и средства преодоления герметичности так называемой «малой прозы», увеличения ее масштабности. Это и афористичность слога, и обобщающая символика, метафоричность образов, и многомерность притчеобразных сюжетов, и многое другое. Однако Бондарев лишь спустя ряд лет, уже в 70-е годы стал разрабатывать их в своих прозаических миниатюрах, составивших книгу «Мгновения».
А тогда, в начале творческого пути, он, вопреки своей неуверенности и робости перед крупными жанрами, обратился именно к ним. И уже в пределах повести, романа, используя все их сильные жанровые права и привилегии, повел свой поиск возможностей всемерного увеличения эпичности прозы, ее выхода, — как говорил он, — «на просторы земного шара», органичного включения в широкий социально-исторический и нравственно-философский контекст. Интенсивность этого поиска была неодинаковой, равно как различными являлись его пути.
В повести «Юность командиров», которая явилась для писателя первой «попыткой познать «сладость и горечь» нового жанра» еще трудно было уловить нечто, превышающее сюжетную историю. Ее, по слову самого автора, «некоторую наивность, чистую непосредственность молодости» не осложняли ни крупные нравственные драмы, ни глубокие психологические противоречия, ни серьезные размышления о высоком и вечном. Оттого и образный строй повести был ясен, почти однопланов.
И все-таки ясную эту одноплановость уже слегка разрушали тонкие бондаревские пейзажи. «Снег летел в свете одиноких фонарей, сыпался с крыш; возле темных подъездов намело свежие сугробы. Во всем квартале было белым-бело, и вокруг — ни одного прохожего, как в глухую пору зимней ночи. А было уже утро». Так начиналась повесть. С этим описанием нам передается и особенная свежесть духовной атмосферы повести, ее удивительная нравственная чистота. А кроме того, в подтексте пейзажной зарисовки проступал еще один, глубинный смысл. Прошлогодняя метелица, что мела по пустынным улицам мирно спящего города, — это еще и своеобразная метафора послевоенного бьггия, контрастно подчеркивающая величие подвига юных героев повести, которые прошли сквозь военный огонь и орудийный грохот, завоевывая для людей право на этот мирный сон.
Совсем по-другому раздвигались пределы эпического пространства в повестях «Батальоны просят огня», «Последние залпы». Здесь писатель пошел, можно сказать, на открытый и дерзкий штурм именно той «крепости», которая перед тем страшила его наиболее.
В сюжетное действие повести «Батальоны просят огня», сосредоточенное на крохотном «пятачке» фронта и ограниченное во времени, он ввел необычайно большое количество персонажей. Рядом с крупным планом запечатления главных героев — капитана Ермакова, санинструктора Шуры, старшего лейтенанта Кондратьева, командира дивизии Иверзева, полковника Гуляева и некоторых еще, развернулся общий план изображения эпизодических фигур. В полную свою силу проявился здесь у автора его могучий дар пластичного живописания, владения безошибочно точной деталью, эпитетом, образом, более шестидесяти действующих лиц предстали наделенными «лица необщим выраженьем». Вот Жорка Витьковский, шофер и адъютант полкового командира. Кажется, весь его независимый и лихой, чуть-чуть склонный к позерству, но истинно бойцовский характер виден в беглом портрете, намеченном словно бы одним росчерком пера художника: «Его мальчишески наглое лицо было спокойно, немецкий автомат небрежно перекинут через плечо, из широких голенищ в разные стороны торчали запасные пенальные магазины». Так же живописны, хотя и гораздо меньше развернуты характеристики персонажей, которые появляются в повести от случая к случаю. Это и Деревянко, «весь черный, как жук», и «подвижной, белобрысый» полковой писарь Вася, что «услужливо привскочил» при виде капитана, а «начищенная до серебряного мерцания медаль «За боевые заслуги» мотнулась на его груди»; это и «средних лет, рыжеватый» командир пехотного батальона капитан Максимов, у которого «добродушный, ласковый взгляд из-под коротких золотистых ресниц светился девичьей озорной улыбкой»; это и братья Березкины, «два одинаково молодых сержанта, одинаково большеглазых, одинаково широкоплечих»; это и многие, многие другие, каждый из которых был вправе сказать о себе словами поэта — «без меня народ неполный». В живой и нерасторжимой совокупности своей все они составили масштабный образ героического народа, что и подняло небольшую по объему повесть на уровень истинного эпоса.
Энергичному увеличению емкости эпического пространства бондаревских романов и повестей способствовала, однако, не только всеми замеченная «множественность» их героев. Не менее важно и примечательно было другое — постепенно, но неуклонно совершавшееся в творчестве писателя наполнение сюжетного действия высокой Мыслью. Той Мыслью, которая выходит за пределы конкретной ситуации, изображенной художником, и простирается до мировых проблем человеческого бытия.
Уже в повести «Батальоны просят огня» с ее, казалось бы, заостренным вниманием к чисто батальной стороне изображаемых событий, уже там принципиальную роль сыграла почти ненароком брошенная одним из героев фраза с философским подтекстом — о яблоневой «голой веточке», которую легко погубить.
На первый взгляд могло показаться, что образ этот был случайным, не заключал в себе никакого особенного, «второго» смысла «Вот оторвал эту ветку — и она погибла», — говорил капитан Ермаков своему командиру, как будто только для того, чтоб уйти таким образом в сторону от его вопросов. И тот реагировал на ермаковские слова тоже вроде бы полушутливо, отзывался на них «с грустным весельем: «Оторванная ветка! Ска-жи-те! Философ, пороть тебя некому!»
Дальше никто об этой ветке не вспоминал, впереди у героев были жестокие бои, тяжкие утраты. Но «голая веточка», небрежно сорванная Ермаковым, присутствует в образной системе повести вовсе неспроста, и хотя автор рисовал ее едва ли с особенно «дальним прицелом», она еще «припомнится».
Только не героям повести, а нам, ее читателям. Припоминается в тот трудный момент, когда сложная диалектичность бондаревских художественных аргументов ставит нас перед невозможностью принять чью-либо сторону в жесткой коллизии «обстоятельства — человек». Мы разделяем боль и муку капитана Ермакова, чей батальон, не поддержанный огнем батарей, погиб, выполняя тактическое задание командарма Иверзева. Но нам понятна и суровая необходимость, толкнувшая последнего на отмену приказа о поддержке батальона
Здесь-то и приходит нам на память та самая «голая веточка», способная своей отрешенностью от конкретных жизненных обстоятельств перевести решение невыносимой коллизии в план философских раздумий. А раздумья эти ведут к мысли о бесценности человеческой жизни, с гибелью которой не могут смирить нас никакие причины и обстоятельства. И в свете этой высокой истины уже по-особому, крупно, значительно видится вся та фронтовая реальность, которой до краев наполнена бондаревская повесть, и все те переживания, какими живут его герои.
Не став сюжетообразующим элементом, оставшись только в памяти читательской, отвлеченно возвышенный мотив «голой веточки» тем не менее явился определенным сигналом. Не случайно критика настроилась на поиск в военных повестях Бондарева сокровенного философского смысла и даже открыто высказанных философских идей. Одним не удавалось найти там ничего подобного, и они, как П. Топер («Человек и война»), высказывали автору свои претензии, упрекали его за то, что, скажем, в повести «Последние залпы» не высказывается «великих истин». Другие, как И. Золотусский, убежденно доказывали, что истинами такими пронизано все содержание этой повести, хотя в ней действительно нет открытых философских споров, диспутов, речей. «Слова не нужны, все перенесено в душу, все читается там», — писал И. Золотусский, трактуя само мучительное переживание главным героем «Последних залпов» капитаном Новиковым его ответственности за жизни подчиненных не иначе как «осмысленную философию».
В последующих произведениях Бондарева появятся уже и открытые философские споры. Такова, например, полемика о милосердии и жестокости, завязавшаяся в «Горячем снеге» между советским генералом Бессоновым и пленным фашистским майором. Началась она с малого — с обиды немца на «суровое» обращение русских, отказавших ему в такой малости, как сигарета («Прошу ничтожного милосердия на пять минут. На одну сигарету»). Однако малое, бытовое сразу же отошло на второй план, уступив место идеям и мыслям всеобщего значения. Развернулась дискуссия, в которой непримиримо столкнулись две идеологии, две философии, два различных взгляда на человека и мир. И уже не о своих личных обидах говорил немец, он рассуждал о самой природе человеческой, утверждая изначальную будто бы предрасположенность ее к насилию и жестокости: «Вы считаете нас злыми и жестокими, мы считаем вас исчадием ада... Война — это игра, начатая еще с детства. Люди жестоки с пеленок. Разве вы не замечали, господин генерал, как возбуждаются, как блестят глаза у подростков при виде городского пожара? При виде любого бедствия. Слабенькие люди утверждаются насилием, чувствуют себя богами, когда разрушают... Это парадокс, это чудовищно, но это так. Немцы, убивая, поклоняются фюреру, русские тоже убивают во имя Сталина. Никто не считает, что делает зло. Наоборот, убийство друг друга возведено в акт добра. Где же искать истину, господин генерал? Кто несет божественную истину?»
И на этом же, философском плацдарме давал бой своему противнику генерал Бессонов, разоблачая несостоятельность его «лукавой философии», обнажая беспочвенность скользкого этического релятивизма и подводя прочные социально-исторические основы под свою высокую идею гуманности: «Мне ненавистно утверждение личности жестокостью, но я за насилие над злом и в том вижу смысл добра. Когда в мой дом врываются с оружием, чтобы убивать... сжигать, наслаждаться видом пожара и разрушения, как вы сказали, я должен убивать, ибо слова здесь — пустой звук. Лирическое отступление, господин майор!..»
Гораздо убедительней и весомей говорило о приобщении автора к новому для него тогда направлению философской прозы иное. Это, прежде всего, сложная, неодномерная концепция человека и мира. Но это также и соответственно непростые и своеобразные формы художественного мышления, среди которых можно назвать и повышенную власть заглавной авторской идеи над всем ходом повествования; и соединение анализа высот человеческого духа с проникновением в глубины подсознания; и свободу обращения с временем, пространством, когда не только допускаются, но и предполагаются забеги как в историческое прошлое, так и в будущее (вплоть до фантастики); и преднамеренную дисгармоничность повествовательной конструкции, охотно включающей в себя вставные новеллы, авторские отступления; и приемы аллегории, символа, притчи, способные бесконечно расширять и углублять конкретное содержание; и кризисность ситуаций, когда характеры раскрываются с наибольшей полнотой.
Все это, пусть в не очень развитом виде, отдельными элементами, но присутствовало уже в произведениях, созданных Бондаревым еще в 50—60-е годы. Так, в «Тишине» оказался применен органичный для философской прозы прием, которым, кстати, Бондарев будет затем пользоваться и в «Береге», и в «Выборе». Две разные исторические эпохи — военная и послевоенная предстали здесь не только как хронологически соседствующие, но еще и как психологически глубоко объясняющие друг друга Особенная мучительность тревог и переживаний героя этого романа Сергея Вохминцева в значительной степени была обусловлена его фронтовым прошлым. Бондарев по собственному опыту знал, что именно там, на войне, сформировалась у ее участников, в особенности молодых, повышенная острота чувств. «Мы научились ценить то, — вспоминал он позже, — что в силу привычки теряет цену в мирные дни, что становится обыденным: случайно увиденная на улице улыбка женщины, парной майский дождик в сумерках, дрожащий отблеск фонарей в лужах, смех ребенка, впервые сказанное слово «жена» и самостоятельное решение.
Мы научились ненавидеть фальшь, трусость, ложь, ускользающий взгляд подлеца, разговаривающего с вами с приятной улыбкой, равнодушие, от которого один шаг до предательства». И в этих признаниях писателя содержится едва ли не «конспект» всего, что происходило в душевном мире Вохминцева.
В «Тишине» автор едва ли не впервые осознанно использовал могучую мыслительную энергию символики. И не простой символики, а той, что далека от голой иносказательности, сопрягается с реальностью и опосредованно, и потаенно. Таков сон Вохминцева, открывающий романное повествование и настраивающий читателя на усиленную работу ума и сердца Все в этом сне фантастично, но выстраданно, исходит из прошлого, но предвещает будущее. И за всем стоит нечто большое и трудное: «Выбиваясь из сил, он бежал посреди лунной мостовой, мимо зияющих подъездов, мимо разбитых фонарей, поваленных заборов.
Он видел: черные, лохматые, как пауки, самолеты с хищно вытянутыми лапами беззвучно кружили над ним, широкими тенями проплывали меж городских труб, снижаясь над ущельем улицы. Он ясно видел, что это были не самолеты, а угрюмые гигантские пауки, но в то же время это были самолеты, и они сверху выследили его, одного среди развалин погибшего города».
«Горячий снег», в отличие от «Тишины», был свободен от временного полифонизма. Все действие его совершалось в одной и той же обстановке, в условиях боев под Сталинградом. И стилистика романа выглядела иной, чем в «Тишине», не располагающей к специальным отступлениям от реальности изображаемых событий. Повествовательная ткань отличалась чрезвычайной плотностью. Она состояла будто бы из множества тесно переплетающихся между собой звеньев, каждое из которых содержало в себе детальное, тщательное описание тех тысяч и тысяч шагов, что вели наш народ к высокой Победе.
Правдивейшая подробность этих описаний ставилась писателю в большую заслугу. Все нарисованные Бондаревым сцены, эпизоды, ситуации, случаи фронтовой действительности, помимо воссоздания живой реальности минувших лет, служили еще решению и определенной сверхзадачи.
Все происходящее с героями «Горячего снега» на грани жизни и смерти являлось великим испытанием их духовного потенциала. Оттого герои эти представали в состоянии внутреннего движения, которое чаще поднимало их на удивительные нравственные высоты, иногда трагически роняло, но всегда позволяло познать истинную ценность человеческой личности.
И здесь-то, в этой максималистской аналитичности, которая сообщала глубину и сложность заложенной в романе идее русского национального характера, заключалась, видимо, основная особенность «Горячего снега» как произведения литературы высокого, философского уровня. Вспомним, что сам Бондарев, подразумевая и свой «Горячий снег», и другие произведения «военной прозы», сказал так: «Роман о войне стал теперь более философичен, он выявляет ценность жизни, ценность человека там, где бытие становится лицом к лицу с небытием».
Многие и разные факты творческого развития Бондарева убеждают, что именно формы философски направленного художественного мышления постепенно, но неуклонно осознавались писателем как одна из наиболее оптимальных возможностей реализовать свою давнюю мечту о литературе очень крупного, может быть, глобального размаха идей и одновременно лапидарного, предельно насыщенного мыслью и чуждого всякой суетности стиля.
Конечно, все, о чем велась речь, можно рассматривать как процесс поиска, накопления опыта философского мышления, что, разумеется, нисколько не уменьшает ценности художественных произведений, которые создавались писателем в самом начале его литературного пути. Только в своих следующих романах — «Берег», «Выбор», «Игра», «Искушение» Бондарев по-настоящему раскрылся как художник особого, нравственно-философского склада Именно в них со всей полнотой претворилась его давняя убежденность, что истинная масштабность искусства заключается в глубоком понимании художником исторической связи времен и событий, «в емкости мыслей и чувств», в правде изображения мира, которую обеспечивает «тщательный анализ и синтез».
И все же, и все же... Началом всех начал явилась молодая, горячая «военная» проза Бондарева, которая и сегодня притягивает к себе, тревожит сердца глубиной своего проникновения в тайное тайных вечно мятущейся человеческой души.
Пройдут годы, и мир станет другим. Изменятся интересы, пристрастия, идеалы людей. И тогда произведения Бондарева опять будут прочитываться по-новому. Возможно, что читателей больше всего заинтересует в них уже не беспощадная правда войны, как это случилось когда-то с первыми бондаревскими книгами, посвященными ей, и, вероятно, даже не высокие нравственно-философские истины, заключенные в них и столь важные для нас сегодня. Не исключено, что человечество, если сумеет избежать глобальной катастрофы, с течением лет проявит наибольший интерес к самой действительности, к очарованию природы, к бессмертной красоте земного бытия. И в этих условиях первостепенное значение в бондаревских книгах сможет обрести не что иное, как отличающее их магическое живописание окружающей человека среды, как удивительная пластика воссозданных там образов, сцен, состояний. Ведь не случайно сам Бондарев признает главным для себя то убеждение, что «художественная истина лежит в умении писателя создать живую жизнь».
Однако все это в будущем, о котором можно лишь гадать. Сейчас же несомненным представляется то, в чем убеждает современное прочтение ранней прозы писателя. Истинная литература в самом деле не стареет, обладая, по Платонову, спасительным «свойством неисчерпаемости».
Л-ра: Литература в школе. – 1995. – № 3. – С. 26-34.
Произведения
Критика