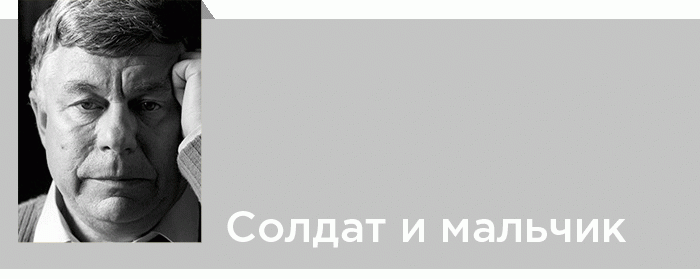Тихим голосом

К. Щербаков
Чего только не печатают сегодня на газетных, журнальных страницах! Думал ли еще два-три года назад, что на моем столе будет неуклонно расти горка непрочитанной периодики — то, до чего за недостатком времени просто не дошли еще руки, но непременно, непременно должны дойти.
В этих обстоятельствах, многим, наверное, знакомых, понятных, до книжки Михаила Рощина «Полоса» долго не доходили руки. Конечно — Рощин. Репутация, имя. Но вещи в основном прежних лет, и к тому же многие публиковавшиеся, не «зажатые», а значит — сенсаций не будет. Между тем журнальная горка все выше, и звонок из театра, где премьера пьесы, которую не пускали на сцену двадцать лет, и предстоящий просмотр фильма, сделанного на материале, к которому прежде и близко-то нельзя было подойти...
Все так, все верно, и лучшие журналы наши — это авангард перестройки, и театру, кинематографу нашему предоставлены возможности невиданные... Только все чаще после потенциально сенсационных просмотров огорченно скребешь затылок: остро, смело, ассоциативно — а мимо. Нет, я сейчас не о спекуляциях, не о попытках сделать свой маленький бизнес на перестройке теми же способами, какими он в недавние годы делался на застое. Просто... просто все мы слишком хорошо научились быть революционерами применительно к антиреволюционному времени, карбонариями с оглядкой на министерство, Главлит. Я — без иронии. Трудно было, даже идя на конфликт, отважиться на безоглядность: ведь от вышеназванных и им подобных инстанций зависела твоя литературная, театральная, кинематографическая судьба. Сможешь ли ты сказать людям хотя бы часть того, что нужно, необходимо сказать, или, гордо замолкнув, не скажешь вообще ничего. Мне лично не близка позиция бескомпромиссного молчания, самоустранения, ухода, хотя к людям, ее исповедующим, я отношусь с уважением. Но будем честны: привычка к тому, что полную правду сказать все равно не дадут, призрак барьера, границы там, где их уже нет, — сегодня опасность реальная. И по мере освоения добротной и честной художественной продукции, где так или иначе дает о себе знать это часто даже не осознанное ощущение внутреннего барьера, — все острее, все отчетливей хочется — безграничности. Внутренней раскованности, ничем не связанной и никому не обязанной. Той, которая есть у Булгакова, у Платонова и без которой — всерьез — к нашей сегодняшней социальной реальности не подступиться.
Чтобы избежать интонации напряженного, взвинченного прогрессизма, столь, кстати, самому Рощину несвойственной, скажу так: его последняя книга — это одна из попыток, один из возможных подступов к обретению такой раскованности. Написанное, в том числе (а точнее, прежде всего) в застойные годы, представлено на читательский суд достойно и без суеты: так было, так я писал и думал, а вы уж судите, что устарело, а что — нет.
Испытание временем, по-моему, выдержало не все. Почему повесть «Первый, второй» кажется сегодня какой-то интонационно заторможенной — временами до скуки? Повесть о работниках сельского райкома, о трудных годах на деревне, когда все было зарегламентировано и «закомандовано», — это ли не продолжает оставаться тревожным и актуальным? В повести, написанной более двадцати лет назад, и сегодня не слышится ни одной фальшивой ноты. Мало? По счету литературы, ее реальных, восстанавливаемых сегодня критериев, — знаете, маловато. Когда закрываешь повесть с ощущением: все это верно, однако мне уже ведомо, — значит, писатель чего-то недодал. Увидел, подметил, но не добрался до глубинного слоя, не вышел на такое знание, понимание предмета, которое давало бы право на полную объективность без риска, что она обернется даже по прошествии двадцати с лишним лет. Может быть, «сельская тема» просто не вполне органична для Рощина? Дальше я попытаюсь показать, что в темах, для него органичных, писатель как раз и силен своей объективностью, ненавязчивостью, уходом от прямых и однозначных оценок.
Они, как и непосредственные обращения к читателю, в книге редкость. К примеру, смотрит писатель на заграничную жизнь, думает, сравнивает, сопоставляет, и вдруг вырывается у него крик души: «Есть что посравнивать, и что касается торговли, магазинов, организации дела, техники, умения считать, беречь, удовлетворять спрос, то тут, к сожалению, сравнение почти всегда не в нашу пользу. И так это, честно сказать, надоело. Глядишь на себя, пожилого уже человека, на патриотическое свое волнение, вспоминаешь, как ты еще мальчишкой в газете бился за внедрение торфоперегнойных горшочков, которые, по тем понятиям, и должны были вывести наше сельское хозяйство на мировой уровень, и делается смешно: нет, видно, так и помрешь, а порядка не увидишь. Да, смешно, только плакать хочется!»
Действительно, крик души, только и в нем нет высоких, взвинченных нот: просто допекли, слишком уж допекли наши бесчисленные «отдельные недостатки» терпеливого, терпимого, деликатного человека — и он сказал, с какой-то тихой, горькой усталостью, и за нею услышалось: люди, как вам не стыдно? Как же вы к этому притерпелись, люди?
Прозвучало это с нежданной пронзительностью потому именно, что к «обличительству» Рощин в своей прозе и журналистике совсем не склонен. И он дорожит этим, не дает захватить себя даже самой заманчивой, от нужного, верного идущей «конъюнктуре момента».
В рассказе «Последний вопрос», например, представлено заседание Совета Министров, на котором решаются разного рода хозяйственно-финансовые проблемы. Мы слишком много знаем сегодня о командно-административных методах, приведших нашу экономику на грань кризиса, и нам трудно внутренне удержаться, не подойти к такой зарисовке с ожиданием, даже требованием штрихов и деталей разоблачительных, сатирических (тем более «можно», Совмин сегодня другой, так чего опасаться или стесняться). Рощин, конечно же, не опасается и не стесняется. Просто, я думаю, он видел когда-то подобное заседание (Совмина ли, коллегии ли министерства, не знаю), написал о том, что видел, — и не счел нужным в книжке 1987 года подстраиваться под читательские ожидания. Система была экстенсивной, завела в тупик, а люди, причастные даже к высшим ее эшелонам, были разные, не только оторвавшиеся от жизни и некомпетентные, но и такие, которые пытались искать выход из тупика. Посмотрите, подумайте... Писатель верен этому принципу, даже если чувствует, что в данный момент кто-то ждет от него другого.
В статье «Трагедия драмы», размышляя об «отставании драматургии», Рощин напоминает о негодных методах руководства искусством, об административно-бюрократических препятствиях, вставших на пути едва ли не каждой живой пьесы. Думаю, когда книга подписывалась в печать, Рощин уже хорошо понимал, что ситуация переменилась, что проблема сегодня приобретает иной ракурс: возможности есть, а пьесы почему-то не пишутся. Понимал, но счел необходимым обнародовать и те свои соображения, которые как бы и устарели.
И эти соображения думающего, честного человека мы сегодня читаем не без пользы для себя, нет, не без пользы. Потому что за ними — и наши собственные попытки пробиться к истине, и если в результате наших общих усилий попытки эти стали менее актуальными, а в качестве самых животрепещущих жизнь предложила иные проблемы, то это отнюдь не отменяет их, попыток, значенья и смысла. Книга Рощина интересна еще и движением мысли, лично мне очень близкой, и смелым намерением не миновать тех этапов этого движения, которые сегодня представляются пройденными решительно и бесповоротно. Мы должны помнить, сколько усилий было затрачено на то, чтобы очевидное стало для всех очевидным. Чтобы остроактуальное еще совсем недавно теперь стало менее актуальным.
Несуетная последовательность, нежелание быть в плену веяний являют, мне кажется, одну из основ, опор писательской работы Михаила Рощина, способствуют созданию лучших его вещей.
В повестях «Шура и Просвирняк» и «Роковая ошибка» не найти «остроты» в установившемся, ставшем привычным понимании этого слова. Действие одной из них происходит в период сталинизма, другой, по всей видимости, в период брежневщины, однако ни трагедий, порожденных культом, ни застойного распада писатель впрямую нам не показывает.
Знакомя нас с жизнью некоего министерства («Шура и Просвирняк»), Рощин лишь мельком заглядывает на верхние этажи, да и видит их не изнутри, а извне, глазами «нижних» сотрудников, случайно и ненадолго, по технической надобности оказавшихся в кабинете министра или замминистра. Все страсти разыгрываются в министерской конторе связи, а в результате борений, интриг и конфликтов кто-то вынужден уйти из этой конторы в другую, кто-то, напротив, получает повышение в должности. Всего и делов-то. Рощин вдумчиво, объективно, без резко выраженного отношения пишет людей, взаимоотношения их, а этот мир, мир мелких городских служащих, вообще «нижний этаж» города, он, похоже, знает досконально. И из этого досконального знания — знания всепроникающего — возникает некий психологический, нравственный, социальный микромир, который есть отражение и выражение иного, скрытого от постороннего взгляда мира «верхних этажей», а также мира, гудящего за пределами министерства. А как может быть иначе? Ведь законы и нормы жизни — одни. И когда ничего не понимающий в деле, но умеющий понравиться начальству и не брезгующий доносом Просвирняк занимает крошечный начальственный кабинетик, восходит на первую ступень власти, когда первоклассная телефонистка Шура вынуждена покинуть контору из-за того, что не поладила с улыбчивым и в общем-то покладистым бездельником Просвирняком, сказала ему все, что о нем думает, — когда происходит все это, вы и думаете о том, что контора связи на то и контора связи, чтобы быть связанной с миром и зависеть от него. Вы думаете о том, что маленький бюрократ Просвирняк есть, в сущности, повторение бюрократа повыше, и уровень компетентности, и способы удержаться на поверхности у них схожие. И что ж удивляться, что мы дошли до того, до чего дошли, если до сих пор тысячи и тысячи просвирняков корпят за своими большими и маленькими столами, намертво в них вцепившись, а люди, подобные Шуре, не имеют возможности работать так, как умеют и могут.
«Роковая ошибка» — семейная история, мелодрама даже, если хотите. Чем дальше, тем с большим состраданием погружаетесь вы в жизнеописание совсем молодых девочек и не очень уже молодых баб, которые ведь, в сущности, и милы, и добры, и достойны простого женского счастья, но только тычутся по жизни вслепую, ибо сбиты в ней критерии добра и зла, нравственности и безнравственности. Слишком многие и родились, и выросли, и даже до седых волос дожили, так и не ощутив, не восприняв этих критериев. Частная семейная история? Как сказать, как посмотреть. Для меня — нет. А писатель, повторяю, ничего не навязывая, как раз и предлагает нам — смотреть, думать... И неизменны его симпатии к таким, как Шура, неприметным, затерявшимся в толпе людям, главное достояние которых — честь и достоинство, сбереженное во всех катаклизмах, суматохах и передрягах. К кому бы ни обращался писатель — к молодой ли женщине Татьяне, которой в какой-то момент, когда муж был в отпуске, очень захотелось побыть «как все», но она превозмогла себя, устояла и теперь горда этим; к старику ли Ефиму, который все пишет и пишет своим детям и внукам, и хорохорится, и не обижается ни на что, а втайне надеется на душевный отклик и сострадание; к знаменитому ли когда-то писателю, а теперь парализованному, униженному болезнью, но сумевшему прожить остаток дней достойно человека, мужчины; к реально ли жившим и ушедшим, погибшим друзьям: Юрию Казакову, Владимиру Высоцкому, — к кому бы ни обращался Михаил Рощин, всем одинаково, сколько есть, сколько в силах, — отдано тепла, доброты и участия.
Книга Михаила Рощина называется «Полоса». Она рассказывает, в сущности, о долгой полосе жизни несломившегося, несдавшегося «шестидесятника». О полосе, когда людям трудно дышалось, и одни ухитрялись находить какие-то суррогаты, заменители воздуха и адаптироваться в такой атмосфере, а другие предпочитали задыхаться, но обходиться без суррогатов.
Когда Рощин выступает перед аудиторией, большой ли, малой, он говорит ровным, тихим голосом, словно бы про себя, для себя. Он и пишет так же — ровно и тихо, так что можно и не услышать — особенно в нынешнем грохоте. Но вы сосредоточьтесь, постарайтесь, услышьте — и, услышав, не пожалеете.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1988. – № 12. – С. 32-33.
Произведения
Критика