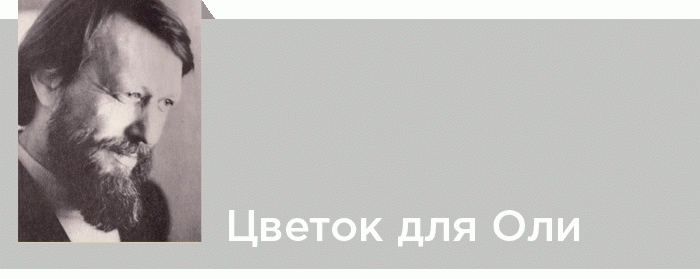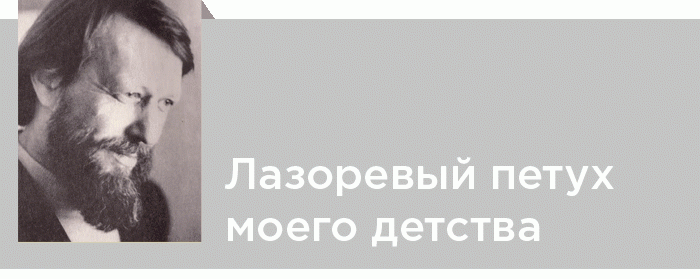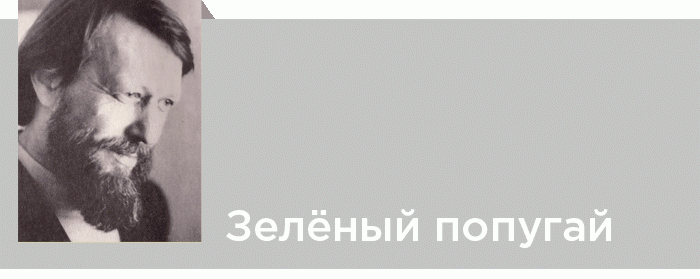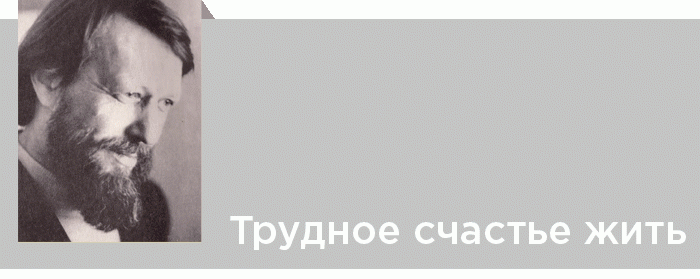Хрустальное яйцо, или О пользе бесполезного
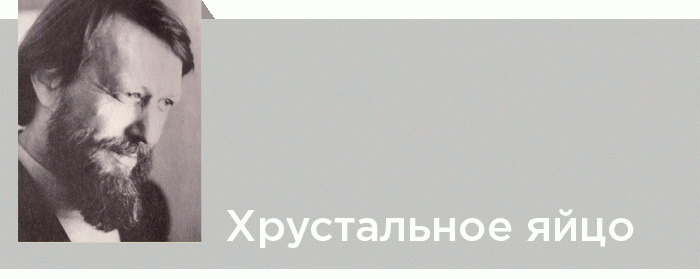
Тамара Хмельницкая
Писательская судьба Радия Погодина неожиданна и парадоксальна. В 1954 году выходит первый его рассказ «Мороз». В 1957 году — первый сборник рассказов «Муравьиное масло». С тех пор за ним прочно утвердилась слава детского писателя. Почти все его книги печатались в издательстве «Детская литература» со специфическим уточнением — «для младшего возраста», «для среднего и старшего школьного возраста» и т. д. В них вместе с автором как бы растут и взрослеют его герои и читатели.
Начиналось все в сборнике «Муравьиное масло» с маленьких веселых эпизодов детской и школьной жизни. В них дети безуспешно пытаются приручить белую крысу, в весенние дни выпускают из клеток чижей, сквозь дырочку в заборе бесплатно подсматривают в кино, дарят на день рождения торт, изрядно помятый и излизанный собакой, дразнят девчонок-одноклассниц, помогают найти воров, угнавших автомобиль. Просто, увлекательно и очень живо, с задорным юмором воссоздана детская жизнь, полная непредвиденных приключений.
Но в последующих книгах и сборниках Р. Погодина — в «Кирпичных островах», «Рассказах о веселых людях и хорошей погоде», повести «Ожидание», «Книжке про Гришку», цикле «Мальчик с гусями», сказке «Где ты, где ты», «Истории в восьми картинах» — «Трень-брень» и многих других все сложнее становится психологический анализ характеров, все шире — охват проблем и переживаний, выходящих далеко за пределы детских увлечений и шалостей, все серьезней проникает Погодин в условия жизни своих героев.
Почти в каждом рассказе — брошенные мужьями одинокие матери, гибнущие от пьянства и потерявшие человеческий облике вдовцы, вернувшийся к нелюбимой жене солдат, тоскующий по немецкой хозяйке, у которой он работал в плену, загадочные тайны рождения младших детей, множество противоречивых, запутанных отношений между детьми и родителями. Все это — недетские, противоречащие месту издания и возрасту читателей темы и вопросы лучших книг Р. Погодина. Не говоря уже о том, что циклы о Сеньке, повесть «Живи, солдат!», ряд вещей, посвященных детям — участникам и жертвам войны, насыщены событиями историческими и наравне с «взрослой» прозой входят в магистральную эпопею нашей эпохи.
Я не собираюсь подробно говорить об этих ставших классическими в детской литературе вещах Р. Погодина. О них много и добротно писали в статьях и предисловиях. А книга Мотяшова радует меткостью и точностью конкретного анализа. Мне хочется найти ту скрытую основу, из которой выросла «взрослая» проза Погодина, по манере как будто и непредвиденная, Но органично связанная со всем его предшествующим творчеством.
Ведь обобщенно, если не затрагивать вопроса о качестве, детская литература — это прежде всего книги, написанные о детях и для детей, проникающие в их уровень понимания жизни, их интересы и вкусы. С этой точки зрения ранние погодинские книги полностью соответствуют представлению о детской литературе. Но этим определением — о детях и для детей — вещи Погодина не исчерпываются. Он пишет как бы из детства как творческого мироощущения. Этим детством восприятия отмечена вся его «взрослая» проза. Когда человек растет, он часто летает во сне. А достигнув зрелости, перестает. Радий же Погодин до седин не расстался с этой способностью летать — пером, воображением, помыслами. Не случайно все почти его герои — юные, зрелые и даже старые — летают, буквально или метафорически. Летает Гришка, постигая красоту и радость родной весенней земли («Книжка про Гришку»), летает в повести «Шаг с крыши» Витька — мальчик с богатой фантазией, переживающий полюбившиеся ему книги как факт собственной биографии. Летает я повести «Мост» Васька Егоров, отпраздновавший на фронте свое восемнадцатилетие прыжком с моста вместе со своим другом Гогой Алексеевым. Бомба, взорвавшая мост, сбрасывает их с высоты. Васька чудом спасен и видит, как Гога, раскинув руки крестом, парит в небе словно бы не вниз, а вверх. Летает смертельно больной Оноре Скворцов, который падает с вышки Исаакиевского собора — не то это самоубийство, не то результат головокружения и слабости. Летает во сне Юна — молодая прекрасная художница, потерявшая руку на войне. Летают герои наивной по тону и глубоко символичной по замыслу сказки «Где ты, где ты?» — жеребенок Миша, мышонок Терентий и маленький мамонт, превратившийся в облачко. Сказка в целом и герои ее подобны цветным мультфильмам, напоминающим «Бемби».
В полетах, в восхождениях на вершину холма или башни открывается любимым героям Погодина манящая и безграничная красота мира. Полеты воображения, удивление и восторженная благодарность жизни для автора органично связаны с детством. Именно детство для него — источник щедрого, неиссякаемого творчества. Мир его прозы — это всегда не просто воспроизведение действительности, но прежде всего творческое ее преображение.
Детство для него — кладезь естественного, органичного созидания в сказках, фантазиях, играх, необычности всего увиденного заново и впервые.
Недаром все почти излюбленные герои Погодина — художники и поэты. Жеребенок Миша пишет стихи. Мир в его красочных сочетаниях открывает мышонок Терентий, становящийся художником. Исступленно и одержимо рисует красных лошадей пионер Сережка («Красные лошади»).
Путь к искусству, нелегкий и неспешный, предстоит Ваське Егорову, герою повести «Боль». До войны, когда Васька был еще подростком, сосед по квартире Афанасий Никанорович, отставной кочегар дальнего плавания и маляр-живописец, делает его своим подручным, примером и советами приобщает к делу. После войны Васька сначала расписывает для рынка ковры с изображением трех богатырей, но в эту халтуру вкладывает вдохновение и душу. Постепенно он овладевает настоящим искусством.
Знаменательно, что Афанасий Никанорович — человек уже немолодой, старше своей подруги жизни на целых двадцать лет — озорник и проказник; наивными, подчас грубоватыми шалостями наполняет он свою повседневную жизнь. То приклеит резиновым клеем галоши своей Анастасии Ивановны к коврику, то подговорит мальчишек и учеников обливать прохожих из аптечных сосок, то нарисует черта с горящими глазами — пугать свою суеверную спутницу, и радуется этим проделкам, как ребенок. Детское желание сделать повседневность веселой, непредвиденной и забавной сочетается у Афанасия Никаноровича с горячей, искренней тягой к настоящему искусству и красоте. Цвет и форму чувствует он глубоко и ярко. Чудак-живописец в первые же дни воины пошел на фронт и погиб. А Васька в своих трудных и вдохновенных поисках живописного совершенства продолжает мысленно советоваться с убитым старшим другом, слышит его живой голос, грунтует холст и смешивает краски так, как подсказывал ему мастер.
Для героев военной прозы Погодина неиссякаемы два источника жизненного опыта — война и искусство, открывшиеся им с детства.
Но война оставляет в жизни человека трагический след. Она все дробит, раскалывает, уничтожает. В послевоенные годы контуженный Васька часто чувствует себя разъятым, разорванным на части. Разрушениям войны противостоит искусство, оно собирает в единую суть всю жизнь. Не брать, а давать — главное счастье бытия.
Эту симфоническую, объединяющую роль искусства Погодин видит не только в общем воспроизведении творческих взлетов и замыслов, но и в органичном слиянии всех реальных восприятий внешнего мира — зрением, слухом, обонянием. У каждого цвета свой звук, вкус, запах. Синкретизм ощущений окружающего нас мира передан предельно конкретно: «Васька слышит голос каждого цвета, особенно синего, звук прозрачный», «Васька слышит запах всякого цвета — особенно неба, мятный запах».
А в «Книжке про Гришку» «голова у него закружилась от плотного певучего аромата, который в Гришкином воображении окрасился в нежно-сиреневый». В сказке «Сальто-мортале с шахматной доской» «инструменты сверкали на солнце красной и желтой медью, от этого музыка цирка казалась разноцветной». В этой же сказке реклама мармелада: «фио-колер не прилипает к зубам... дает цветные сны».
Восприятие мира через искусство и особенно через детство и во «взрослой», поздней прозе Погодина создает особый, необычный в русской литературе принцип повествования. Я назвала бы его ассоциативной прозой. У Погодина повествование строится не по принципу хронологической и логической последовательности событий, а по принципу их ассоциативной связи. Герой мысленно возвращается к уже пережитому. Настоящее, прошлое и предчувствие будущего произвольно смешаны, чередуются непредвиденно и внезапно. Мы видим главного героя романа «Я догоню вас на небесах» сначала в военных эпизодах и уже вскоре — на подступах к Берлину, потом в блокаде, потом снова на войне, потом снова в петле блокады, когда он, изнемогающий от дистрофии, жадно вдыхает запах льняного масла и ест кашу из дуранды — «ничего вкуснее в жизни не ел». А спасла его глотком этой каши Наталья, которую он встретил на разбомбленном железнодорожном пути с двумя маленькими дочками-близнецами, и с ними, рискуя жизнью, на краденой лодке приплыл а Ленинград. Запах льняного семени ассоциируется с воскрешением памяти в детстве и жизни с бабушкой, вырастившей его, о ликбезе и бытовых подробностях конца 20-х годов, когда старая женщина овладела грамотой вместе со своим пятилетним внуком, о единственной серебряной ложке, отданной в торгсин, об овсяном киселе с льняным маслом, который постоянно ела бабушка.
В простейшие, скромные события его детства красноречиво включены приметы эпохи.
Внутренний мир героя углублен и расширен не просто происходящим в окружающей его жизни, а сложным слиянием сознания и подсознания. Не только повседневная реальность, но воспоминания, сны, бреды, галлюцинации входят в повествование и даны с такой чувственной, осязаемой подлинностью, что они не менее достоверны, чем обыденная жизнь. Уже в повести «Шаг с крыши» прочитанные книги становятся фактом личной биографии: упавший с крыши Витька лежит в больнице с сотрясением мозга. В его помутившемся сознании реализуются древние мифы, любимые мальчишками приключения из «Трех мушкетеров» и сцены из жизни Чапаева, причем в каждом эпизоде образы мифической Анук, девушки Аннеты из эпохи героев Дюма и спутницы Чапаева Нюшки — как бы воплощают школьную одноклассницу Анну Секретареву, которой Витька, сам того не подозревая, увлечен. Человеку судьбой дана одна жизнь, но сотни книг, прочитанных им, предоставляют возможность пережить множество жизней, оставаясь собой.
Война унесла и веселого учителя Васьки маляра-живописца Афанасия Никаноровича, и старшего брата Колю — героя романа «Я догоню вас на небесах», бывшего для автора образцом совершенного человека. Но мысленно погодинские персонажи продолжают общаться с мертвыми как с живыми, прислушиваться к их советам, следовать их примеру. В воображаемом мире памяти и мечты они существуют наравне с повседневной действительностью, подчас начисто подменяя ее.
В повести «Дверь» главный герой ее Петров, человек сугубо мирной жизни, не участвующий в войне, не взятый в армию из-за неполноценного зрения, во снах разделяет военную судьбу своих сверстников, видит себя в сражениях, переживает недоступное ему как реально существующее: «воевал я, тысячу раз ходил в атаку. Во сне. Наяву. Был ранен. Был в плену. Бежал. Был убитым. Был героем. Солдат я. Солдат!» Этот крик во сне из глубины души — истина, завладевшая сознанием и подсознанием. Граница между реальной повседневностью и внутренним самоощущением, в которое ворвалась эпоха, разрушена, уничтожена. Внутренний мир шире, просторней, насыщеннее повседневных событий. В этом новизна и убедительность творческой манеры Погодина.
Иногда это придает его повествованию несколько призрачную условность: происходит ли рассказанное в действительности или в галлюцинациях, воспоминаниях и мечтах?
Когда в конце повести «Дверь» Петров приходит в себя после сложной операции, остается смутное ощущение — то ли это возвращение к жизни, то ли предсмертные видения. Петров ведет монотонную, размеренную жизнь, покорно выполняет все бытовые предписания практичной, деловой, властной жены, но втайне ждет какой-то чудесной неизвестности. И дверь в этот загадочный мир ему открывает кочегар с лицом старшины из его повторяющихся военных снов. Он знакомит его с Зинаидой — прекрасной женщиной со сложной, парадоксальной судьбой, которая то неожиданно входит в жизнь Петрова, то так же таинственно из нее выпадает.
Ведь несмотря на стихийную эмоциональность своего лирического стиля с повторяющимися, как в стихах, музыкальными лейтмотивами, Погодин очень точно и метко осознает принципы своей писательской манеры. В роман 1990 года «Я догоню вас на небесах» он вносит полемику о своем образно-ассоциативном восприятии мира в самую ткань повествования. В этот спор с критиками и читателями о художественном методе изложения событий, о способах изображения войны и блокады он вовлекает прежде всего писателя Пе, в парадоксально-иронической манере как бы защищающего автора и шефствующего над ним, и по контрасту — студентку Марию — прямолинейную, элементарную, требующую односторонней и определенной оценки происходящего. В диалоге с писателем Пе Погодин говорит о своей «апелляции к подсознанию», о «принципах подтекстных взаимодействий», о «зигзагах памяти», соединяющих разрозненные картины прожитого.
Внезапные ассоциации проступают не только в последовательности теснящихся в памяти событий, но даже в попутных сравнениях. Вскользь рассказывается о том, как в ожидании поезда в первые дни войны шестнадцатилетний парнишка чуть не утонул в лесном озере, «зеленом и прозрачном, как леденец». Сравнение дано как бы от лица этого парнишки, для которого леденец еще существует как детская радость. Эти сложные, образно-ассоциативные ходы чужды читателю, требующему беспрекословной и беспощадной реакции автора на «ужасы войны». Такой оппоненткой автора становится в романе студентка Мария, придирчиво допрашивающая писателя Пе: «Почему Вы не описываете грязь войны?». Марии творчество писателя Пе кажется «излишне элегантным, изысканным, эстетским, комильфо». На это писатель Пе, в сущности, литературный двойник и псевдоним самого Погодина, несколько раз возражает, что не хочет идти проторенными путями, что батальными сценами, описаниями атак и сражений и без него полна наша военная проза.
На самом деле у Погодина более чем достаточно страшных и жестоких сцен тяжелых боев, мучительных ранений, частых смертей.
Вспомним хотя бы эпизод из повести «Живи, солдат!», когда командир, чтобы вовремя оттолкнуть от фронта шестнадцатилетнего героя, посылает его в палату тяжелораненых и приводит к бойцу, у которого собрана вся кожа с лица, оно сочится кровью и гноем, а искалеченный человек смотрит на необстрелянного подростка воспаленными глазами и как бы молча приказывает ему: «живи, солдат!». Но рядом с этими прямыми, в лоб, изображениями ужасов войны — эпизоды, в которых трагедия совмещена с комизмом, непереносимая боль — с гротеском, грубость — с неясностью и трогательным чувством. Так преломлена любовь солдата Паши Сливухи к молоденькой немочке Ульхен. Рядом — скверный анекдот и чистейшая влюбленность. Ульхен, ни слова не знающей по-русски, какой-то циник написал нецензурными трехэтажными выражениями послание к Паше Сливухе. Ничего не подозревающая Ульхен появляется в части с криком «я Пашина девка!», а искренне любящий ее Паша старается оградить ее от позорных речей и, якобы не замечая грязи, бессознательно ею произнесенной, отвечает ей словами нежными, ласковыми, уменьшительными. Эпизод этот углублен трагической кончиной Паши: не в бою, а на марше он раздавлен машиной.
Погодин сознательно уделяет особое внимание описаниям трагических жертв не в сражениях, а по оплошности, по невниманию, увеличенными смертоносными условиями войны. Она несет гибель ее участникам не только в боях, но и во всей своей разрушительной атмосфере.
О праве на необычный ракурс войны говорит вся полемика Погодина со студенткой Марией. Писатель, не жалея уничтожающих красок, пародирует томную строку Вертинского «Ваши пальцы пахнут ладаном», обращая ее к ограниченной, прозаической Марии: «Ваши пальцы, пахнущие луком». Он яростно отстаивает право писателя на личной понимание событий, свой взгляд на явления общие, исторически пережитые и неоднократно в литературе отраженные.
Скажем, индивидуальный взгляд на блокаду особенно подчеркнут в его автобиографическом романе «Я догоню вас на небесах». Опять Погодин отрекается от общей эпопеи блокады, хотя в его романе мы найдем и голод, и холод, и сожженную в. печурках мебель, и трупы на улицах. Но помимо этого, тоже детально разработанного фона, он вовлекает в повествование особые случаи. Герой входит в квартиру к соседу, пожилому парикмахеру Яну Карловичу, коллекционирующему аквариумы с золотыми рыбками, и видит, что среди копоти его запущенной комнаты все заледенело, вокруг — грязь и мрак, стены аквариумов сияют какими-то заколдованными ледяными гранями, рыбки вросли в лед, хозяин же комнаты застыл на своем кресле, вконец замороженный...
«Сколько сюжетов неожиданных и невообразимых можно отыскать в блокаде, если рассматривать ее все же как жизнь, а не только как массовый героизм, и не как явления тривиальных ужасов, пугающих воображение», — пишет Погодин в этом романе, насыщенном теоретическими рассуждениями об искусстве.
Ужасов, пугающих воображение, в своей военной и блокадной прозе писатель не чурается, но благодаря органичной приверженности к многомерному миру он по контрасту всегда находит просветляющий выход. В одном немногочисленных полемических обращений к Марии писатель Пе говорит: «А все-таки, студентка милая Мария, я Вам рекомендую раскапывать дерьмо не для того, чтобы найти дерьмо, но для того, чтобы отыскать хоть что-нибудь святое». И на всем протяжении своего романа, как и всего предшествующего творчества, Погодин в самых черных, в самых сгущенно-беспросветных обстоятельствах это святое в душах людей отыскивает и без назидательных слов вселяет в читателей надежду, любовь к человеку.
Так, в романе «Я догоню вас на небесах» центральным, сквозным, символическим образом становится хрустальное яйцо, которое герой в разгар блокады дарит двум шестилетним близняшкам в день их рождения. Он долго обдумывает подарок, медленно копит на него свой блокадный хлеб. Казалось бы, во время свирепого голода лучший подарок, особенно детям — что-то съедобное, сладкое. Но герой начисто отвергает такой выбор. Ему хочется обрадовать девочек чем-то необычным, волшебным, вселяющим надежду на счастье, приобщающим к красоте. Рынок в блокаду превратился в комиссионный магазин, в котором отощавшие, изможденные интеллигенты-дистрофики в чаянии хлеба выменивают прекрасные картины, изысканный фарфор, дорогие меха. Наконец, какая-то мудрая старуха предлагает герою нечто абсолютно бесполезное, не применимое в быту — хрустальное яйцо, играющее всеми гранями; он видит в нем талисман счастья, залог чуда и радостно дарит девочкам.
Подарок принят с восторгом и благодарностью. Праздничный вечер прекрасен. Героя осеняет счастливая мысль — отодвинуть буфет, отделяющий комнату Натальи от комнаты ее уехавшей тетки: а вдруг хозяйственная и дальновидная женщина что-то сохранила? Поиски еды превосходят все ожидания. Полки буфета набиты крупами, консервами и даже вином. На долгое время угроза голода уже не нависнет над этой семьей. Герой с Натальей пьют вино, она дарит ему свою близость. Но на этом благостном хэппиэнде роман не кончается.
Наутро герой уходит, решая никогда больше сюда не возвращаться. Его смущает подозрение: а вдруг Наталья подумает (если же не она, так сам поймает себя на мысли), что приходит он не к ней и не к девочкам, а «к буфету». И сдерживает чистое и бескорыстное желание увидеться со ставшими ему близкими людьми, избегает их; только в минуту почти неминуемой для него гибели Наталья сама его находит и спасает, достав ему эвакуационное удостоверение. На этом связь их обрывается, о дальнейшей их судьбе как будто ни слова. И только в конце романа к уже постаревшему писателю приходит молодая девушка, тоже Наталья, похожая на ту, которую он знал в юности, и протягивает ему хрустальное яйцо со словами: «Бабушка говорит, что вам оно сейчас нужнее».
Символ бескорыстной красоты и источника высокого воображения — завершает этот глубокий роман. «Я» героя сливается с автобиографическим «я» автора. Хрустальное яйцо — концентрированный образ. Сквозь его сверкающие грани Погодин видит жизнь и преломляет ее ярко, неожиданно и вдохновенно. Это — тот таинственный и прекрасный мир детства, из которого может прорасти чудо жизни.
В одной из статей о Погодине писатель Е. Кутузов очень точно сказал: «Он не фантаст, он фантазер».
В обогащении питерской психологической прозы Погодин не одинок. И Александр Житинский, и Нина Катерли, и Валерий Попов каждый по-своему прокладывает в ней обещающие пути. Все они ищут выхода из одномерного, прямолинейного и традиционного отражения нашей противоречивой и неналаженной жизни. Все они избегают непререкаемых и однозначных приговоров.
Погодин в каждой своей вещи независимо от жанра борется за то, чтобы не дать теме и материалу поглотить объемность и насыщенность жизни в ее целом, чтобы ни война, ни блокада, ни острополитическая современность не скрыли и не обеднили многомерности заново творимого бытия, разнообразия и богатства сложных переплетающихся мотивов нашего внутреннего мира.
Л-ра: Нева. – 1992. – № 5. – С. 336-342.
Произведения
Критика