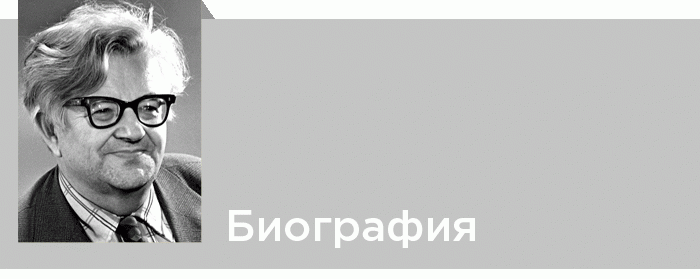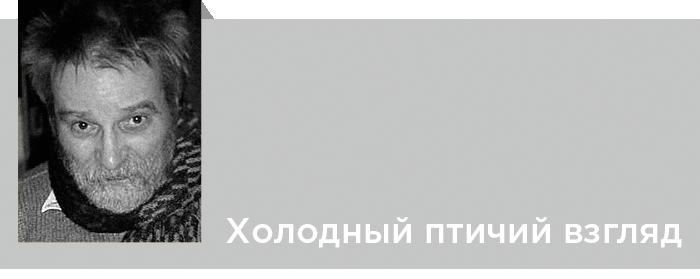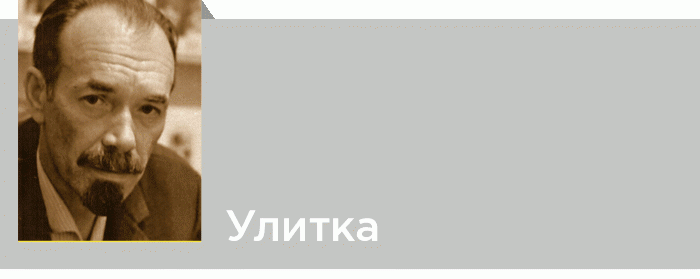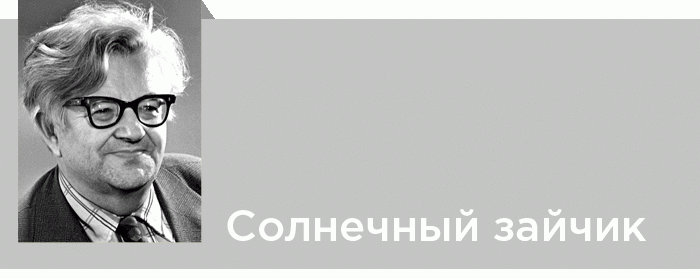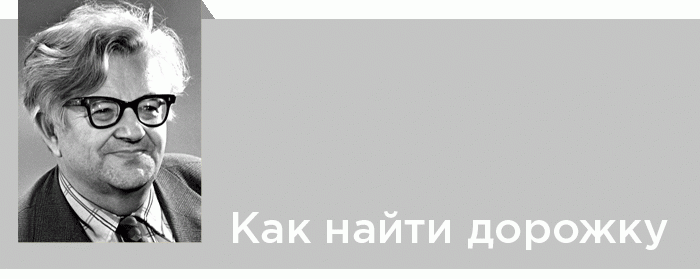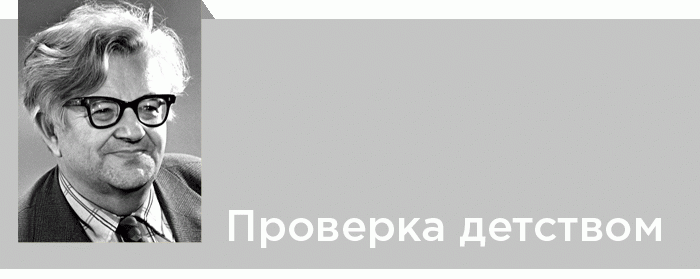«Его найдёт далёкий мой потомок...»

Б. Сарнов
Говорили об оригиналах, чудаках — о людях, поведение которых не укладывается в рамки обычного. Вспоминали всякие неожиданные выходки, разные экстравагантные поступки. И среди прочих была рассказана такая история.
Рассказчик был тогда молод и, как водится, влюблен. Он был старшим лейтенантом, служил где-то далеко от Москвы, а возлюбленная его училась в московском вузе. Они переписывались. И вот однажды он написал ей, что ему очень хотелось бы иметь ее фотографию. Она ответила, что хорошего снимка у нее нет, но в самое ближайшее время она специально сфотографируется и, как только фото будет готово, сразу вышлет. И вот наконец почта принесла долгожданный конверт. Каково же было его изумление, когда оказалось, что это была фотография совсем другой девушки. Очень хорошенькой, но совершенно ему незнакомой.
Девушка так объяснила свой странный поступок. Она сфотографировалась и совсем было уже собралась послать фото, но в последний момент глянула на свое изображение — и оно ужасно ей не понравилось. Ей не понравилась не фотография, а она сама. Собственное лицо вдруг показалось ей ужасно заурядным, даже неказистым. И тогда она выпросила фотографию у подруги, которая считалась самой красивой девушкой на их курсе. И вместо своей фотографии отправила жениху фото общепризнанной красавицы.
Несмотря на достоверность этого простого объяснения, жених так и не смог отделаться от ощущения, что с ним сыграли какую-то странную шутку. То ли он решил, что любимая не принимает его всерьез и даже издевается над ним, то ли подумал, что она, как говорится, с приветом. Как бы то ни было, пути их разошлись, и анекдотическая история сыграла тут, видимо, не последнюю роль.
Нельзя сказать, чтобы поступок этот так-таки уж потряс слушателей своей необычностью. Однако все согласились, что девица и в самом деле отколола номер. Что ни говори, а в жизни такое случается не часто.
То ли дело в поэзии... Тут такое случается буквально на каждом шагу.
Сплошь и рядом поэт запечатывает в конверт (виноват, в очередной лирический сборник) и отправляет читателю, выражаясь фигурально, чужое фото, взятое им на подержание у какого-нибудь общепризнанного красавца (или красавицы). И никому это не кажется чем-то экстравагантным, выходящим из ряда. Напротив, считается, что это в порядке вещей. Одно дело сам поэт, так сказать, автор, и совсем другое — его лирический герой. Поэт может, скажем, щеголять в самой что ни на есть прозаической дубленке и разъезжать в такси или даже собственных «Жигулях», в то время как его лирический герой неустанно шагает по планете, обутый в разбитые кирзовые сапоги и одетый в походную солдатскую шинель. При этом, конечно, совершенно не обязательно, чтобы поэт подсовывал читателю именно чужое «фото». «Фотография» может быть и своя собственная, но какая-нибудь давняя, относящаяся к тем далеким временам, когда поэт и в самом деле носил кирзовые сапоги и ходил пешком, а не разъезжал в автомобиле.
Справедливости ради следует отметить, что далеко не всегда поэты поступают таким образом, руководствуясь какими-либо дурными побуждениями, скажем тщеславием или корыстью. Очень часто ими движут как раз побуждения самые благородные. Скажем, скромность. А кто, собственно, я такой, рассуждает поэт, чтобы заинтересовать читателя своей персоной? Не лучше ли будет, если я расскажу о ком-нибудь более достойном? Или, в крайнем случае, рассказывая о себе, выберу из того, что было со мною в жизни, самое существенное, так сказать, общественно значимое?
Я прошу извинить меня за это затянувшееся вступление. Оно понадобилось для того, чтобы сразу объявить, что главное и, на мой взгляд, весьма существенное достоинство стихов Валентина Берестова состоит в том, что его лирический герой — это он сам, и никто другой. Понравится ли он вам «лица необщим выраженьем» или же, напротив, лицо его покажется заурядным — это уж дело другое. Но он предстанет перед вами в своих стихах собственной персоной. Таким, каков он есть на самом деле. Он не только не делает попытки подменить автопортрет изображением какого-то другого, более импозантного субъекта, но даже не пытается охорашиваться перед объектом, в чем уж как будто и вовсе нет никакого криминала.
Казалось бы, это ведь так естественно: далеко не каждый факт, далеко не каждое обстоятельство, далеко не каждую подробность своей жизни считать заслуживающей письменного (тем более печатного) сообщения. А уж тем более сообщения в стихах. Валентина Берестова, если судить по его стихам, сомнения такого рода не посещают. Он исходит из: того, что поводом для стихотворного сообщения может оказаться все что угодно. Любой пустяк. Ну, скажем, вот хоть такое воспоминание:
Баночка с водою. Лист бумажный.
Оживляю краску кистью влажной.
И на лист ложится полоса,
Отделив от моря небеса.
Корабли дымят. Стреляют танки.
Все мутней, мутней водица в банке.
Не могу припомнить я, когда
Выплеснул ту воду навсегда.
Кто из нас не окунал в детстве кисточку в такую же вот баночку с водой. У кого не было этих дешевых детских акварельных красок. И точно так же возникали на шероховатом бумажном листе море, и дымящие корабли (этакими серыми водянистыми кольцами завивался, кудрявился этот дым), и стреляющие танки (огненные сполохи выстрелов изображались красной краской или оранжевой). Вспомнилось... Но мало ли что может вспомниться. Если каждое мимолетное воспоминание тащить в стихи...
Точность, достоверность, узнаваемость — всего этого еще недостаточно, чтобы стихи стали поэзией. Поэзией эти несколько строк делает живая искра лирического волнения, уколовшая сердце пусть не острой, приглушенной, но подлинной болью:
Не могу припомнить я, когда Выплеснул ту воду навсегда.
Берестова нимало не смущает не только кажущаяся незначительность события или факта, ставшего поводом для стихотворения. Также мало смущает его и та, мягко говоря, скромная, боковая роль, которая в описываемом событии принадлежит ему лично:
Кто помнит о Костике, Нашем двоюродном брате,
О брате-солдате, О нашей давнишней утрате.
Окончил он школу И сразу погиб на войне,
Тебе он припомнился. Мне он приснился во сне.
И что-то важнее. Чем просто печаль и родство.
Связало всех нас, Кто еще не забыл про него.
Роль автора тут более чем скромна. Он всего-навсего вспомнил брата, погибшего на войне (да и брат-то даже не родной, а двоюродный). Собственно говоря, на самом деле роль его была еще скромнее, еще пассивнее: он даже не то чтобы вспомнил Костика, тот сам ни с того ни с сего вдруг взял да и приснился ему во сне.
И тем не менее не Костик, а именно он, автор, как и подобает лирическому поэту, — подлинный герой стихотворения. Потому что сюжетом стихотворения, основным предметом художественного изображения тут стала не трагическая судьба мальчика, со школьной скамьи ушедшего на войну и не вернувшегося оттуда, а именно причастность автора этой судьбе, его память о ней. Стихотворение вобрало в себя то лирическое волнение, которое пробудила в душе автора эта причастность. И вот оказалось, что мы с вами, читатель, уже тоже как-то причастны этой судьбе, тоже испытываем что-то такое, что в конечном счете важнее, «чем просто печаль и родство», тоже оказались связанными с теми, кто не забыл этого неведомого нам Костика.
Пожалуй, еще характернее в этом смысле стихи из цикла «Калужские строфы». По внешним приметам это что-то вроде путеводителя по Калуге. Автор — сам, кстати сказать, коренной калужанин — водит нас от одной городской достопримечательности к другой. И вот наконец главная, самая большая достопримечательность:
Здесь Циолковский жил. Землею этой Засыпан он.
Восходит лунный диск, И на него космической ракетой
Пророчески нацелен обелиск...
Он был великим. Он был гениальным.
Он путь открыл в те, звездные край...
Училась у него в епархиальном Учительница школьная моя.
Здесь тот же странный оптический эффект, что и в стихотворении про фотографию из старого семейного альбома. Казалось бы, сомнений нет: сюжет, основной предмет лирического изображения — Циолковский, его гений, его научный подвиг, его мировоззрение (связь с «Философией дела» Н. Федорова), его величие, его судьба. Лишь в самом конце стихотворения вскользь, без какого бы то ни было серьезного умысла, вроде бы даже и совершенно ни к селу ни к городу (просто не смог удержаться) автор сообщает нам о своей личной причастности к этому монументальному сюжету. Но причастность-то эта самая что ни на есть минимальная. Отчасти даже комическая. Подумаешь! Мало ли чья школьная учительница (или, положим, тетушка, бабушка, соседка) могла учиться в епархиальном училище, где преподавал математику Константин Эдуардович Циолковский. Однако автору эта крошечная причастность вовсе не представляется комической. И что ни говори, но именно она, эта вот самая причастность, и составляет душу стихотворения, саму его лирическую суть. Без этих двух последних строк стихотворение просто-напросто рухнуло бы.
Собственно, это обостренное, повышенное чувство своей причастности к какому-то событию или жизненному факту составляет душу всего поэтического сборника. И особенно характерно тут, что автору вовсе не обязательно ощущать свою причастность к чему-то важному и значительному: скажем, к подвигу солдата, павшего на войне, или судьбе гениального самородка, пророка новой, космической эры. Это может быть и просто чувство собственной причастности к истории, обостренное ощущение своей связи с прошлым, даже если связь эта неимоверно тонка, почти иллюзорна:
Мальчонку-октябренка, Учительского сына,
Старушка обучает Игре на пианино.
А кто она? Дворянка? Купеческая дочка?
Ветшает кружевная На платье оторочка.
И, вслушиваясь в гаммы, Глядят из рам старинных
Девицы в пелеринах И дамы в кринолинах...
Прошедшее погасло. Лишь музыка этюда
По проводам-линейкам Еще течет оттуда.
Этот слабый ток прошлого аккумулировала душа мальчишки-октябренка, донесла до нас, и вот мы тоже отзываемся на эти слабые электрические разряды, почувствовав на миг, что какая-то тонкая ниточка и нас тоже связала со старинными портретами, глядящими из потемневших бронзовых рам. И возникает уверенность, что прошедшее погасло не совсем, что не только музыка, бегущая по проводам нотных линеек, но и еще что-то бесконечно важное, «важнее, чем просто печаль и родство», течет к нам оттуда, что-то такое, без чего мы не были б собою.
Читая книгу лирических стихов Валентина Берестова, мы словно бы листаем старый семейный альбом, главная прелесть которого состоит в том, что он заполнен не тщательно отретушированными изделиями фотографов-профессионалов, а так называемыми любительскими снимками.
Если вы никогда не были, положим, в Ленинграде и не видали в натуре знаменитого фальконетовского Петра, открытка, изображающая этот памятник, даст вам, пожалуй, более верное представление о нем, нежели любительский снимок. Но любительский снимок помимо многих других имеет, по крайней мере, одно неоспоримое преимущество перед самой великолепной открыткой. Да, памятник на нем немного смазан, изображение расплылось, а голова Петра, к несчастью, и вовсе не попала в кадр. Но зато — смотрите! — это ведь я, я сам сфотографирован на фоне монумента! Да, я был там! Сам лично стоял на той самой «потрясенной мостовой», по которой раздавалось тяжело-звонкое скаканье Медного всадника!
Отличие любительского снимка от профессионального как раз вот в этом и состоит: фотограф-любитель стремится запечатлеть не столько предмет, сколько себя на фоне предмета.
Поэт не смеет уподобиться такому фотографу-любителю. Он не может позволить себе эту бессмысленную роскошь запечатлевать что ни попадя — «без замысла, почти впустую». Его попытки «остановить мгновенье» должны быть продиктованы какими-то более высокими побуждениями, они должны иметь не только сугубо личный, но и некий общественный смысл.
Но должен ли поэт сознательно ставить перед собой такую цель? Или у настоящего художника это получается само собой, независимо от его устремлений? Наиболее убедительный и, пожалуй, исчерпывающий ответ на этот вопрос дал Баратынский в стихотворении, написанном полтораста лет назад:
Мой дар убог, и голос мой не громок.
Но я живу, и на земле мое Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколенье.
Читателя найду в потомстве я.
Валентин Берестов, судя по всему, тоже не сомневается, что найдет своего читателя (не в поколении, так в потомстве), что повседневное, лишенное громких подвигов и высоких свершений бытие его лирического героя кому-нибудь да окажется любезно.
Вероятно, сторонники иной эстетики, иных художественных принципов стали бы упрекать Берестова в чрезмерном интересе к частностям, к подробностям жизни, не несущим в себе большого общественного содержания. Я бы скорее упрекнул его в другом.
Анна Андреевна Ахматова однажды сказала, отвечая на вопрос, как она относится к стихам одной поэтессы: «Длинно пишет. Все пишут длинно. А момент лирического волнения краток». Реплика эта весьма многозначительна. Она означает, что поэзия — скоропись духа, что лирические стихи не воспоминание о пережитом (которое можно растянуть как угодно), а непосредственная фиксация вот этого самого лирического волнения.
Берестов длинно не пишет. Напротив, краткость — едва ли не самая характерная примета его поэтического почерка. Но иногда стихотворение у него представляет собой как бы бледный оттиск воспоминания о лирическом волнении, пережитом когда-то, а не живой сгусток такого волнения, непосредственно запечатлевшийся в интонации, в самом дыхании стиха:
Помнишь звуки немого кино?
Аппарат так уютно стрекочет.
Зритель ахает. Зритель хохочет.
Зритель, титры читая, бормочет.
Он с актером сейчас заодно...—
и т. д. Тут, вероятно, им движет сознание, что повседневность, которая была нашим бытом, которую мы не замечали, до такой степени была она для нас обыденной и привычной, — что эта самая повседневность вот сейчас, на наших глазах уже стала историей. И мы, в сущности еще не такие уж старые люди, сами не заметив, как это произошло, превратились в случайно уцелевших выходцев из иного мира, выброшенных волною времени на новый исторический материк, — в этаких мастодонтов, каждое свидетельство которых может (чем черт не шутит!) оказаться драгоценным для историков.
Но вот тут-то как раз и проходит грань между фотографом-любителем и поэтом. «Послушайте! — останавливает поэт спешащих мимо граждан. — Дайте я поделюсь с вами своими воспоминаниями! Ведь я отлично помню то время, когда кинематограф ещё был великим немым, а о телевизорах так и вовсе не было ни слуху ни духу!» Но граждане спешат мимо, не оглядываются. И, по совести говоря, тут как раз их можно понять...
Но о поэте надо судить по его удачам. Знаменитые слова Маяковского о том, что поэзия — та же добыча радия («...в грамм добыча, в год труды») — это ведь, в сущности, почти даже не метафора. С настоящими поэтами только так и бывает. И «тысячи тонн словесной руды» — это, к сожалению, не только черновики и варианты, которые до читателя не дойдут. В опубликованном и даже увенчанном лаврами тоже немало остается этой самой словесной руды. Но даже крупица истинной поэзии — драгоценна.
Л-ра: Новый мир. – 1981. – № 9. – С. 251-254.
Произведения
Критика