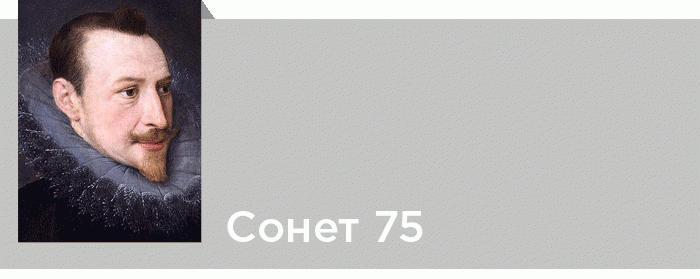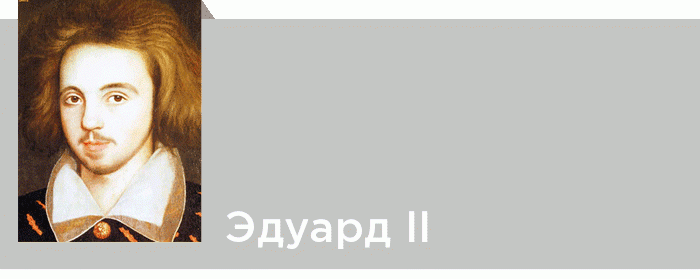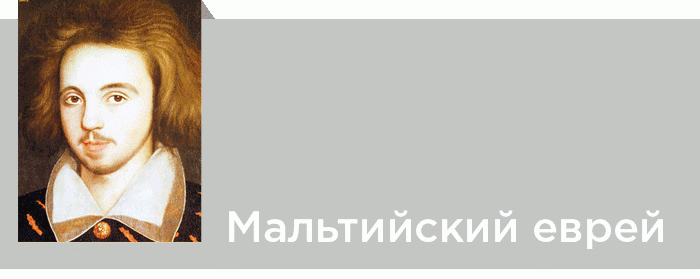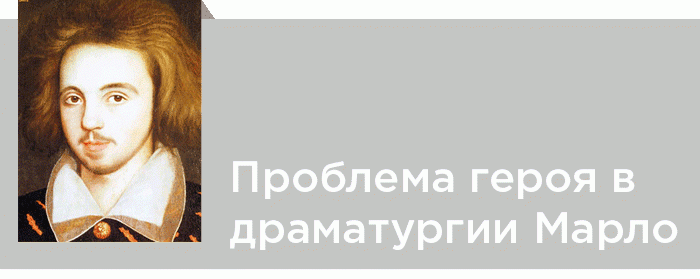Кристофер Марло и некоторые философские доктрины его времени

Е.Р. Баканова
Творчество Кристофера Марло как явление литературно-историческое не может быть понято вне контекста культуры Возрождения и прежде всего вне контекста философии Возрождения.
XVI век богат разнообразными, нередко взаимоисключающими, философскими, политическими, религиозно-этическими теориями. В данном случае уже нельзя удовлетвориться точкой зрения Я. Буркхардта, давшего упрощенную трактовку культуры Возрождения как культуры замкнутой, целостной, лишенной внутренних противоречий. В общественном сознании эпохи парадоксальным, на первый взгляд, образом уживаются новейшие географические и научные открытия и устоявшиеся аристотелевско-птолемеевские представления, провиденциальная концепция истории и политическая доктрина Макиавелли, идеализм и стихийный материализм Бэкона, ортодоксальная религиозность и идеи богоборчества, мистика и рационализм, догматическое учение об абсолютной истине и скептицизм Монтеня, конформизм и социально-политическое бунтарство.
Тем не менее было и нечто общее, объединявшее все эти разнородные, несходные между собой теории и представления. Это общее — пафос познания, интерес к человеку, его месту в мире. Радикальные изменения, происшедшие в социально-политической, экономической и культурной жизни, сказались и на изменении роли философии, переставшей быть лишь уделом теологов и «служанкой богословия» и обратившейся к объяснению явлений и фактов реальной жизни. Стремление к познанию мира и человека в эту эпоху становится всеобщим. «Может показаться малоубедительным, — пишет М.А. Барг, — будто для того, чтобы человек XVI века был способен сколько-нибудь уверенно действовать, отдаваться повседневным занятиям, стойко переносить удары судьбы и т. п., ему требовалось знать, как устроена Вселенная, какое положение человек занимает среди божьих творений, каким образом он связан с планетами и звездами, как устроено общество и какое место определено ему в этой системе...». Обращаясь к литературе этого времени, исследователи неоднократно отмечали характерный для эпохи универсализм мировосприятия. Проблема эта затрагивалась, например, в работах А.А. Аникста, Л.Е. Пинского, А.Ф. Лосева.
Воспринимая мир в нерасчлененном единстве, человек XVI в. мыслил «целостностями столь же универсальными, сколь мизерными были его действительные знания о них», так что уяснить свое положение в иерархической цепи творений он мог, лишь прибегая к сложной системе аналогий и ассоциаций. Неудивительно поэтому, что не найдется ни одного произведения той поры, которое не отражало бы подобного миропонимания, где герои не обращались бы к небу и аду, не ссылались на природу, стихии, фортуну, звезды.
Тамерлан в «Тамерлане Великом» Марло говорит:
Подчинены мне жребии людские,
Я управляю колесом фортуны,
И раньше солнце упадет на землю,
Чем Тамерлана победят враги.
Герцогиня из «Герцогини Мальфи» Дж. Вебстера обвиняет в своих несчастьях рок, судьбу, звезды:
О, звезды, проклинаю вас
Пусть жизнь и свет... Нет лучше пусть весь мир
В первоначальный превратится хаос.
Уже сами по себе эти примеры определенным образом характеризуют миросозерцание XVI в. Однако выявление своеобразия жизненного восприятия каждого из этих драматургов невозможно без обращения к господствовавшей тогда и ставшей своеобразным стереотипом картине мироздания, к философским представлениям того времени, эклектически соединившим в себе элементы средневекового и ренессансного мышления.
Тема данной статьи — наиболее общие философские представления о мире и человеке в творчестве Кристофера Марло (1564-1593).
Сейчас уже традиционной стала мысль о том, что в своем идейно-творческом становлении Марло отразил как бы все фазы развития английского гуманизма. Суждено было пережить ему и «великую трагедию» гуманистических идеалов или, точнее, трагедию кризиса гуманистических иллюзий, характерную для позднего Возрождения. Хотелось бы обратить внимание на то, что в литературоведческих работах нередко говорится не о кризисе иллюзий гуманизма, а именно о кризисе гуманизма как такового. Например, в статье А.Т. Парфенова «К проблеме маньеризма в английской драматургии эпохи Возрождения» читаем: «Под знаком кризиса гуманизма находится не только маньеристическое искусство, но и вся эпоха позднего Возрождения... Осознание того, что традиционные гуманистические представления о мире не совпадают с реальностью, порождало более глубокий интерес к этой реальности и к иным, новым точкам зрения на нее; однако нормой и недостижимым идеалом при этом оставались ценности, выработанные Возрождением... Хотя идеи «трагического гуманизма» могли быть весьма различными в зависимости от конкретных исторических условий и социальной ориентации художника, выражающий это кризисное мировоззрение позднеренессансный стиль мог варьироваться весьма существенно, основные ценности и идеи культуры Возрождения остаются при этом на месте». Но если «основные ценности и идеи культуры Возрождения остаются... на месте», если, более того, они остаются «нормой и недостижимым идеалом», можно ли в таком случае говорить о кризисе гуманизма? Не уместнее ли говорить о кризисе иллюзий гуманизма, о выявлении двойственной природы гуманистических идеалов в контексте данной конкретно-исторической действительности, при сохранении непреходящей исторической, этической, философской и эстетической ценности этих идеалов?
Как и многие его современники, Марло пришел к неутешительному выводу, что развитие личности — это великое завоевание эпохи Возрождения — обернулось для общества (да и для самой личности) драматически. Царство безграничной индивидуальной свободы воплощалось на практике во всеобщей борьбе эгоистических интересов, а стремления титанической личности, потеряв общечеловеческую универсальность, нередко обретали характер беспринципной вседозволенности. Однако все эти факторы, объективно способствовавшие кризису гуманистических иллюзий и свидетельствовавшие об изначальной двойственности культуры Возрождения, были по-разному осмыслены современниками Шекспира. Здесь-то и должна была раскрыться специфика индивидуального мировосприятия, сказаться значимость мировоззренческих позиций того или иного драматурга. Иначе трудно, например, объяснить, почему живший в одно время с Марло Джон Лили (1554-1606), создатель эвфуистического романа и изысканных придворных комедий, вовсе прошел мимо трагической коллизии эпохи, почему Томас Нэш (1567-1601) воспринял эту коллизию не трагически, а сатирически, почему для Роберта Грина (1558-1592) было характерно не трагическое, а драматическое видение жизни.
Решающая роль в осмыслении явлений действительности принадлежит системе философских взглядов и представлений. Именно поэтому без обращения к наиболее общим философским представлениям Марло о личности, человеческом обществе, истории, вселенной невозможно осознать специфику трагического миросозерцания драматурга, понять особенности его художественного мышления, его отношение к господствующей картине мироздания и к некоторым философским доктринам его времени.
Четыре трагедии Марло — «Тамерлан Великий», «Трагическая история доктора Фауста», «Мальтийский еврей» и «Эдуард II» — дают возможность составить определенное понятие об этих воззрениях Марло.
Своеобразие взглядов драматурга особенно наглядно раскрывается в сопоставлении с отдельными философскими суждениями в пьесах Шекспира.
Еще Н.И. Стороженко, сопоставляя творческую судьбу Шекспира и Марло, писал: «Любители мистических сближений могут увидеть нечто более обыкновенной случайности в том обстоятельстве, что два величайших драматурга Англии, из которых один указал английской драме истинную дорогу, а другой довел ее по ней до неслыханной дотоле художественной высоты, увидели свет почти в одно и то же время, и, может быть, захотят продолжить это сближение через всю жизнь обоих поэтов. Но мы заранее спешим предупредить, что попытки их будут совершенно напрасны, так как нет двух судеб более несходных, как судьба Шекспира и Марло». Столь же несходными были и художественные методы драматургов, и характер осмысления ими явлений действительности. Различными были и испытанные ими философские влияния. Трудно согласиться поэтому с утверждением Ф.Г. Овчинниковой, что Марло был лишь «пролагателем путей, по которым пошел Шекспир» и что это «говорит о близости мировоззрения обоих драматургов».
В произведениях Марло и Шекспира мы не найдем изложения передовых научных идей Коперника и Бруно об устройстве мира. Теория иерархически упорядоченной, разумно организованной вселенной осталась в эпоху Возрождения своеобразным стереотипом мышления, отражая привычные, устоявшиеся представления. Шекспир, по утверждению М.А. Барга, «почти буквально воспроизвел» эту «картину мироздания». Наиболее законченное выражение эта теория получила в известном монологе Улисса из «Троила и Крессиды»:
На небесах планеты и Земля
Законы подчиненья соблюдают...
Устами Улисса Шекспир излагает «столько же „общепринятую истину" эпохи, сколько и свои «личные» воззрения». «Здесь все: и основные сферы бытия, и иерархический строй, и незыблемость мирового порядка, и взаимосвязанность его элементов... Соблюдение этого порядка рассматривалось как соблюдение «законов природы», единых для всего сущего». Исторические хроники («Генрих IV», «Генрих VI», «Ричард II», «Ричард III») и трагедии Шекспира («Король Лир», «Гамлет», «Макбет») полны печальных примеров нарушения этой гармонии.
В трагедиях Марло мы не найдем идеи «Великой Цепи Бытия» в ее традиционном виде. Марло, как это видно уже на примере «Тамерлана Великого», отказался от идеи гармоничного соподчинения первичных элементов (земля, вода, воздух, огонь). «Четыре враждующие стихии» находятся в постоянной борьбе за преобладание и господство. «Вражда» противостоящих стихий происходит при этом не только во вселенной, но и в человеческой душе, которая также лишена гармонической уравновешенности и стабильности.
Стремление к власти предстает здесь как своеобразное моральное требование, ведь «сила составляет сущность бога, закон вселенной и человеческой жизни» — философия, по мнению П. Кочера, для Ренессанса уникальная: у Бруно, Макиавелли, Ралли, Монтеня нет ничего похожего. Значительно больше общего у Марло с Бэконом, призывавшим к покорению природы, к овладению всем богатством бесконечного в своем разнообразии мира. Подобно Бэкону, Марло считает, что стремление к самоутверждению и совершенствованию, составляющее сущность человеческой натуры, является вместе с тем законом вселенной. Близка Марло и идея Бэкона о достижении могущества посредством знания, которое может стать властью («Трагическая история доктора Фауста»), тема героической страсти, нашедшая отражение в «Тамерлане Великом», сродни также идее доблести Макиавелли как наиболее всестороннего развития человеческой личности.
В целом взгляды Марло, несомненно, выходят за рамки как средневековой, так и ренессансной традиции. Некоторые общие моменты можно усмотреть у Марло с представителями досократовской линии античной философии. В их числе — теория борьбы как сущности мира, провозглашенная в разных формах Анаксимандром, Анаксименом, Гераклитом, Эмпедоклом. Идея вечности космоса и составляющих его элементов прослеживается еще у Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена. Гераклиту принадлежит мысль о преходящем, изменчивом характере сущего. Основу этого постоянного изменения он видит в борьбе противоположных начал. Однако для Гераклита при превращении борющихся противоположностей сохраняется их общая тождественная основа. Он провозглашает принцип «возвращающейся к себе гармонии». Согласно Эмпедоклу, Вражда (Борьба) и Любовь — материальные субстанции или вещественные движущие силы, управляющие элементами. Если Марло и была известна эта концепция, то в «Тамерлане Великом» она выступает в сильно измененном виде. Эмпедокл, согласно утверждению Аристотеля в «Метафизике», отождествляет борьбу со злом, а любовь — с добром. Марло абсолютизирует сам принцип борьбы. Однако этому принципу у Марло ничего не противостоит: его концепция мира дисгармонична.
Герой трагедий Марло будет ощущать себя не отдельным, хотя и занимающим особое место, звеном в «Цепи Бытия», а ее центром. По отношению к этому центру природа займет исключительно внешнее положение. Именно поэтому природа в трагедиях Марло уже не будет природой «одухотворенной», «откликающейся» на любые нарушения порядка в человеческом обществе, на «великие человеческие преступления» и «извращения человеческой природы». Не будет она и критерием оценки нравственности человеческих поступков. Если герой Шекспира во всем дурном и хорошем — часть природы, связанная с ней неразрывными узами, то герой Марло воспринимает природу несколько остраненно. Достаточно вспомнить финал «Трагической истории доктора Фауста» или монолог Эдуарда II («Эдуард II», V, 1), проникнутый ощущением невозможности слияния с природой.
Заключительная сцена «Трагической истории доктора Фауста» вызывает в памяти «Падение Икара» — философскую картину Питера Брейгеля Старшего, написанную на сюжет одной из «Метаморфоз» Овидия. У Марло — акцент на грандиозной, почти космической картине гибели главного героя; у Брейгеля, напротив, эта космическая катастрофа почти незаметна на фоне величавого и спокойного пейзажа. Общее — в самом принципе изображения природы, вселенной. На картине художника — та же «равнодушная» и прекрасная природа, совершающая свой обычный круговорот, не нарушаемый трагической судьбой потерпевшего крушение индивидуалиста. Мир природы, каким предстает он в трагедиях Марло, это не гармоничный, одухотворенный присутствием человека мир, а мир, исполненный холодного блеска и великолепия. «Солнце», «Луна», «бездонное небо», «звезды», «метеоры», «кометы», «молнии», «пожары», «хаос» — наиболее часто встречающиеся у Марло при описании явлений природы образы. Ни Тамерлан, ни Фауст не чувствуют себя только «частицей» мира природы, стремясь завоевать его и владеть им. Если и есть нечто общее в устройстве вселенной и человеческой души, то не в идее гармонической уравновешенности, а в принципе борьбы. Не найдем мы у Марло и столь часто встречающегося у Шекспира «сравнения законов общественного порядка с незыблемыми законами природы».
Человеческое общество у Марло также служит примером постоянной борьбы не только отдельных его членов, но и личности против общества, общества против личности, борьбы социальных групп, политических партий, государств, прибегающих к самым аморальным с нравственной точки зрения средствам («Мальтийский еврей», «Эдуард II», «Парижская резня»).
Несомненна близость этих идей Марло системе исторических взглядов Макиавелли («Государь», «Рассуждения на первые три книги Тита Ливия», «История Флоренции»). Подобно Макиавелли, Марло увидел в современной ему действительности борьбу определенных социальных групп, из которых впоследствии сформировались будущие классы общества. В трагедиях Марло личность и общество предстают как непримиримо враждебные, постоянно конфликтующие начала, в равной мере дискредитирующие себя во всеобщей борьбе.
Достаточно сравнить Марло периода написания «Мальтийского еврея», «Эдуарда II» и «Парижской резни» с Шекспиром периода создания его ранних комедий, чтобы убедиться: то, что для Шекспира было уродливым и потому случайным отклонением от норм красоты и гармонии, заложенных в основе мироздания (такова, например, трактовка жизненной позиции Шейлока в «Венецианском купце»), трагически воспринималось Марло уже как некий универсальный принцип бытия, как объективное состояние человеческого общества. Не только гармония, но и единство стремлений личности и общества оказываются безвозвратно утраченными. Не случайно поэтому и человеческая история в трагедиях Марло лишается этического, провиденциального содержания, предстает как естественное следствие деятельности свободных и независимых личностей, превративших всеобщую вражду в закон жизни. Столкновение эгоистических интересов приводит в финале трагедий к гибели почти всех действующих лиц. О Марло периода создания «Мальтийского еврея», «Эдуарда II» и «Парижской резни» можно сказать, что он уже «не задавался вопросом о сущности миропорядка, трезво ее видел, и видел, что она дурна». Если в исторических хрониках Шекспира воплощены две концепции королевской власти — провиденциальная («Ричард III») и политическая («Генрих VI»), то ни в «Эдуарде II», ни в «Парижской резне» мы не найдем никаких ссылок на божественное предопределение. В последних своих произведениях Марло, подобно Макиавелли и Гоббсу, приходит к выводу о неизбежности подчинения личности государству. Появляются в них и герои нового типа. Марло, по-видимому, ощутил необходимость противопоставить изображенному им миру некое организующее, сдерживающее начало.
Восстановленная в финале трагедии «Эдуард II» справедливость — скорее торжество отвлеченной идеи, нежели реальное разрешение конфликта. Образ принца Эдуарда, как и Генриха Наваррского в «Парижской резне», условен, но он выражает новую в творчестве Марло мысль о неотвратимости победы иного общественного устройства с его принципом государственности, подчинения личного начала началу общественному. Однако и финал трагедии, в котором несмотря на формально восстановленную справедливость явно не чувствуется оптимистического звучания, и образ будущего монарха Эдуарда III, лишенного и многогранности, и обаяния, и человеческих слабостей лучших героев Марло, свидетельствуют о том, что драматург едва ли мог связывать с торжеством принципа государственности идею «добра, присущего сильной королевской власти». Идею сильной королевской власти Марло противопоставляет стихии индивидуалистических страстей не как «добро», а лишь как меньшее зло. Эдуард III, подобно Октавиану, Фортинбрасу, Авфидию в пьесах Шекспира — предвестник «торжествующего семнадцатого века», знаменующего крушение всего духовного мира Возрождения. Как человек Возрождения Марло не мог приветствовать грядущий век, не мог не видеть и того, что естественное развитие свободной личности и движение времени трагически противостоят друг другу.
«Великая Цепь Бытия» предстает у Марло в разомкнутом, расчлененном виде. Однако, отказавшись от идеи гармонического соотношения звеньев «Цепи Бытия», «разорвав» эти звенья, Марло, по существу, впал в другую (по отношению к интерпретаторам этой концепции) крайность, метафизически (и, следовательно, трагически) абсолютизировав этот «разрыв» и противопоставив диалектически взаимосвязанные понятия (природа и личность, природа и общество, личность и общество, личность и история). Шекспир, как это видно на примере «Генриха IV», «Генриха VI», «Ричарда III», «Короля Лира», «Макбета», «Троила и Крессиды», следует концепции «Великой Цепи Бытия». Эта концепция мироздания, несомненно, была статична и неподвижна, но в ней содержалась и важная мысль о взаимосвязанности и взаимозависимости всех вещей, явлений и процессов в мире, природе, человеческом обществе. Следуя тезису Монтеня о бесконечной изменчивости человеческой природы, о постоянно происходящих в обществе изменениях, Шекспир привносит в эту статичную картину мироздания динамику, движение, развитие. Отсюда — многомерность, стихийная диалектика мировосприятия Шекспира, его представление об истории и как о закономерной смене исторических эпох, и как о непрерывно длящемся историческом процессе. Время предстает у Шекспира в единстве прошлого, настоящего и будущего, т. е. как «причинно-следственная связь в цепи событий», как «скрытый объективный порядок, независимый от субъективного наблюдателя»:
Есть в жизни всех людей порядок некий,
Что прошлых дней природу раскрывает.
Поняв его, предсказывать возможно
С известной точностью грядущий ход
Событий, что еще не родились...
Едва ли, однако, «различие методов мышления Марло и Шекспира», о котором пишет Ф.Г. Овчинникова, можно объяснить лишь тем, что Марло «шел к осмыслению действительности во всеоружии академической учености, приобщившись к схоластическим традициям официальной мысли», а Шекспиру, не обремененному академическими традициями, было легче воспринять жизнь в ее изменчивости, движении и многообразии. «Академическая ученость» Марло, как известно, не помешала ему занять весьма неортодоксальные позиции, например, в вопросах религии, хотя теология считалась одной из важнейших академических дисциплин, а также критически отозваться о всех сферах современного ему знания в «Трагической истории доктора Фауста». Трагедии Марло достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что он всегда был далек от «традиций официальной мысли». Причину различия следует искать именно в особенностях художественного мышления драматургов, в их представлениях о мире, природе и человеке, испытанных ими философских влияниях.
Как и герои Шекспира, герои Марло представляют собой разные типы общественного сознания эпохи (патриархальный, отвлеченно-гуманистический, буржуазный, абсолютистский), порожденные противоречиями исторического развития Англии XVI в. Но как различны при этом герои Шекспира и Марло... Причина подобного несходства заключается, по-видимому, не только в том, что Марло в «отличие от Шекспира и подобно Шоу интересовался характерами лишь постольку, поскольку они воплощали идеи» (что, конечно, не могло не привести к некоторой их односторонности и схематичности). Различными у этих драматургов были как принцип типизации, так и тип трагической коллизии и героя, связанные со спецификой их художественного мышления и мировосприятия.
В Тамерлане — первом значительном герое Марло — исследователи нередко видели характер эпического склада, богатыря-исполина, преемственно связанного с традициями народных героических мифов и сказаний. Он и необыкновенно энергичен, и целеустремлен, и удачлив, и непререкаемо убежден в своей неуязвимости. «Геркулес, каким предстает он у Софокла, Еврипида и, более всего, у Сенеки вновь оживает в Тамерлане», — утверждает, например, Ю.М. Уэйт. Однако внешнее сходство Тамерлана с традиционным героем эпоса лишь подчеркивает отличие. Безмерность стремлений разрушает гармонию между личностью и социумом, и Тамерлан, побеждая враждебный, дисгармоничный, периодически восстающий против него мир, мнит себя не его частью, но едва ли не верховным властелином вселенной, владыкой людских судеб. Эпический герой — воплощение героических черт народа — не выделяет себя из общества, органически связан с этническим коллективом. Тамерлан, напротив, предельно эгоистичен, эгоцентричен, анархичен. Ощущения духовной гармонии и единения с миром в равной мере лишен и Фауст, начинающий с разочарования в реальных возможностях человека. Варавва, Эдуард, Мортимер, Гиз каждый по-своему несут в себе источник конфликтных ситуаций. Титаническое стремление героев Марло становится причиной разлада и вражды, вызывает духовный и вселенский хаос.
В героях Шекспира трагическая страсть рождается не сразу, а лишь по мере развития драматического конфликта. Кориолан, Лир, Отелло, Антоний в начале своего жизненного пути переживают состояние гармонии и равновесия, неведомое безудержным и одержимым героям Марло.
Есть и еще одно немаловажное отличие героев Марло от персонажей Шекспира. Шекспир, по замечанию В. Кеменова, «так обрисовывает своих героев (как положительных, так и отрицательных), что они, как верно заметил Гегель, смотрят на себя со стороны как на некое художественное произведение... Их размышления о себе ставят их выше того состояния, в котором они вынуждены действовать в силу определенной коллизии и определенных обстоятельств». Герои Шекспира нередко «превращаются в художников, творящих свои характеры». Герои же Марло, постоянно ощущающие свою исключительность, подчас слишком субъективны, чтобы смотреть на себя со стороны. Их характеры (и это особенно хорошо видно на примере Тамерлана) почти всегда предстают в виде некой неуправляемой стихии. В значительно меньшей мере, чем шекспировские герои, они наделены способностью к самопознанию, во многих отношениях (и для себя самих) оставаясь не до конца разрешенной загадкой.
Герои Шекспира способны возвыситься над ограничивающими их эпохой и обстоятельствами, над отведенной им конкретно-исторической ролью, так как в представлении самого Шекспира «все эти роли образуют лишь один из актов той великой пьесы, которую человечество из поколения в поколение разыгрывает на подмостках всемирно-исторического театра». Для Шекспира, таким образом, возможно диалектическое разрешение трагически неразрешимых ситуаций и исторических конфликтов в отдаленной перспективе в будущем: ведь «к одному акту не сводятся все творческие возможности человечества, как к одной роли не сводятся все возможности человека». В этом — оптимизм трагедий Шекспира.
В трагедиях Марло мы не найдем характерного для Шекспира и столь популярного в английской ренессансной драматургии сравнения мира с театром, человеческой истории — со всемирно-историческим спектаклем. Это видение жизни при всей его условности и наивности было отражением ренессансного, оптимистического взгляда на историю, понимаемую как постоянная смена исторических актов и ролей, что как бы заранее исключало возможность исторических тупиков, неразрешимых ситуаций и противоречий. Герои Марло при всем их универсализме и титанизме трагически ограничены рамками времени, эпохи, страны, данной конкретно-исторической ситуации, ибо Марло, в отличие от Шекспира, не убежден, что за тем всемирным историческим актом, который «назывался Ренессанс и имел трагическую развязку... идут другие», и «в этих следующих актах человечество... еще исполнит новые сцены, сыграет новые роли, более достойные родовой сущности человека».
Некоторая метафизичность творческого мышления Марло, препятствовавшая достижению адекватного познания движения и развития, приводила подчас к гипертрофии, абсолютизации отдельных, диалектических в основе своей противоречий и законов вселенной, исторической эпохи, человеческого бытия. Идея исторического прогресса — созидательного начала эволюции — не присутствует в трагедиях Марло. Именно в метафизической абсолютизации титанической страсти, феномена отчуждения и распада связей между отдельными людьми, между личностью и обществом заключались, по-видимому, первоосновы трагического мировосприятия Марло.
Что, помимо стойкости, мужества, интеллектуального превосходства, можно противопоставить грубой физической силе? Каковы реальные границы возможностей человека в его воздействии на мир? В чем состоит сущность государственной власти и что, кроме религии и этики, может обуздать тиранию? За свою короткую творческую жизнь Марло не удалось разрешить эти вопросы, занимавшие человечество в течение всех последующих столетий. Но он поставил эти вопросы.
Л-ра: Филологические науки. – 1985. – № 6. – С. 34-41.
Произведения
Критика