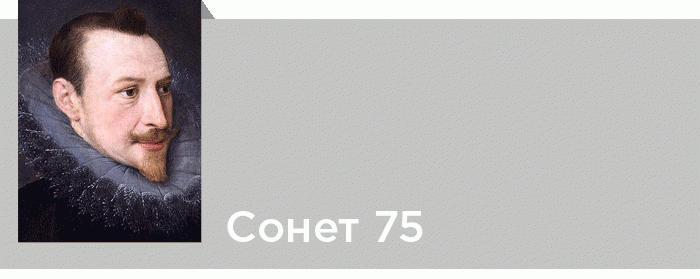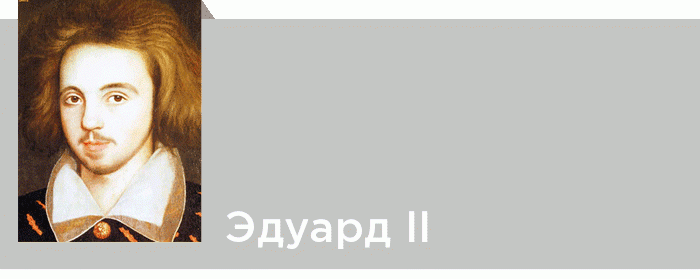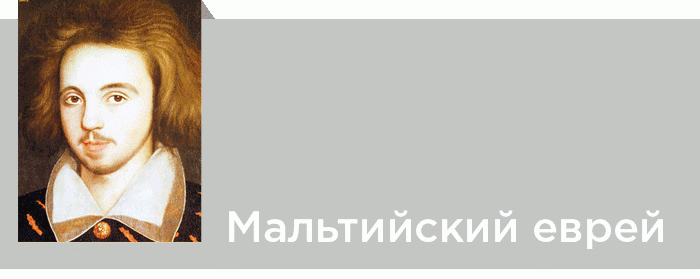Проблема героя в драматургии Марло
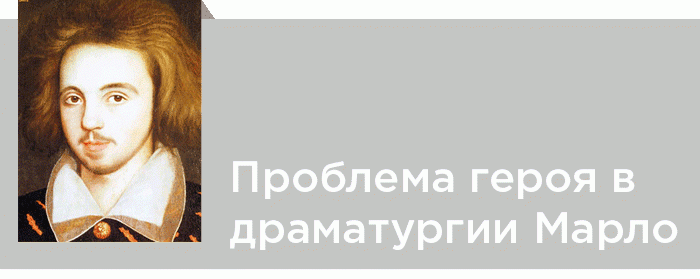
Ф. Г. Овчинникова
В течение долгого времени этот замечательный писатель несправедливо причислялся большинством историков литературы к «талантам второго и третьего ранга», но в последние десятилетия многочисленные зарубежные исследователи различных направлений стараются исправить эту ошибку. При всем различии их точек зрения на сущность драматургического наследия Марло и нередком полном непонимании, а подчас и прямом искажении его, все они единодушны в оценке этого яркого и вдумчивого художника как явления первой величины.
Из английских драматургов, предшественников и современников Шекспира, каждый, бесспорно, внес свой вклад в дело создания высокопроблемного реалистического театра английского Возрождения; вершиной и синтезом которого было творчество Шекспира. Новыми и плодотворными были демократизм и дыхание народной жизни Англии, которыми пронизаны пьесы Роберта Грина, и столкновение страстей, которое Кид сумел сделать главной движущей силой драматического действия, и живой, динамичный диалог, Лили. Но новое слово Марло было неизмеримо значительнее, как справедливо утверждает Саймондс: «Это он непреложно определил судьбы романтической драмы».
Дело не только в превосходстве художественного дарования Марло и не только в его поэтическом новаторстве — белом стихе, благодаря которому свободно и естественно зазвучали со сцены сокровеннее думы, страсти и чувства героев Возрождения.
В многочисленных исследованиях много внимания уделено различным проблемам, отражение которых историки литературы, с большим или меньшим основанием, находят в произведениях Марло. Так, несомненно, серьезны и глубоки размышления поэта над вопросами философского и религиозного мировоззрения. Об этом говорят не только сами его произведения, но и свидетельства тайных агентов о его «богохульных», осознанно антирелигиозных высказываниях, в кружке вольнодумцев, группировавшемся вокруг Уолтера Ралея, и ожесточенные обвинения его в «безбожии» пуританскими проповедниками. Однако едва ли справедливо видеть главную идейную основу творчества драматурга в антирелигиозной проблематике, как это делают, например, Ч. Норман, К. Эллис-Фермор, П. Кочер. В драматургии Марло, как и в идейных исканиях передовых мыслителей английского Возрождения вообще, эта проблематика не занимала центрального места.
Также сомнительными представляются попытки усматривать в драмах Марло выражение каких-либо конкретно-политических тенденций. Так, едва ли прав современный прогрессивный английский историк литературы А. Кеттл, считая, что «устами Тамерлана утверждается величие нового национального государства».
Выражение «романтическая драма», которое мы нередко встречаем у зарубежных исследователей, следует понимать, несомненно, в смысле широко обобщающего характера образов Марло, составляющего особенность его реализма. Тонко и глубоко оттеняет Текер-Брук различие между методом широких художественно-философских обобщений, присущим Марло, и изображением действительности в ее хотя и характерных, не ограниченно бытовых явлениях у его современников: «Сияние его мысли, — пишет исследователь, — сжигало смутную внешнюю оболочку и открывало самое ядро жизни».
Он принадлежал к головному отряду гуманистов в самом передовом и широком значении этого понятия. Эта идейная позиция определила целеустремленность всего творчества драматурга. Современный американский исследователь Гарри Левин справедливо характеризует Марло как наиболее красноречивого выразителя тех взглядов и того ряда задач, которые мы обобщенно называем Ренессанс.
Центром, исходной точкой и конечной целью всех идейных исканий Возрождения был вопрос о человеке, его сущности, его правах и обязанностях в отношении самого себя, природы и человечества. Недаром имя человека дало название основному потоку этих исканий — гуманизму. На этом, вопросе сосредоточил свое внимание и Марло, вложив в раздумья о нем всю силу и страстность своей мысли и таланта, живо отозвавшись тем самым на самую основную проблему своего времени.
Проблема героя приобретает поэтому в драматургии Марло особое значение, оказываясь предметом идейных поисков прежде всего для самого художника. Эта центральная проблема подчиняет себе, по существу, все остальные вопросы в его трагедиях. Как Справедливо заключает А. Кеттл, «наиболее яркая и характерная черта этих трагедий — появление независимого героя, и герои эти — «люди, отвергающие и презирающие ограниченность, мораль, науку и святость средневекового феодального мира...»
Герой Марло, от Тамерлана до молодого Мортимера и фаворитов короля Эдуарда, — истинный сын эпохи. Он — активный борец за свою судьбу, порвавший со всеми моральными и идеологическими традициями старого мира, и несомненный индивидуалист.
Это последнее его качество не составляет, впрочем, исключительного свойства героев Марло. Развитие нового мировоззрения и расцвет творческих сил эпохи Возрождения вызывались к жизни в конечном счете закономерностями «зари капиталистической эры». Поэтому герои литературы Возрождения и, в частности, английского, исключая положительных героев Шекспира, в большинстве индивидуалистичны. Их индивидуализм — историческая необходимость, включающая в себя и позитивный момент. Для того чтобы жить деятельной, плодотворной жизнью, чтобы заново открывать мир и покорять его, человек эпохи Возрождения прежде всего должен был стать независимым индивидуумом, освободиться от «естественных связей.., которые в прежние исторические эпохи делали его принадлежностью определенного ограниченного человеческого конгломерата».
Страстная целеустремленность и индивидуализм героев Марло признаны единодушно всеми исследователями. Однако от внимания историков литературы неизменно ускользает глубокое изменение значения образа героя в общем идейном замысле трагедий на протяжении творческого пути драматурга.
Авторы большинства исследований справедливо отмечают отличие первых драм Марло — «Тамерлана» и «Фауста» с присущим им титанизмом и обобщенностью образов — от последующих, которым, начиная с трагедии «Мальтийский еврей» (1589 или 1590), присуща гораздо большая конкретность. Они улавливают также, что герой «Мальтийского еврея», в отличие от своих предшественников, оказывается коварным и беспринципным злодеем, способным в преследовании своих целей на любые преступления. Однако причины и значение этого перелома до сих пор остаются не раскрытыми до конца.
В литературоведении до настоящего времени господствует тенденция рассматривать центральных персонажей всех трагедий Марло как положительных героев, носителей идеалов и стремлений драматурга. Не отходит от этой традиции даже прогрессивное зарубежное литературоведение. Так, даже А. Кеттл хотя и начинает свой обзор «прогрессивных ценностей прошлого» с драматургии Марло, но тут же утверждает, что герои его «воплощают в себе сокровенные чаяния представителя буржуазии», а плодотворная новизна художественного метода писателя «представляет собой выражение страстей Марло — страстей новой буржуазной идеологии». А между тем несомненное перерождение героя трагедий Марло от «Тамерлана Великого» до «Парижской резни» и «Эдуарда II» наводит на мысль об изменении точки зрения самого драматурга на своего героя и заставляет задуматься о значении этой перемены для осмысления идейной позиции писателя.
Подавляющее большинство зарубежных исследователей культуры Возрождения обычно упускает из виду многогранность, сложность и противоречивость понятия гуманизма. Сосредоточивая внимание на блестящей эрудиции гуманистов в области античного наследия, на их поисках новых путей познания и осмысления мира, они забывают о самой первоначальной, определяющей тенденции передового идеологического движения Возрождения, о поисках новых путей жизни, деятельности и счастья человека в реальном мире. Между тем эта исходная идея вдохновляла лучших людей всех стран того времени, одушевленных мыслью не только об эгоистическом счастье индивидуума, но и о благоденствии человечества, неотделимом от торжества правды, искренности, великодушия, мыслью о высоком достоинстве человека, о его подлинной человечности. Эти идеи лежали в основе творчества величайших гениев Возрождения: на раннем этапе — итальянцев Петрарки и Боккаччо — тех, кто еще не помышлял о расчленении антифеодальных сил общества.
Почти все драматурги — предшественники Шекспира, так называемые «университетские умы» — были не только знатоками античного поэтического наследия и эрудитами в различных областях гуманистической учености, но и гуманистами в широком идейном плане.
Сущность творчества Марло и смысл его идейных исканий можно раскрыть до конца, только помня, что мировоззрение его определялось именно этими широко философскими демократическими тенденциями гуманизма.
* * *
Герои двух первых драм Марло, завоеватели мира — Тамерлан и Фауст — являются подлинными положительными героями, выразителями идеи драматурга; об этом между исследователями нет разногласий.
Первая трагедия Марло «Тамерлан Великий» (1587) изображает подвиги знаменитого киргизо-монгольского завоевателя XIV-XV веков. Однако, хотя Марло и обращался за сведениями к авторитетным в то время источникам, его герой чрезвычайно мало походит на исторического Тимур Ленга. Драматурга, по-видимому, вдохновила слава непобедимого завоевателя, заставившая весь средневековый мир с почтительным ужасом произносить имя Тимура. Позаимствовав из летописей хронистов лишь некоторые схематичные штрихи истории Тамерлана, Марло по-новому переосмыслил его характер и судьбу, вложил в них новое содержание. «Тамерлан» — своего рода «программная драма». Основная ее идея – утверждение во вновь открытом необъятном мире безраздельного господства человека, покоряющего этот мир своей духовной и физической силой и волей к власти. В своем победном шествии, этот завоеватель мира разрушает все вековые установления, разоблачает несостоятельность Социальных, моральных и религиозных представлений прошлого.
«Тамерлан» Марло — гимн безграничной силе и возможностям нового человека. Здесь впервые молодой драматург восторженно утверждает нового героя, уловив и обобщив в этом образе самую сущность эпохи, «когда были ослаблены все старые узы общества и поколеблены унаследованные представления».
Придав своему Тамерлану, так же как и Фаусту, титанические масштабы, Марло и в этом оказался верен духу времени. Задачи, которые он поставил перед своими героями, были основными задачами, стоявшими перед новыми жизнеутверждающими силами эпохи. Решение их было по плечу только титанам.
«Я крепко заковал богинь судьбы в железные цепи И своей рукой поворачиваю колесо Фортуны», — говорит о себе Тамерлан.
Гигантский размах переосмысления, и перестройки мира, ознаменовавший эпоху Возрождения, нес в себе глубокие противоречия.
Первые герои Марло воплощали в себе все противоречивое многообразие своей эпохи, поэтому для уяснения идейной позиции драматурга очень важно правильно понять его основную, определяющую тенденцию в обрисовке их образов.
Некоторые исследователи стараются доказать единство идейной сущности всех героев Марло и тождество ее с идейной позицией самого драматурга. Освещая противоречивые черты образа Тамерлана, они соотносят его с образами героев последних драм Марло и придают преувеличенное значение как раз тем чертам этого образа, которые перекликаются с определяющими качествами Вараввы, Гиза, или Мортимера.
Так, в характеристике Тамерлана, данной Гарри Левиным, проскальзывает представление о Тамерлане как о ренессансном «злодее», аморальном индивидуалисте: по его словам, Тамерлан - «злодей», приписывающий себе возвышенную миссию».
Важнейшее и определяющее свойство Тамерлана, как и чрезвычайно близкого к нему Фауста, — это свойственное им восприятие действительности. Они прежде всего открыватели нового, прекрасного мира. Их великое достоинство в том, что мир они видят по-новому, ощущают его безграничное богатство, его широту, безбрежность в нем прекрасного; величественного.
Для противников и антагонистов Тамерлана мир представляется тоже обширным географическим пространством, но их неприятие этой широты плоско, утилитарно — она фигурирует только в их захватнических планах или в хвастливом самообольщении. Так, Хосрой, не успев еще отнять у брата персидский престол, приказывает уже именовать его «императором Азии и Персии, великим государем Мидии и Армении; князем Африки и Албании... главным повелителем далекого пустынного Эвксинового моря и вечно волнующегося Каспийского озера» (Т., I, акт I, сц. 1), а обреченный уже и бессильный Баязет упивается миражем власти, провозглашая себя повелителем стран, которые вовсе ему не принадлежат (Т., I, акт III, сц. 1).
Тамерлан же видит в необозримых географических пространствах вовсе не только объект завоевания. Для него, как и для Фауста, обширный мир — неисчерпаемая сокровищница красоты, наслаждения, счастья, он весь — для человека, со всеми красотами и благами всех стран земли и всей поэтичностью и величием античной древности.
Подлинно новый человек, Тамерлан находит в этом мире созвучие всем своим переживаниям. Поэтому возлюбленная Тамерлана Зенократа в его глазах «сияет светлее, чем серебряная Родона» (Т., I, акт I, сц. 2) , она «прекраснее белейшего снега скифских холмов» (там же), ей должна служить «сотня татарских всадников, чьи кони быстрее Пегаса» (там же), ее красота способна растопить «замерзший полюс» (там же), к ее ногам Тамерлан слагает неисчислимую военную добычу, «добытую на пятидесятиглавых волнах Волги» (там же).
Весь мир в его безграничности — место жизни, деятельности, счастья и горя человека, и первые герои Марло вовлекают всего его многообразием круга своих дел, помыслов и чувств. Поэтому в час смерти Зенократы «черна красота светлейшего дня», а «огненный шар вечного небесного огня, что плясал во славе на серебряных волнах, ... готов окутать землю бесконечной ночью» (Т., II, акт II, сц. 4).
Фауст мечтает послать подвластных ему духов в Индию и на дно морское, чтобы исполнить его желания.
В этих образах целостный комплекс качеств героя, принимаемого писателем всецело с положительным знаком, как бы расчленяется, жестокость его предстает в отталкивающих чертах, не смягченных одухотворенно-поэтическим восприятием мира, и легкой тенью проскальзывает мысль о несовместимости насильственного пути к власти над миром с элементарными законами человечности. В рамках трагедии о Тамерлане писатель больше не возвращается к этой мысли и продолжает вести своего героя прежним путем, не допуская колебаний и сомнений. Можно, однако, заметить, что самый образ Тамерлана на протяжении обеих частей трагедии несколько эволюционирует. Тамерлан постепенно как бы все более ожесточается. В первой, части больше оттеняются духовная широта и богатство внутреннего мира героя; именно здесь рождается и находит свое поэтическое выражение его возвышенная страсть к Зенократе, здесь раскрывает он дружеские объятия перед Теридамом, здесь устами Менафона обрисовывается его внешний облик, «микеланджеловский», отмеченный чертами идеального человека гуманистической мечты. Проявления жестокости Тамерлана имеют здесь всегда известное логическое обоснование и никогда не являются бессмысленными, он совершает их, преодолевая сопротивление своих врагов.
Тамерлан во второй части более грозен и жесток. Он без колебания сам убивает родного сына, карая его за отсутствие воинственности и властолюбия; в неистовой скорби о смерти Зенократы он сжигает и ровняет с землей целый мирный город. Все это наводит на мысль, что Марло пытался с юношеским пылом утвердить в образе Тамерлана свою веру в нового человека и его право владеть всем миром, но, как большой художник, он не мог не отразить в этом образе тех проявлений, которые отличали реальных завоевателей мира в самой исторической действительности, и чем дальше вел он своего героя по его победоносному пути, тем отчетливее проступали в этом образе жестокие черты реальных новых хозяев жизни. Едва ли, однако, можно предположить, что драматург уже в эту раннюю пору своего творческого развития осознанно приглядывался к противоречивым чертам своего героя.
Через некоторое время помыслами драматурга завладевает образ чернокнижника Фауста, героя немецкой народной легенды, отразившей раскрепощение народного сознания от аскетической догмы средневекового религиозного учения. Марло знакомится с легендой по народной книге о Фаусте, изданной Иоганном Шписом во Франкфурте-на-Майне в
В «Фаусте» герой целиком выключается из плана возможных столкновений с препятствиями, вырастающими из жизни общества или интересов других людей. Господство человека над миром реальных вещей утверждается здесь в обобщенно философском плане, через познание. В сущности как раз Фауст следует тем путем, который Тамерлан больше декларировал, чем осуществлял, именно Фауст мог бы с большим правом произнести гордые слова о величии природы человека, наделившей его дерзновением мысли, о несокрушимости духа и безграничности воли человека к познанию и покорению мирр (Т., I, акт II, сц. 7, стр. 18).
В то же время Фауст, освобожденный от необходимости преодолевать сопротивление реальных противоборствующих сил и от искушения проявлять жестокость, оказывается, в противоположность Тамерлану, подлинно трагическим героем. Трагизм этот — новый, более глубокий, незнакомый до того драматургии английского Возрождения, трагизм внутренних противоречий. В сферу этого нового трагизма вводит Фауста Мефистофель своим мрачным откровением:
О нет, здесь ад, и я всегда в аду.
Иль думаешь, я, зривший лик господен,
Вкушавший радость вечную в раю,
Тысячекратным адом не терзаюсь,
Блаженство безвозвратно потеряв?
Ад, которому обречен Фауст, — это ад утраты внутренней гармонии. Однако едва ли справедливо связывать всю внутреннюю борьбу героя и все идейное содержание трагедии с религиозными исканиями драматурга, как это делают Ю. Эллис-Фермор или П. Кочер.
В антирелигиозных высказываниях Марло, сохранившихся в архивах тайной канцелярии, звучит такая научно обоснованная уверенность в несостоятельности религии, в них чувствуется такой сильный и смелый ум, что представление о рецидивах религиозности с ними мало совместимо. Правда, «безбожные мысли» драматурга мы узнаем из третьих рук — это в доносе шпиона тайной канцелярии Ричарда Бейнса было сказано, что Марло в кружке вольнодумцев делал доклад о несостоятельности религии и утверждал, что «началом религии было желание держать людей в страхе» и что библейские предания о сотворении мира — сказка, так как из них следует, что «Адам жил 6000 лет назад...», в то время как «...индийцы и многие авторы античной древности несомненно писали о временах 16 тысяч лет назад».
Едва ли эти шпионские сообщения — клевета; доносчик сам, разумеется, не мог бы придумать ничего подобного по смелости мысли и научной глубине аргументации. Трудно поверить поэтому, что писатель, мысливший подобным образом, мог посвятить свою трагедию отражению собственных сомнений в верности избранного им пути отречения от потусторонних авторитетов. Этот вопрос, впрочем, мог бы быть решен с большей степенью обоснованности, если бы можно было привлечь для его изучения всю систему образов драмы. Очень важно было бы увидеть, в каких образах воплощал Марло внутреннюю борьбу своего героя, но трагедия в настоящем виде не дает такой возможности. Черти и чудовища из средневекового театра мистерий, персонифицирующие в трагедии грозные силы ада, примитивны и балаганно-комичны, образы эти в их нынешнем виде возникли скорее всего при позднейшей переделке и подновлении драмы, дошедшей до нас, как известно, в сильно искаженном виде. Трагическое звучание «Фауста» навеяно самой народной легендой, но под пером Марло трагизм этот приобретает совершенно новый смысл. Можно предположить, что источник сомнений и терзаний Фауста и неизбежность его трагического конца связаны с утратой самим поэтом безмятежного восприятия мира, с утратой стройной и гармонической концепции утверждения в новом мире нового человека. Знакомство с последующими драмами Марло позволяет предположить, что объективно в этих сомнениях и смутной тревоге звучало зарождающееся разочарование в индивидуализме личности, но несомненно сам драматург еще не пришел к осознанию значения своих колебаний.
Одна важная черта двух первых трагедий Марло подкрепляет предположение о назревающем подспудно в сознании драматурга кризисе индивидуализма — это объективный смысл трагической развязки. В обоих случаях гибель героя делает по существу бесплодной всю его борьбу и все завоевания. Тамерлан негодует, что так много еще на земном шаре обширных стран, «и я должен умереть, а это не завоевано» (Т., II, акт V, сц. 3). Он завещает дело покорения мира своим сыновьям, но драматург не рисует их его достойными наследниками. От них можно ждать, что ради власти они нагромоздят еще горы трупов и прольют моря крови, но мир, открытый и покоренный Тамерланом, они не унаследуют, он ускользнет от них, потому что они не видят его, так что подвиг жизни Тамерлана оказывается безрезультатным.
Так же точно и с гибелью Фауста никому не достается постигнутый им и завоеванный силой его знания прекрасный мир необъятных просторов и бессмертных эстетических и духовных ценностей.
Объективно корни бесперспективности титанических деяний первых героев Марло лежат в их индивидуалистической сущности. В их помыслах целиком отсутствует мысль о конечной цели.
Шаг от «Фауста» к «Мальтийскому еврею» (1589 или 1590) — это отчетливый и глубокий перелом в творческом развитии Марло. Он знаменуется прежде всего перенесением действия драмы в сферу реальной жизни человеческого общества и связанной с этим решительной конкретизацией как темы, так и всей системы образов трагедии. Если в более ранних историко-литературных работах этот факт нередко ускользал от внимания исследователей и, во всяком случае, не получал в их глазах большого значения, то в современном литературоведении творческая эволюция драматурга отмечается единогласно и привлекает пристальное внимание. Современными исследователями сделан ряд интересных и тонких наблюдений относительно особенностей новых драм Марло, верно подмечены характерные черты, знаменующие переход писателя на новый этап творческого развития. П. Кочер с полным основанием прямо противопоставляет более поздние драмы Марло «Тамерлану» и «Фаусту» с их отвлеченным планом. «На долю позднейших драм досталось придать идее человеческого общества ее подлинное значение», — замечает он. — «Мальтийский еврей» начинает этот процесс и воплощает значительную перемену...». Эту перемену исследователь справедливо видит в перенесении действия трагедии в план конкретных общественных отношений: «...атмосфера драмы в целом это атмосфера мира людей, а не некоего иллюзорного мира фантазии. Мы имеем здесь дело с повседневными отношениями с торговлей, религиозной нетерпимостью, местью, мелочной жадностью, политическими кознями и тому подобным». Эта конкретизация всего плана действия подмечается и в ряде других работ. Не ускользают от внимания исследователей и изменения, происходящие в характере героя, в его целях и путях их достижений и, следовательно, как бы в самой теме трагедии. Чрезвычайно точно характеризует этот перелом Бэкелс в своей фундаментальной монографии: «...когда актер, изображающий Макиавелли, вступает на сцену, чтобы произнести пролог, с ним входит тема, новая в произведениях Марло, — государственные дела и лабиринт интриг макиавеллистской «политики», которая снова появляется в «Парижской резне» и в «Эдварде Втором» и которую Марло продолжил бы и дальше, если бы остался в живых... В этих пьесах о политике появляется персонаж нового рода и небывалой еще сложности, марловский злодей, лучше всего воплощенный в Варавве, Гизе ... Но также полностью заметный в младшем Мортимере. Подозрительные, злокозненные, хитрые, зловещие и хладнокровные, эти персонажи непохожи на горячего Тамерлана и колеблющегося Фауста».
Таким образом, в драмах Марло, созданных после «Фауста», все действие переносится из условно абстрагированного плана в гущу реальной жизни человеческого общества. Новые черты появляются и в характерах героев. Герои утрачивают качества идеальной универсальной личности, прямолинейно и дерзновенно прокладывающей себе путь к владычеству над миром, и становятся беспринципными индивидуалистами, жестокими и коварными, готовыми на все во имя удовлетворения своих эгоистических желаний. Изменяется и метод достижения ими своих целей — они преодолевают стоящие перед ними препятствия не в открытом бою, а хитростью и интригами, т. е. теми беспринципными и коварными приемами, которые обобщались в представлении современников Марло понятием «макиавеллистской политики».
Общеизвестно, что «макиавеллизм» в представлении англичан эпохи Возрождения вовсе не совпадал с подлинным содержанием учения флорентийского теоретика государственной власти. «Распространенное недоразумение», которое получило хождение в Англии в 1580-х гг., заключалось, однако, не только в том, что по верной характеристике П. Кочера, Макиавелли рассматривался «...как сторонник любого зла в делах государственных», в то время как на самом деле «он видел конечную цель всякой государственной деятельности скорее в политическом равновесии и мире для страны, чем в личной выгоде для ее государя». «Макиавеллизм» был в сознании англичан конца XIV — начала XVII вв. более широким общеморальным понятием, охватывавшим представление о всякого рода беспринципности в преследовании не только политических, но и любых индивидуалистических целей.
На английской почве такое понимание «макиавеллизма» находило обоснование в самой социальной действительности. Беспринципность индивидуалистической морали и неразборчивость в средствах были присущи реальным новым людям, закладывавшим фундамент общества. Этим неточно истолкованным понятием «макиавеллизм» определялись и обобщались, таким образом, мораль и поведение формирующейся личности.
Марло был, несомненно, человеком пытливого и беспокойного ума. Он стремился к деятельному участию в бурной, противоречивой жизни своего времени. Этой жаждой жизненной активности можно объяснить и его связи в университетские годы с тайной политической агентурой, и весьма вероятное участие в опасных агентурных заданиях, и его отказ от духовного сана, и обращение к театральной деятельности. В то же время окружающая жизнь была для него, несомненно, также предметом глубоких раздумий.
С первых своих самостоятельных творческих шагов он решительно отказался довольствоваться традиционными догмами и проявил критический склад ума.
Вначале, разумеется, предметом критического развенчания оказывались пережившие себя, исторически обреченные идеологические и социальные установления феодального мира. Но также естественно, что, по мере все более глубокого осмысления окружающей действительности, он мог не только уловить конкретные проявления неограниченного индивидуализма нового человека, но и отнестись к нему критически и усомниться в своих юношеских идеалах.
Во всех своих драмах, начиная с «Мальтийского еврея», Марло как бы наблюдает за проявлениями беспредельно раскрепощенной человеческой воли, направленной на ограниченно индивидуалистическую цель. Движение к этой цели совершается отныне в конкретных условиях человеческого общества, в которых индивидуальная воля неизбежно сталкивается с реальными законами или со стремлениями и проявлениями воли других людей. При этом в облике героя проступают характерные жестокие черты беспринципного хищничества, коварного лицемерия, словом, реальные черты нового буржуазного человека, каких создавала во множестве современная Марло эпоха. Вглядываясь в образы героев этих драм, в облики Вараввы, Гиза, Мортимера, трудно не увидеть, что они перестают быть в глазах драматурга положительными героями. Невозможно допустить, что писатель был настолько ослеплен собственным индивидуализмом, что утратил чувство этического и художественного такта и безжалостно обнажил перед зрителем эгоизм, коварство и беспринципность своих героев в наивном любовании ими, а не с целью разоблачения.
Таким образом, в трагедии «Мальтийский еврей» перед зрителем в первый раз раскрывается новая, по сравнению с «Тамерланом» и «Фаустом», картина мира и концепция героя. В образе героя трагедии, богатого купца и банкира Вараввы, многие исследователи не без основания видят фигуру, сходную с Тамерланом и Фаустом, сильную личность, наделенную громадным властолюбием. Он не сразу проявляет себя как жестокий и беспринципный злодей, а становится им в процессе развития действия.
В первой сцене трагедии герой показан упивающимся тем могуществом, которое ему дают деньги. Он любуется своим богатством, говорит о своей любви к деньгам, но его корыстолюбие оказывается несколько оправдано тем, что деньги, дав ему власть, вознаграждают его тем самым за обиды, чинимые над ним в силу национальных и религиозных предрассудков общества. В первом акте трагедии Варавва в сущности пассивен, драматург изображает его в некой статичной ситуации. Действовать он начинает лишь, будучи вынужден к этому враждебными проявлениями окружающих, — он начинает мстить за жестокий произвол мальтийского губернатора Фернезе, беззаконно отнявшего у него все его богатство. Совершая зло сначала из самозащиты, он переходит затем к активным, неспровоцированным жестоким злодеяниям.
Преследование индивидуалистической цели в условиях реального человеческого общества приводит, с неотвратимой последовательностью, к аморализму и жестокости. Путь Вараввы от первых актов мести к злодеяниям внутренне логичен и последователен.
Некоторые историки литературы находят поведение героя непоследовательным и противоречивым. Проводя резкий рубеж между вторым и третьим актами трагедии, они утверждают, что в двух первых Варавва по своей человеческой значительности и поэтическому восприятию мира представляется прямым продолжением ранних героев Марло, тогда как после второго акта он чернит себя гнусными злодеяниями, несовместимыми со сложившимся уже в сознании зрителей моральным обликом.
Однако в сущности никакого резкого нарушения логики развития характера Вараввы в трагедии нет. С самого начала ощущается в ней иная атмосфера, чем в «Тамерлане» и «Фаусте», одушевленных титаническими и возвышенными порывами героев.
С самого начала здесь веет «ветер, который веет по всему свету — жажда золота» (М. е., акт III, стр. 164).
В монологе Вараввы в первой сцене трагедии отражается, на первый взгляд, поэтическое восприятие мира и ощущение его широты и беспредельности возможностей, подобное восприятию Тамерлана и Фауста, однако это впечатление поверхностно, оно создается звучанием названий далеких краев и племен. Поэтому едва ли можно по существу усматривать в последних актах трагедии «снижение поэтичности», по сравнению с первыми, как это делает Бэкелс. Здесь с самого начала нет ничего похожего ни на бескорыстное наслаждение богатством и красотой мира, ни на душевную широту первых героев Марло.
Здесь все расценено и воспринимается с точки зрения материальной выгоды и весь мир превращается в сферу коммерческих сделок:
Что ж до Самнитов и людей царства Уц,
Что купили мои испанские масла и вина Греции,
Так я сгреб в кошелек их жалкие гроши,—
Вот еще забота считать этот мусор!
Добро арабам, что так щедро платят...
Варавва способен повесить ярлычки с ценами на все неисчерпаемое разнообразие и красоту мира, на Тамерлановы «пятидесятиглавые волны Волги», и на «белейшие снега скифских холмов», и на «золотой шар вечного небесного огня». Он говорит с завистливым восхищением о каком-то богатом мавре, который может
... из восточных скал
Невидимый никем богатства добывать
И дома ссыпать в груды перлы словно гальку,
Все даром получать, а продавать на вес...
Его восторг вызывает не красота «опалов огненных, сапфиров, аметистов, топазов, изумрудов, зеленых, как трава...», а их высокая цена. По его мнению, лучше всего драгоценные камни «такой ценности...», что «... одного карата бы достало, чтоб выкупить из плена короля».
Жизнь для Вараввы отнюдь не является обширным полем разнообразных деяний и чувствований: с его точки зрения, наиболее разумный род деятельности для «разумного человека» — коммерция и накопление богатств.
Это только гениальное начало рано оборвавшегося пути. В том, что создано безвременно погибшим драматургом; есть и готовые открытия, и завершенные достижения, и неразвернувшиеся ростки нового, и не решенные до конца догадки, и первые шаги новых поисков: в нем все — движение.
Это особенно чувствуется в той новизне, какой дышит трагедия «Эдуард II». Трудно утверждать, явилось ли это новое следствием обращения к жанру исторической «хроники», обязывавшей к более бережному обращению с воплощаемым в образах историческим материалом, или углубленного проникновения писателя в сущность реальной действительности, или и тем и другим вместе. Несомненно, однако, что в этой драме проявилось более тонкое, понимание сложности и противоречивости жизненных явлений, характеров и поведения людей.
Герои всех остальных драм абсолютны и цельны, их поведение представляет неизменно единую осознанную линию при всем разнообразии, а порой даже и кажущейся противоречивости поступков и приемов достижения стоящих перед ними целей, как мы это наблюдаем хотя бы на примере Вараввы. В «Эдуарде II» впервые отражается понимание относительности и противоречивости целей и средств, сложности и противоречивости человеческих характеров.
Действующие лица драмы неожиданно поворачиваются к зрителю скрытыми ранее чертами, в них раскрываются неизвестные до того или сознательно скрываемые ими качества, они даны, впервые в творчестве Марло, в развитии.
В «Мальтийском еврее» Варавва с его ежеминутными «репликами в сторону» обманывал ими только свои жертвы или избранных им сообщников, но не зрителя, которого он тем самым убеждал в своем, коварстве. Мортимер же в «Эдуарде II» долгое время представляется искренним поборником благородных идей — интересов страны, прав незаслуженно униженной королевы и т. п., — и лишь позднее раскрывается лицемерие его поведения, таившего эгоистические, властолюбивые планы.
Король Эдуард на протяжении почти всей драмы проявляет себя как личность незначительная, слабая, как человек непостоянный в своих привязанностях, настойчивый только в своих эгоистических капризах (например, легкость, с какой он заменяет новым фаворитом убитого наперсника Гевестона), но в последних сценах, заключенный в подземелье, среди унижений и истязаний, он проявляет мужество, стойкость и подлинное человеческое достоинство.
Гевестон производит впечатление расчетливого карьериста в первой же сцене, когда он строит планы, как вернее заручиться привязанностью короля. Его разнузданное высокомерие и дерзость преуспевающего временщика, рассказы его противников о его преступной расточительности в дальнейшем усугубляют это впечатление. Однако в свой смертный час он проявляет неожиданно искреннюю преданность королю, скорбя перед лицом неотвратимой гибели о том, что он умрет, не простившись с Эдуардом. Честность и преданность государственным интересам Кэнта не помогают ему найти правильную линию поведения, и он переметывается из одного лагеря в другой, то присоединяясь к мятежным пэрам, то пытаясь защищать короля.
Расширяется в этой драме, как уже было отмечено, и представление о различных возможностях преломления индивидуалистической психологии в зависимости от различных характеров и положения ее носителей. Все это говорит о новых поисках, новых раздумьях драматурга.
Сделав вопрос о герое центром своего творчества, Кристофер Марло уже самой проблематикой своих драм сделал важный шаг в развитии английской драматургии, непосредственно подготовивший шекспировскую гуманистическую концепцию героя. Одно это уже определяет значительность его роли в развитии театра и литературы английского Возрождения. Однако заслуга его далеко не исчерпывается тем, что он сделал центральную проблему гуманистической идеологии основой драматургии современного ему театра и тем самым как бы наметил путь последующих достижений.
Жизнерадостная шекспировская вера в человека, вера в торжество гуманистического идеала правды и душевной широты над индивидуалистической беспринципностью и расчетливой житейской мудростью и бескрылостью выражает высшее достижение передовой гуманистической мысли в исторических рамках Возрождения. Но для достижения этой вершины нужно было не только охватить все многообразие подлинной социальной действительности эпохи формирующихся буржуазных отношений со всеми ее сложными противоречиями, порождавшими и смелые, окрыленные гуманистические чаяния, но нужно было также найти грань, отделяющую желаемое от реального.
Марло первый сумел уловить эту противоречивость, увидеть подлинное лицо новых хозяев жизни, сорвать с них ореол, которым гуманистическая мечта окружила образ нового человека, и подвергнуть их беспощадному и суровому осуждению во имя гуманистического идеала человечности.
Отказав индивидуалистической личности в праве быть положительным героем своего времени, Марло не успел найти в современном ему обществе тот идеал, который мог бы противостоять эгоистической беспринципности и торжествовать над ней победу.
Л-ра: ЛГПИ им. Герцена. Ученые записки. – Ленинград, 1958. – Т. 158. – С. 55-93.
Произведения
Критика