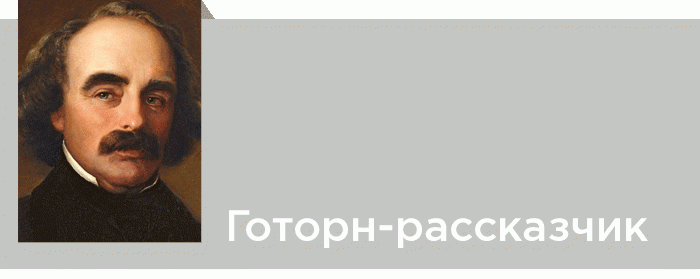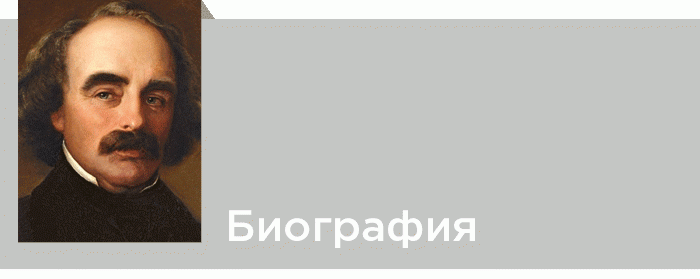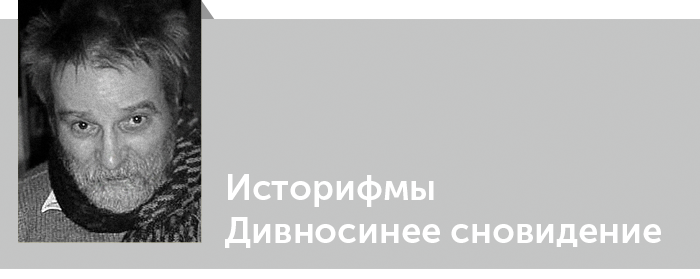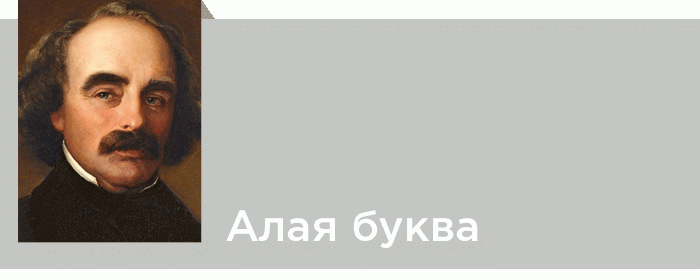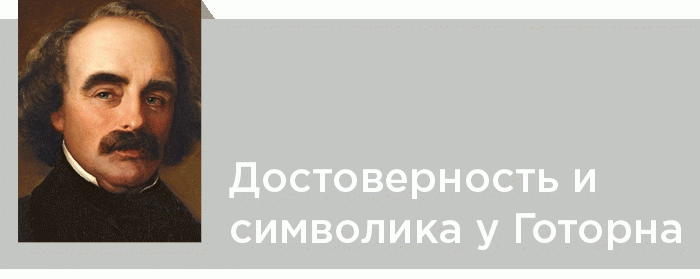Натаниэль Готорн. Дом с семью шпилями

(Отрывок)
1
Старое семейство Пинчеон
Посреди боковой улочки одного из городов Новой Англии стоит поблекший деревянный дом с семью островерхими шпилями, глядящими во все стороны света, и огромным составным дымоходом в центре. Это улочка называется улицей Пинчеон, и родовое поместье принадлежит старинной семье Пинчеон; толстый вяз, пустивший корни у самого крыльца, знакóм всем, кто родился в городе, и зовется Вязом Пинчеонов. Время от времени посещая упомянутый город, я редко упускал возможность свернуть на улицу Пинчеон, чтобы прогуляться в тени этих двух древностей – огромного вяза и потрепанного погодой здания.
Вид этого почтенного особняка всегда казался мне схожим с человеческим лицом, не только несущим на себе следы внешних гроз и солнца, но выражающим также оставленные долгой бренной жизнью следы внутренних перемен. Если рассказать о ней должным образом, она составила бы историю не просто интересную, поучительную и захватывающую, но и настолько необычную, что могла бы показаться результатом художественного вымысла. Однако история эта не обойдется без цепи событий, которые тянутся в прошлое на целых два века, и, записанная в полном своем объеме, потянет на целый том или серию книг меньшего формата, которые благоразумнее было бы посвятить анналам всей Новой Англии того же периода. Следовательно, крайне важно сократить бо́льшую часть семейной истории, которая протекала под крышей старого дома Пинчеонов, известного также как Дом с Семью Шпилями. А потому, после краткого очерка об обстоятельствах, при которых был заложен фундамент этого дома, и беглого взгляда на его причудливый облик, почерневший от преобладающего восточного ветра и уже покрытый тут и там пятнами зеленого мха на крыше и стенах, мы перейдем к истинному сюжету нашей истории в эпоху не столь отдаленную от текущего дня. Однако связь с далеким прошлым сохранится – отсылка к забытым событиям и персонажам, к манерам, чувствам и мнениям, почти полностью канувшим в забвение, – которая, правильно представленная читателю, послужит иллюстрацией того, как много древнего материала таится под свежей штукатуркой новой человеческой жизни. Так из незначительной истины может быть извлечен немаловажный урок: действия минувшего поколения являются семенем, которое может принести – и обязательно принесет – добрые или злые плоды в далекие от его посева годы; и вместе с зернами того, что сами называют требованием момента, они неизменно сеют и желуди, которые прорастут пусть и нескоро, но могут затмить солнце их собственным потомкам.
Дом с Семью Шпилями, каким бы древним он ни выглядел, был не первым обиталищем цивилизованного человека на этом участке земли. Улица Пинчеон ранее носила куда более скромное название – улица Мол, по имени изначального обитателя этой земли, перед коттеджем которого пролегала коровья тропа. Природный источник мягкой и вкусной воды – редкое сокровище на опоясанном морем полуострове, где разместилось поселение пуритан, – ранее побудил Мэттью Мола построить хижину, крытую тростником, именно в этом месте, которое казалось слишком отдаленным от центра деревни. Однако по мере того, как город рос, через тридцать или сорок лет, участок с грубой хибарой внезапно приобрел крайнюю привлекательность в глазах одного выдающегося и облеченного властью человека, и тот начал заявлять крайне убедительные требования на него и большую часть прилегающих к нему земель, подкрепляя требования силой, данной ему законодательной властью. Полковник Пинчеон, заявитель, насколько можно судить по собранным остаткам знаний о нем, был человеком железной целеустремленности. Однако Мэттью Мол, хоть и был простым горожанином, оказался крайне упрям в защите того, что по праву считал своим, и на протяжении нескольких лет успешно оборонял пару акров земли, которую собственными руками отвоевал у дикого леса, превратив в свой сад и обитель. Письменных свидетельств этого раздора не осталось. Наша осведомленность зиждется в основном на семейных воспоминаниях. А потому было бы слишком смело и, возможно, несправедливо принимать окончательное решение в таких условиях, хотя кажется, по крайней мере, сомнительным то, что требования полковника Пинчеона стали чрезмерными в попытках завладеть небольшим наделом Мэттью Мола. Подобное подозрение изрядно подпитывает тот факт, что противостояние столь неравных противников – в период времени, когда, как бы мы его ни прославляли, личное влияние обладало куда большим весом, нежели сейчас, – растянулось на долгие годы и завершилось лишь после смерти обитателя спорного участка земли. Причина его смерти в наши дни оказывает совсем иное влияние на умы живущих, нежели полтора столетия назад. То была смерть, которая вдохнула странный ужас в скромное имя обитателя коттеджа, придав почти религиозную страсть необходимости распахать плугом место его обиталища и стереть его дом из памяти всех живущих.
Иными словами, старый Мэттью Мол был казнен за колдовство. Он стал одной из жертв жуткого заблуждения, которое должно научить нас помимо прочих моральных правил тому, что влиятельные классы – те, кто должен становиться вождями народа, – полностью подвержены всем ошибочным страстям, свойственным разъяренной черни. Священники, судьи, чиновники – самые мудрые, спокойные, благие представители своего времени – оказывались во внутреннем круге у эшафота, громче всех аплодировали кровавым зрелищам и последними сознавались в своих ужасных заблуждениях. В некоторой степени их извиняет полное отсутствие разборчивости в выборе обвиняемых, ведь судили не только бедных и старых, как это обычно бывало при судейском произволе, но людей всех рангов, даже равных себе, своих братьев и жен. Посреди такого вопиющего хаоса неудивительно, что столь незначительный горожанин, как Мол, прошел свой путь мученика до лобного места практически незамеченным в череде своих собратьев-страдальцев. Однако спустя много дней после того, как безумие жуткой эпохи утихло, многие помнили, как громко полковник Пинчеон присоединялся к общему призыву очистить землю от колдовства; и многие не упускали случая прошептать, что рвение, с которым он добивался осуждения Мэттью Мола, таило под собой личную неприязнь. Было общеизвестно, что жертва имела личную вражду с обвинителем, а потому осужденный заявлял, что его преследуют из-за земельного надела. В миг казни – с петлей на шее, глядя на полковника Пинчеона, сидящего на коне и мрачно наблюдающего за происходящим, – Мол обратился к нему с эшафота и произнес пророчество, которое история и семейные разговоры у камина сохранили дословно. «Господь, – сказал умирающий, указывая пальцем на своего врага и вглядываясь с жуткой миной в его бесстрастное лицо, – Господь напоит его кровью!» После смерти обвиненного в колдовстве его скромная хижина упала в руку полковника Пинчеона, как спелое яблоко. Однако, когда стало ясно, что полковник собирается построить семейное поместье – просторное, из массивных дубовых бревен, рассчитанное на то, что в нем будут обитать многие поколения его семьи, – на месте, где когда-то стояла бревенчатая хижина Мэттью Мола, многие сплетники поселения угрюмо качали головами. Не выражая вслух сомнений в том, что могущественный пуританин действовал во время описанных судебных процессов так, как положено человеку праведному и совестливому, они, однако, намекали, что он собрался построить дом на неспокойной могиле. Его поместье будет сложено из тех же бревен, что и хижина мертвого и похороненного колдуна; тем самым он позволит духу последнего проникнуть в новое жилище, в комнаты, куда будущие женихи будут приводить своих невест, где будут рождаться дети Пинчеонов. Ужас и мерзость преступления Мола, память о жутком его наказании очернят свежую штукатурку стен, слишком рано заразят их запахом старости и печали. Зачем же тогда – при том количестве земли вокруг, земли, усыпанной листьями девственного леса, – зачем полковнику Пинчеону предпочитать место, которое уже было проклято?
Но пуританский солдат и член магистрата был не таков, чтоб отступить от единожды продуманного плана; ни ужас перед призраком колдуна, ни любого рода сантименты его не касались. Если бы ему рассказали о плохом запахе, он мог бы прислушаться, однако противостоять злому духу на собственной земле он был вполне готов. Наделенный здравым смыслом, массивным и непоколебимым, как гранитные блоки, скрепленные, словно стальными тисками, упрямством и целеустремленностью, он следовал своему изначальному плану, не придавая значения преградам. Для любого рода щепетильности, свойственной более тонким натурам, полковник, как и большинство представителей его поколения и происхождения, был непробиваем. А потому он копал погреб и закладывал глубокий фундамент для будущего поместья на том самом квадрате земли, где сорок лет назад Мэттью Мол впервые сметал опавшие листья. Интересным и, по мнению некоторых, зловещим признаком стало то, что вскоре после начала строительных работ вода в вышеупомянутом источнике совершенно утратила вкус и чистоту. Возможно, при рытье нового подвала повредили родник, или на то была более туманная причина, но вода в колодце Мола, как продолжали его называть, стала жесткой и солоноватой. Такой она остается и по сей день, и любая живущая неподалеку старуха заверит вас, что она наградит расстройством кишечника всех, кто попробует утолить ею жажду.
Читатель может посчитать странным, что главным плотником на новой стройке оказался не кто иной, как сын того самого человека, чью мертвую хватку на этой почве сумел разжать магистрат. Вполне вероятно, что он был лучшим работником своего времени, или, возможно, полковник если и не решил пойти на уловку, то руководствовался неким более благородным чувством, открыто отрицая враждебность по отношению к наследнику поверженного противника. К тому же это не противоречит общей жесткости и равнодушию эпохи, в которой сын вынужден был зарабатывать честный пенни, или, точнее, полновесный кошель серебряных фунтов, у смертного врага своего отца. Так или иначе, Томас Мол стал архитектором Дома с Семью Шпилями и выполнял свой долг столь добросовестно, что сколоченные его руками бревна до сих пор держатся вместе.
Итак, великий дом был построен – столь знакомый автору по воспоминаниям, ведь с самого детства этот объект вызывал в нем любопытство: и как образец величественной архитектуры давно минувших веков, и как место событий куда более любопытных, чем могли бы произойти в одном из серых феодальных замков, – знакомый именно таким, пожелтевшим и ветхим от старости. И тем сложнее было представить яркую новизну, с которой он впервые встретил свой рассвет. Впечатления от его нынешнего состояния, отдаленного от того дня на сто шестьдесят лет, неизбежно затмевают картину, которую он являл собой в то утро, когда влиятельный пуританин пригласил весь город на окончание строительства. Церемония освящения, праздничная, равно как и религиозная, должна была состояться в тот день. После молитвы и проповеди преподобного мистера Хиггинсона состоялось хоровое пение псалмов, во многом вдохновляемое элем, сидром, вином и бренди, которые лились рекой; ожидали также целого быка, зажаренного на вертеле, или, по крайней мере, жаркого такого же веса, но разрезанного на более доступные порции. Олень, застреленный миль за двадцать от дома, был превращен в огромное количество мясных пирогов. Треска весом в шестьдесят фунтов, пойманная в заливе, растворилась в густом бульоне рыбной похлебки. Иными словами, дымоход нового дома, исторгая густой кухонный дым, широко разносил запах мяса, птицы, рыбы, вкусно приправленных пряными травами и луком. Сам запах подобного праздника, пробираясь в ноздри людей, становился приглашением и аперитивом.
Улицу Мол, ныне улицу Пинчеон, как более пристало ее называть, в назначенный час запрудил народ, словно проход к церкви незадолго до проповеди. Все по мере приближения смотрели вверх, на впечатляющее здание, которое отныне занимало достойное место в ряду человеческих обиталищ. Оно стояло чуть в отдалении от улицы, но то была гордость, а не смирение. Весь видимый его фасад был украшен причудливыми фигурами, порождениями гротескного готического воображения, нарисованными или вылепленными из блестящей штукатурки – смеси извести, гальки и битого стекла, покрывавшей деревянные стены снаружи. С каждой стороны дома в небо поднимался один из семи шпилей, представляя собой единство частей здания, дышащего одним-единственным огромным дымоходом. Решетки закрывали окна, крошечные ромбовидные стекла которых пропускали свет в комнаты и коридор, затененные вторым этажом, далеко выступавшим за фундамент, сам же второй этаж уступал третьему, что создавало задумчивый полумрак в комнатах нижнего этажа. Резные деревянные шары украшали места соединения этажей. Небольшие кованые спирали венчали каждый из семи шпилей. На треугольной части шпиля, глядевшего в сторону улицы, находился циферблат, установленный в то самое утро, и солнце высвечивало на нем первый яркий час истории, которой не суждено было сохранить свою яркость. Все вокруг было усыпано стружкой, щепками, черепицей, разбитыми половинками кирпича – это, в сочетании с недавно потревоженной землей, на которой еще не успела вырасти трава, производило впечатление странной новизны, столь подходящее дому, еще не успевшему стать привычным и повседневным.
Главный вход, шириной почти равный дверям церкви, находился в углублении между двумя шпилями фасада, и был прикрыт навесом, под которым установили скамьи. Под аркой входа на еще не стертом пороге теперь топтались священник, старейшины, члены магистрата, дьяконы и вся аристократия города, если не округа. Вокруг толпились представители низших классов, которые вели себя столь же свободно, но подавляли аристократию количеством. В самой арке, однако, стояли двое слуг; они указывали гостям направление в сторону кухни или приглашали в более пристойные помещения – равно приветливые со всеми, но все же отмеривавшие степень приветливости в зависимости от положения гостя. Бархатные одежды темных цветов, но богатой отделки, крахмальные пояса и воротники, вышитые перчатки, аккуратные бороды, выражения лиц и величественность осанки позволяли с легкостью отличить почтенных джентльменов той эпохи от купцов или рабочих в кожаных камзолах, с восхищением глазевших на дом, который сами же помогали возводить.
Однако было одно неутешительное обстоятельство, вызывавшее с трудом скрываемое недовольство у некоторых самых пунктуальных гостей. Основатель этого роскошного особняка – джентльмен, известный крайним благородством и выдающейся вежливостью манер, – уж точно должен был стоять в главном зале и первым приветствовать столь значительных персон на своем скромном празднике. Однако до сих пор его не видели и даже самым почтенным гостям не удалось с ним повидаться. Подобная медлительность со стороны полковника Пинчеона стала совершенно неприемлема, когда появилось второе лицо провинции, а церемония приветствия все не начиналась. Лейтенант-губернатор, визит которого с почетом и благоговением ожидался в тот день, спешился, помог своей леди спуститься с дамского седла, пересек порог полковника и был встречен всего лишь домовым управляющим.
Этот последний – седовласый мужчина с тихими и безупречными манерами – нашел необходимым объяснить, что хозяин дома до сих пор остается в кабинете, куда удалился около часа назад, пожелав, чтобы его не беспокоили.
– Ты разве не видишь, приятель, – сказал старший шериф графства, отводя слугу в сторону, – что перед тобой не менее чем лейтенант-губернатор? Немедленно позови полковника Пинчеона! Я знаю, что он этим утром получил письма из Англии, а за их чтением и осмыслением можно провести больше часа, того не заметив. Но он будет крайне недоволен, поверь мне, если ты заставишь его проявить невежливость по отношению к одному из наших главных правителей, тому, кто, можно сказать, представляет короля Уильяма в отсутствие самого губернатора. Немедленно позови хозяина!
– Нет, прошу, ваша милость, – ответил слуга в замешательстве, но все же с медлительностью, ясно указывавшей на жесткий и тяжелый характер полковника Пинчеона. – Мой господин отдал очень четкий приказ, и, как известно вашей милости, он не прощает непослушания тем, кто обязан ему своим жалованием. Пусть кто угодно откроет ту дверь, я не смею, хотя одного голоса губернатора достаточно было бы убедить меня это сделать!
– Вздор, вздор, господин старший шериф! – воскликнул лейтенант-губернатор, который услышал этот разговор и чувствовал свое высокое положение достаточно сильно, чтобы не беспокоиться о недостатке почтения. – Я возьму это дело в собственные руки. Пришло время доброму полковнику выйти и поприветствовать друзей, иначе нам придется заключить, что он слегка увлекся канарской мальвазией, пытаясь выбрать, который бочонок лучше всего подойдет к столу в этот славный день! Но раз уж он настолько запоздал, я сам ему напомню о празднике!
С этими словами, так нарочито топая своими роскошными сапогами для верховой езды, что звук наверняка был слышен даже в самом дальнем из семи шпилей, он приблизился к двери, указанной слугой, и заставил новую панель завибрировать в ответ на громкий размашистый стук. Затем, с улыбкой обернувшись к зрителям, ждал ответа. Которого, однако, не последовало, и он постучал снова, все с тем же неутешительным результатом. После чего, поддавшись холерическому своему темпераменту, лейтенант-губернатор поднял тяжелую рукоять своего меча и принялся колотить ею по двери так громко, что присутствующие зашептались о том, что такой шум способен потревожить и мертвого. Как бы то ни было, разбудить полковника Пинчеона не удалось. Когда затихли отголоски шума, тишина, повисшая в доме, была глубокой, мрачной и давящей, несмотря на то что языки многих гостей уже изрядно распустились после украдкой выпитых пары-тройки кубков вина.
– Странно, поистине! Очень странно! – воскликнул лейтенант-губернатор, перестав улыбаться и тревожно нахмурившись. – Но, видя, как наш хозяин подает отличный пример пренебрежения правилами, я также отброшу их в сторону и позволю себе нарушить его уединение.
Он попытался открыть дверь, которая поддалась под его рукой, а затем широко распахнулась от внезапного порыва ветра, который с громким вздохом пронесся от входной двери по всем коридорам и комнатам нового дома. Он прошелестел шелковыми одеяниями дам, всколыхнул кудряшки на париках джентльменов, встряхнул занавеси и тюль в окнах спален, заставил все живое напрячься и в то же время застыть. Тень потрясения и почти испуганного предвкушения – никто не знал причин того и другого – одновременно накрыла всех присутствующих.
Они тянулись, однако, к уже открытой двери, заставляя лейтенанта-губернатора войти в нее первым под натиском их любопытства. С первого взгляда они не заметили ничего необычного: красиво обставленная комната среднего размера, слегка затененная занавесями, книги на полках, большая карта на стене, весьма похожий портрет полковника Пинчеона, а под портретом в дубовом кресле с подлокотниками – сам полковник с пером в руке. Письма, пергаменты и чистые листы бумаги лежали на столе перед ним. Он, казалось, смотрел на любопытную толпу, во главе которой стоял лейтенант-губернатор, с удивлением, если не с возмущением той наглостью, с какой они нарушили пределы его личного кабинета.
Маленький мальчик – внук полковника, единственное человеческое существо, которое когда-либо осмеливалось проявить к нему фамильярность, – пробрался между гостями и побежал к сидящей фигуре, но на полпути остановился и закричал от ужаса. Общество, дрожащее, как лист на ветру, в едином порыве шагнуло ближе и осознало, как неестественно застыл взгляд полковника и что на его воротнике – кровь, пропитавшая всю его седую бороду. Слишком поздно было пытаться помочь. Пуританин с железным сердцем, неустанный обвинитель, хваткий и волевой полковник был мертв! Мертв, в своем новом доме! Остались слухи, достойные упоминания лишь для того, чтобы придать сверхъестественного ужаса сцене, и без того достаточно мрачной. Предание той поры гласило, что среди гостей прозвучал голос, похожий на голос старого Мэттью Мола, казненного колдуна: «Господь напоил его кровью!»
Итак, самым первым был гость – единственный гость, который рано или поздно, но неизменно находит путь в любое человеческое жилище, – и в этом случае Смерть рано переступила порог Дома с Семью Шпилями.
Внезапная и таинственная кончина полковника наделала много шума в тот день. Возникло множество слухов, и некоторые из них смутно доносятся и до наших дней: о том, что призрак совершил злодеяние, о том, что на горле полковника были следы пальцев и кровавая ладонь отпечаталась на крахмальном воротнике и что подстриженная борода была взъерошена и скручена, словно ее яростно хватали и тянули. Ходил также слух, что решетчатое окно возле кресла полковника было распахнуто и всего за несколько минут до рокового открытия кто-то видел человеческую фигуру, спускавшуюся по садовой решетке позади дома. Но было бы слишком безрассудно полагаться на истории такого рода, что обязательно возникают вокруг подобных событий и которые, как в данном случае, порой живут еще много веков, словно поганки, продолжающие расти на месте, где давным-давно сгнил и растворился в земле древесный ствол. С нашей же стороны, мы признаем в них ровно столько правды, сколько и в упоминании руки скелета, которую лейтенант-губернатор якобы увидел на горле полковника и которая исчезла, стоило ему подойти ближе. Наверняка известно лишь то, что над телом покойного совещались и спорили доктора. Один – по имени Джон Суиннертон, – судя по всему, весьма образованный, придерживался мнения, если мы правильно растолковали его мудреные термины, что полковник скончался от апоплексического удара. Его собратья по профессии имели собственные гипотезы, той или иной степени уместности, но выражались столь запутанно и таинственно, что, это если и не вызывало вопросов у их коллег, наверняка приводило в полное замешательство необразованного слушателя их мнений. Члены коллегии при коронере, осмотрев тело и будучи разумными людьми, огласили неопровержимый вердикт: «Внезапная смерть!»
Поистине сложно было представить, что возникнут серьезные подозрения в убийстве или же малейшие основания для обвинения в содеянном любого отдельно взятого присутствующего. Положение, богатство и выдающаяся личность покойного должны были стать причиной тщательного расследования всех неясных обстоятельств. Однако в документах ни о каком расследовании не упоминается, а потому мы смело можем предположить, что оно не проводилось. Предания – которые порой доносят правду, упущенную историей, но куда чаще являются лишь нелепыми толками, которые раньше рассказывались у каминов, а в наше время наполняют газеты, – предания виновны во всех расхождениях фактов. В прощальной проповеди на похоронах полковника Пинчеона, которая была опубликована и дошла до наших дней, преподобный мистер Хиггинсон упоминает в числе множества добродетелей выдающегося покойного и счастливую своевременность его смерти. Полковник выполнил свой долг – достиг высочайшего успеха, род его и будущие поколения обрели достойную основу под ногами и надежную крышу над головой на много веков вперед; какой же шаг оставался столь доброму человеку, кроме последнего шага с грешной земли к золотым вратам Неба? Благочестивый священник наверняка выбрал бы иные слова, будь у него хоть малейшее подозрение в том, что полковник отошел в мир иной не по собственной воле, а по воле жестокого убийцы.
Семейство полковника Пинчеона на момент его смерти, казалось, было обеспечено состоянием, достаточным для безбедного существования при всей нестабильности человеческого положения. И можно было смело предположить, что течение времени скорее преумножит и укрепит их процветание, нежели истощит и уничтожит. Ведь его сын и наследник не только немедленно вступил в права владения богатым поместьем, но и, как было известно, благодаря своему мужеству в боях с индейцами получил в безвозмездный дар от законодательного собрания немалый, пока еще не исследованный и не измеренный участок восточных земель. Эти владения – которые вполне поддавались почти точному измерению – составляли большую часть того, что ныне известно как округ Уолдо в штате Мэн, и по европейским меркам превышали размеры герцогства, если не земель наследного принца. Когда непроходимый лес, в те времена все еще покрывавший его владения, уступил бы – а он неминуемо должен был уступить, пусть даже многие годы спустя, – золотому плодородию человеческой культуры, он стал бы источником неисчислимого богатства наследников Пинчеонов. Проживи полковник еще несколько недель, он наверняка употребил бы свое политическое влияние и мощные связи дома и за морем, чтобы завершить все необходимые приготовления для реализации этого плана. Однако, несмотря на поздравительную эпитафию доброго мистера Хиггинсона, то был единственный шаг, который полковник Пинчеон, расчетливый и дальновидный человек, не успел довести до конца. Для дела перспективной территории, он без сомнения, умер слишком рано. Сыну полковника не хватало не только выдающегося положения отца, но таланта и силы характера, чтобы достичь того же, потому он не представлял политического интереса, а чистая справедливость или законность притязаний после кончины полковника оказались не столь очевидны, как при его жизни. Некое связующее звено выпало из цепи событий, и его никто не сумел найти.
Пинчеоны искренне старались, не только тогда, но и в разные периоды практически всего следующего века, получить то, на что так упрямо продолжали заявлять свои права. Но с течением времени территория была частично пожалована более привилегированным людям, частично расчищена и освоена новыми поселенцами. Эти последние, заслышав о Пинчеонах, смеялись над самой мыслью о том, что человека можно наделить правом – силой лишь заплесневелых пергаментов, поблекшими подписями губернаторов и законников, давно почивших в забвении, – на земли, которые они или их отцы отвоевывали шаг за шагом своим собственным тяжким трудом. Эта неоправданная заявка, следовательно, существовала лишь в виде передающегося из поколения в поколение абсурдного заблуждения по поводу важности их семьи, крайне характерного для Пинчеонов. Самые бедные члены семейства могли благодаря этому чувствовать себя так, словно унаследовали дворянство и вскоре получат богатство принцев, способное подтвердить титул. В лучших представителях рода эта особенность проявлялась в поистине идеальной возвышенности над грубой материей жизни земной, при этом не лишая их истинно ценных качеств. У менее благородных собратьев упоминание о наследии лишь увеличивало склонность к зависимости и неповоротливости и заражало своих жертв тенью надежды избавиться от усилий в ожидании реализации их мечты. Заявление о правах уже стерлись из памяти общества, но еще годы и годы спустя Пинчеоны сверялись с древней картой полковника, на которой весь округ Уолдо был отображен в первозданной лесистой дикости. Там, где древний картограф нарисовал леса, озера и реки, они отмечали расчищенные участки, точками обозначали селения и города, подсчитывая постоянно растущую ценность всей территории, словно все еще было возможно сформировать для себя королевство.
Почти в каждом поколении, однако, случался один потомок, одаренный порцией острого ума, жесткости и той самой практической энергии, которой так отличался достойный предок. Его характер можно было проследить в той же четкости и мере, словно сам полковник, пусть и слегка измельчавший, был награжден своего рода прерывистым бессмертием на земле. В две или три эпохи, когда состояние семьи истощалось, подобное проявление наследных качеств в представителе их рода возбуждало традиционные слухи в обществе и среди своих: «Вот снова ожил старый Пинчеон! Теперь Дом с Семью Шпилями поменяет черепицу!» От отца к сыну Пинчеоны все так же наследовали странную преданность родовому поместью. Однако по тем или иным причинам и по соображениям, которые слишком плохо обоснованы, чтобы предать их бумаге, писатель искренне верит, что многие, если не большинство, владельцев этого особняка страдали от моральных сомнений в праве им обладать. С точки зрения закона право было безупречно, однако страх перед Мэттью Молом тяжкими шагами следовал из прошлого в грядущее, вызывая муки совести у Пинчеонов. Если так, то нам не остается ничего иного, как задаться жутким вопросом: не каждый ли наследник владений – знающий о плохом и не желающий исправить его, – совершал заново великий проступок своего предка, навлекая на себя те же последствия? А если предположенное нами – правда, то не искренней было бы сказать, что семейство Пинчеон унаследовало великое несчастье вместо богатства?
Мы уже намекали, что не будем отслеживать всю историю семейства Пинчеон и его непрерывной связи с Домом с Семью Шпилями; не будем также показывать, словно в волшебном фонаре, как ветшал и поддавался течению лет сам почтенный их особняк. Что же касается внутренней его жизни, то большое мутное зеркало раньше висело в одной из комнат и, по преданиям, таило в своих глубинах тени всех, кто когда-либо в нем отражался, – и самого старого полковника, и многих его правнуков; некоторых – в старинных детских платьицах, иных – в расцвете женской красоты и мужской силы или же покрытых морщинками зимней поры жизни. Знай мы секрет этого зеркала, то с удовольствием сели бы перед ним, перенося откровения на страницы книги. Но было и предание, для которого крайне сложно найти основание: о том, что наследники Мэттью Мола также обладают связью с загадкой зеркала и что каким-то волшебным образом они могут извлечь из глубин стекла все образы покойных Пинчеонов, но не такими, как видел их мир, и не в лучшие и самые счастливые их часы, но совершающими вновь и вновь какое-то грешное дело или в период самых жестоких своих страданий. Без всяких сомнений, воображение общества долго не могло отвлечься от дел старого пуританина Пинчеона и колдуна Мола, проклятье которого слетело с эшафота в людскую память и, что не менее важно, стало частью наследия Пинчеонов. Стоило одному из семьи всего лишь прочистить горло, и рядом стоящий скорее всего тут же шептал, отчасти серьезно, отчасти в шутку: «Он будет напоен кровью Мола!» Внезапная смерть Пинчеона, случившая сотню лет назад при таинственных обстоятельствах, лишь усилила общее мнение по данному вопросу. Более того, считали зловещим и мерзким то, что портрет полковника Пинчеона – согласно, как говорили, его завещанию, – так и остался висеть в комнате, где он погиб. Жесткие, неумолимые черты покойника, казалось, оказывали злобное влияние на его потомков, и столь темной была его тень, что никакие благие мысли и цели не могли расцвести у его портрета.
Внимательный ум не обманется суевериями, если мы метафорически скажем, что призрак почившего предка – и, возможно, это является частью его наказания – зачастую обречен становиться злым гением для своей семьи.
Иными словами и вкратце, Пинчеоны почти два века были подвержены внешним невзгодам куда меньше, чем большинство иных семей Новой Англии в течение того же периода времени. Обладая крайне выраженными родовыми чертами, они все же переняли и общие свойства маленького сообщества, в котором обитали: города, известного своими скромными, прямыми, порядочными и любящими свой дом жителями, симпатии которых отличались некоторой ограниченностью, но все же охватывали время от времени крайне странных людей и куда более странные обстоятельства, чем в иных краях. Во время Революции Пинчеон той эпохи принял сторону короля, стал беглецом, но был прощен и вернулся как раз вовремя, чтобы спасти Дом с Семью Шпилями от конфискации. За последние семьдесят лет самым выдающимся событием в семейной хронике Пинчеонов стала самая большая беда, которая только может постичь семью: жестокая смерть – как было решено – одного члена рода от руки другого. Определенные обстоятельства этого фатального события неизменно указывали на племянника убитого. Юношу допросили и обвинили в убийстве, но либо случайная природа доказательств, либо, возможно, неопределенные сомнения одного из обвинителей, либо – аргумент, который в республике обрел больший вес, чем когда-либо при монархии, – высокое положение и политическое влияние знакомых преступника позволили заменить смертную казнь пожизненным заключением. Говорят, что это случилось примерно за тридцать лет до начала нашего повествования. А позже пошли слухи (которым верили немногие, но которыми очень интересовались несколько человек) о том, что этот давно почивший преступник по той или иной причине был возвращен живым из могилы.
Необходимо отметить парой слов и жертву того почти позабытого убийства. Он был старым холостяком и обладателем большого состояния помимо дома и родового поместья, включавшего остатки старинной собственности Пинчеонов. Постоянно пребывая в эксцентричном или меланхоличном расположении духа и много времени проводя за изучением старых записей и прослушиванием семейных легенд, он, по свидетельствам очевидцев, пришел к заключению, что Мэттью Мола, колдуна, совершенно несправедливо лишили владений и жизни. А раз уж он, старый холостяк, оказался владельцем нечестно нажитого участка земли – запятнанного старой, глубоко въевшейся кровью, которую все еще может учуять совесть, – возник вопрос, не нужно ли ему, пусть даже с сильным запозданием, возместить Молам нанесенные убытки. Для человека, настолько живущего в прошлом и так мало в настоящем, как этот одинокий старый холостяк, любящий древности, полтора века не казались таким уж значительным периодом, чтоб помешать исправлению причиненного зла. Те, кто лучше всего его знал, искренне верили, что старик действительно решился на крайне эксцентричный шаг – отдать Дом с Семью Шпилями потомку Мэттью Мола, к невыразимому ужасу собственных родственников, заподозривших в старике эту решимость. Их усилия возымели свой эффект, и старик на время забыл о своем решении, но все боялись, что после смерти, в своем завещании он выполнит обещание, которому так успешно мешали при его жизни. Но не бывает человеческого поступка более редкого, несмотря на все несправедливости и провокации, чем лишение собственных родственников наследства. Люди могут любить других куда сильней, чем почитать родственников, – к последним они могут питать отвращение вплоть до ненависти, – и все же на пороге смерти оживает сильнейшее ощущение родства, которое заставляет завещателя отписывать свое владение следующему в роду, согласно привычке столь древней, что она кажется ровесницей самой природы. Во всех Пинчеонах это чувство жило почти с одержимой силой. Честность старого холостяка была не в силах одолеть традиции, и, соответственно, после его смерти семейный дом и большая часть богатств перешла во владение следующего в роду.
То был племянник, кузен несчастного юноши, которого обвинили в убийстве дяди. Новый наследник в период своего вступления в права считался крайне безалаберным юнцом, однако после он смог превратиться в чрезвычайно респектабельного члена общества. Поистине, он воплотил больше наследных качеств и поднялся в свете гораздо выше, нежели удавалось любому из их рода со времен прародителя-пуританина. В расцвете своих сил он посвятил себя изучению закона и проявил врожденную расположенность к государственной службе, впечатленный ситуацией в давнем неправедном суде, что позволило ему получить, пусть и не самым честным путем, крайне желанное звание судьи. Позже он занялся политикой и прослужил два созыва Конгресса, став выдающейся фигурой в обеих палатах законодательных органов штата. Судья Пинчеон, без сомнения, был гордостью своего рода. Он выстроил себе усадьбу в нескольких милях от родного города и проводил бóльшую часть времени, свободного от служения обществу, в образцовой добродетели и благочестии – так, по крайней мере, описывали его жизнь газеты накануне выборов, – как пристало христианину, доброму горожанину, садоводу и джентльмену.
В свете процветания судьи поблекли все немногие оставшиеся Пичнеоны. В отношении естественного прироста его род не преуспел, скорее уж казалось, что семейство вымирает. Оставшимися живыми его представителями были, во-первых, сам судья, единственный его выживший сын, путешествующий по Европе, затем узник, упомянутый ранее, уже тридцать лет пребывающий в тюрьме, и сестра последнего, которая обитала, крайне уединенно, в Доме с Семью Шпилями, полученном в пожизненное пользование согласно воле старого холостяка. Ее считали очень бедной, но это, казалось, был ее добровольный обет, поскольку ее богатый кузен, судья, неоднократно предлагал ей все жизненные блага – и в старом доме, и в его собственном новом жилище. Последним и самым младшим представителем рода Пинчеонов была деревенская девушка семнадцати лет, дочь еще одного кузена судьи, который женился на юной женщине без рода и собственности и рано скончался в полной бедности. Его вдова недавно снова вышла замуж.
Что же касается наследников Мэттью Мола, то его род считался уже вымершим. Довольно долгий период времени после гонений на ведьм Молы продолжали жить в городе, где их прародитель встретил столь несправедливую смерть. Судя по всему, они были тихими, честными, добропорядочными людьми и не таили зла ни на отдельных людей, ни на общество, причинившее им столько горя, и, даже если у семейного камина от отцов к детям передавалась враждебность воспоминаний о судьбе колдуна и утраченном наследии, открыто и на людях Молы ни разу ее не выражали. Они вели себя так, словно забыли, что Дом с Семью Шпилями тяжело опирается на основание, когда-то по праву принадлежавшее им. Было нечто настолько массивное, стабильное и почти непреодолимо располагающее к себе во внешней демонстрации высокого положения и богатства, словно само их существование обеспечивало им все необходимые права; столь убедительна была подтасовка права, что мало кто из бедных и незнатных находил в себе моральные силы сомневаться в нем, пусть даже в глубине души. То же происходит и в наше время – при том, что множество древних предрассудков уже отброшено, а в предшествовавшие Революции дни никто не сомневался, что аристократия победит, а чернь снова будет унижена. Следовательно, Молы так или иначе хранили свое недовольство в глубинах сердца. Они в целом были крайне бедны, равны в своем плебейском происхождении и прозябании, работали с безуспешным усердием мастеровыми, нанимались на верфи, ходили в море мачтовыми матросами, жили в разных местах города, работая за аренду жилья, и заканчивали свои дни в приютах для неимущих. И наконец, долго ковыляя по краю прозрачной лужи забытья, они погрузились в последнюю обитель, которая рано или поздно ждет членов любой семьи, не важно, богатой или нищей. Спустя тридцать лет ни городские записи, ни могильный камень, ни воспоминания и знания людей не сохранили и следа потомков Мэттью Мола. Его кровь могла еще где-то существовать, но медленное ее течение, столь видимое в далеком прошлом, совершенно не нарушало границ настоящего.
Поскольку истинный род не подавал о себе вестей, Молами начали называть иных людей – не по прямой линии семьи, но больше по эффекту, который можно было скорее ощутить, нежели облечь в слова: по врожденной сдержанности. Их компаньоны или те, кто стремился стать таковыми, вскоре отмечали этот словно бы магический круг, ограждавший Молов, защиту или заклятие отстраненности, которые, вне зависимости от внешней искренности и способности к доброй дружбе, было невозможно переступить другим. То была невыразимая словами странность, которая, изолируя их от людской помощи, способствовала постоянным жизненным лишениям. Свою роль в этой отстраненности определенно сыграло их единственное наследие – чувство отвращения и суеверного ужаса, с которым горожане, даже очнувшись от безумия, продолжали относиться к памяти о тех, кого заклеймили колдунами. Рваный плащ старого Мэттью Мола упал на его детей. По слухам, все они унаследовали таинственные способности, и глаза членов их семейства, по тем же слухам, обладали странной силой. В числе прочих бесполезных владений и привилегий, которыми их награждали сплетни, была способность влиять на людские сны. Если эти слухи не врали, Пинчеоны, столь надменно прогуливающиеся по улицам родного города при свете дня, стоило им погрузиться в суматошные области сна, превращались в рабов плебеев Молов. Современная психология, возможно, низвела бы эти таинственные чары до обычной своей системы, не отрицая их как совершенную выдумку.
Еще немного описаний, посвященных современной поре особняка Пинчеонов, – и эта вступительная глава подойдет к концу. Улица, которая когда-то заканчивалась его величественными шпилями, давно перестала быть фешенебельной частью города. Пусть старое здание и было окружено менее древними обиталищами, все они были маленькими, деревянными и крайне типичными для трудолюбивой бедноты. Однако, без сомнения, история человеческого существования велась и в них, лишь без картинности, без внешних проявлений, которые могли бы привлечь к ним симпатию или воображение. Что же до старого здания, стоящего в центре нашей истории, его доски, черепица, осыпающаяся штукатурка и даже огромный составной дымоход посредине, казалось, содержали в себе самые худшие и низкие элементы бытия. Столько различного человеческого опыта дом хранил – столько страданий и столько радостей, – что сами бревна его казались скользкими, как плачущее сердце. Дом и был похож на большое человеческое сердце, он жил собственной жизнью, полный богатых и мрачных воспоминаний.
Глубокая тень второго этажа придавала дому настолько медитативный вид, что невозможно было пройти мимо него и не задуматься, сколько же секретов там скрыто, сколько поучительных историй произошло. Перед домом, на самом краю грунтовой тропинки, рос Вяз Пинчеонов, который, как и положено подобным деревьям, мог с полным правом носить название гигантского. Он был посажен праправнуком первого Пинчеона и, хоть возраст его и насчитывал уже восемьдесят лет, а то и приближался к веку, до сих сохранял силу и ширину густой кроны, которая затеняла улицу от края до края и нависала над семью шпилями, подметая крышу резными листьями. Вяз украшал старое здание, словно делая его частью самой Природы. Улица за прошедшие сорок лет стала шире, и шпиль над фронтоном теперь оказался на самой ее оси. По обе стороны тянулись изломанные остатки деревянного забора, в прорехи которого можно было увидеть заросший травой двор и, в особенности по краям здания, огромное количество лопухов с листьями длиной в два или три фута. За домом, похоже, был сад, когда-то, без сомнения, обширный, но теперь потесненный другими участками или отрезанный пристройками и домами с другой стороны улицы. Было бы ошибкой, легкой, но непростительной, забыть о зеленом мхе, который давно уже собирался вокруг окон и на склонах крыш, и о том, что читателю стоило бы направить свой взор на заросли не сорняков, но цветущих растений, которые колыхались в воздухе неподалеку от общей трубы, в углублении между двумя шпилями. Их называли Букетом Эллис. Предания гласили, что некая Эллис Пинчеон шутки ради бросала туда семена и что уличная пыль на прогнившей крыше со временем образовала своего рода грунт, в котором они расцвели, когда Эллис давно уже отдыхала в могиле. Однако цветы могли попасть туда по печальной милости матери Природы, усыновившей этот одинокий, разлагающийся, грязный и потрепанный старый дом семейства Пинчеонов, и теперь вечно возвращающееся лето изо всех сил старалось сгладить печаль старого дома своей нежной красотой.
Была еще одна черта, крайне важная для повествования, которую мы пока не сообщали, чтобы не нарушать чудесного и романтического впечатления от величия дома, какое так хотелось бы передать в этом наброске. Под первым шпилем и хмурой бровью второго этажа, развернутыми к улице, располагалась дверь лавочки, разделенная горизонтальной чертой так, что верхняя ее половина становилась окном, – подобное часто можно увидеть в старых зданиях. Именно эта дверь вызывала у нынешней обитательницы дома Пинчеонов немалый ужас, унаследованный от некоторых предшественников.
Материя эта была крайне тонкой и деликатной, но раз уж читателя нужно посвятить в этот секрет, то он поймет, что около века назад глава семейства Пинчеон внезапно столкнулся с серьезными финансовыми затруднениями. Тот человек (именовавший себя джентльменом) едва ли обладал талантами в торговле, но вместо того, чтобы искать должности и обратиться к милости короля или правящего губернатора, либо пытаться получить наследственные восточные земли, он не придумал лучшего пути к богатству, нежели прорезать торговую дверь в стене своего старинного обиталища. То было обычаем времени: купцы тоже складировали товар и вели торговлю в собственных домах. Однако было что-то жалкое и мелочное в том, как этот старый Пинчеон пытался наладить свои коммерческие дела. Шептались, что собственными руками, не сняв пышных манжет, он отсчитывал сдачу с шиллинга и вертел в пальцах полупенни, убеждаясь, что монета не фальшивая. Вне всяческих сомнений, в жилах его текла кровь мелкого лавочника, каким бы странным путем она туда ни попала.
Немедленно после его смерти дверь магазина была заперта, заколочена гвоздями и брусьями, и вплоть до периода нашей истории наверняка ни разу не открывалась. Старая конторка, полки и другой интерьер маленькой лавочки оставались такими же, какими они были при прежнем владельце. Говорили, что в любую ночь года покойного хозяина магазина, в белом его парике, поблекшем бархатном кафтане и переднике на талии, с аккуратно подвернутыми на запястьях рукавами, можно увидеть сквозь щели ставней и проследить, как он подсчитывает прибыль или заполняет грязные страницы доходной книги. По выражению немыслимого горя на его лице можно было понять, что он обречен всю вечность пытаться тщетно свести баланс своих счетов.
И теперь – крайне осторожно, как вы увидите, – мы перейдем к изложению нашей истории.
Произведения
Критика