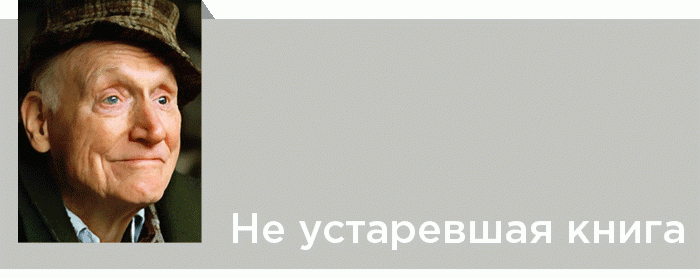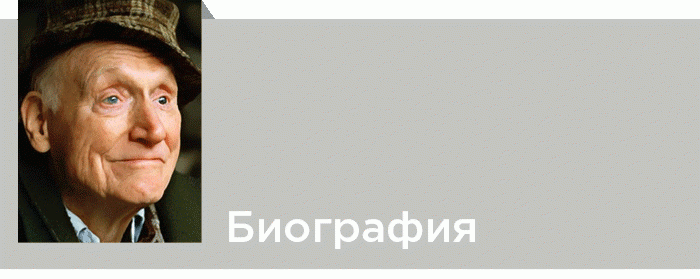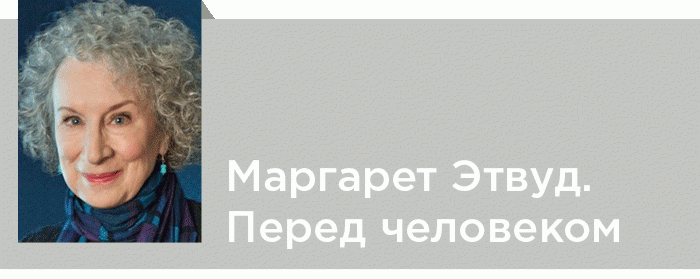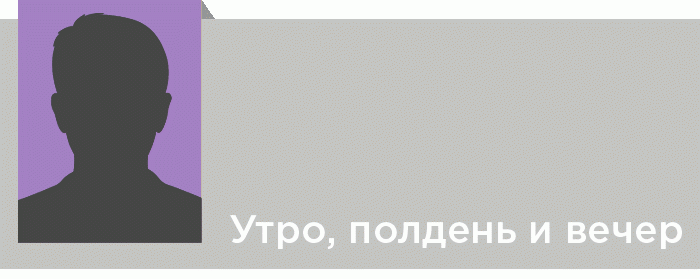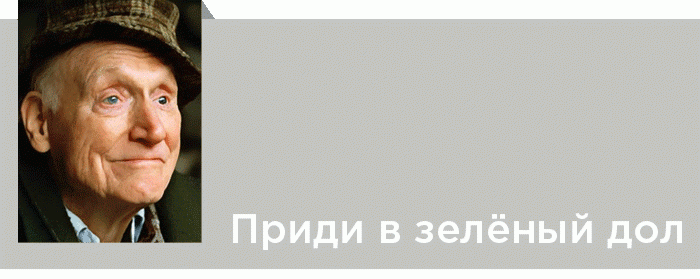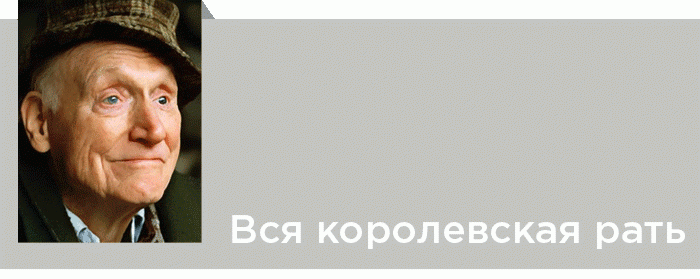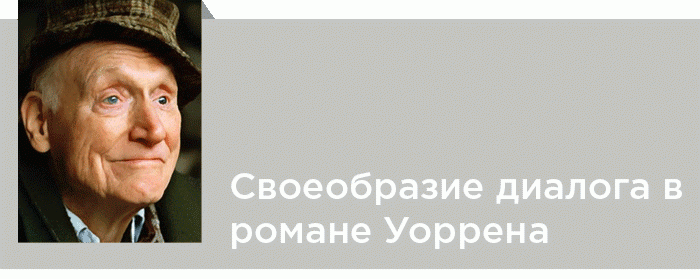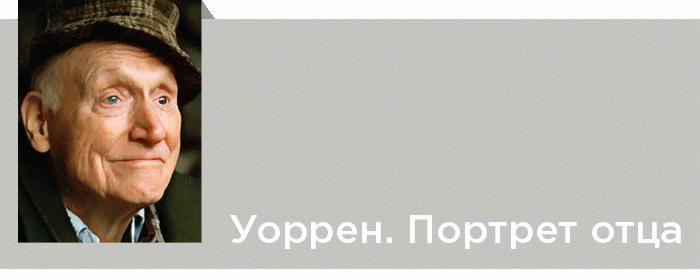Роберт Пенн Уоррен. Дебри
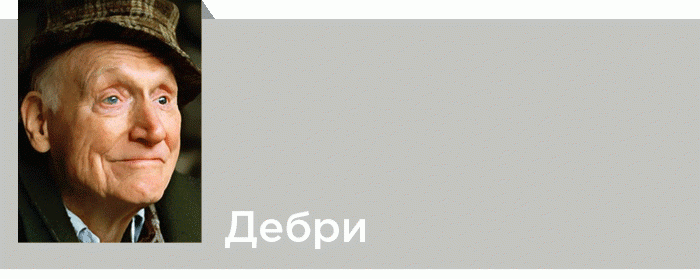
(Отрывок)
Глава 1
Если бы гора не сияла такой белизной.
Если бы вдали, под остроконечными вершинами, рваная полоска елового леса не казалась такой иссиня-черной на фоне этой белизны.
Если бы небо над сверкающим снегом Зельцштайнберга не разрывало сердце невинностью новорожденной голубизны. Если бы высоко в промытом сиянии этой голубизны не парило одинокое пуховое облачко, белое, как взбитые сливки. Если бы мир не был так совершенен в своей красоте.
Если бы не все это, тогда он, Адам Розенцвейг, может, и смог бы замкнуться, уйти в себя, в капризы истории и науки, во всю эту премудрость, которая по сути и есть уход. Может, тогда он смог бы вернуться в дом, где теперь занавешены зеркала и опустели чаши с водой, куда окунал Ангел Карающий свой клинок, дабы очистить его от крови; где он, Адам Розенцвейг, стоял, не в силах оторвать взгляд от подернутого восковой бледностью лица своего отца, пока не опустилась на него черная ткань, и где до сих пор витает запах свечи, зажженной в миг, когда смерть забрала его, и поставленной на полу, в изголовье.
Нет, не мог он теперь вернуться в ту комнату. Его попытаются заставить туда войти, потому что так положено и предписано, но он не сможет. Отец уже в земле, так зачем входить?
Он думал о предстоящей ночи. Думал об одиночестве этой ночи, первой ночи в земле. Именно тогда, думал он, усопший впервые осознает, что он совершенно один. Именно тогда, в этом полном одиночестве, ощутит он первые признаки долгой епитимьи разложением. Именно тогда усопший постигает страшную правду: Это конец, больше ничего не будет.
Быть мертвым, думал он, это знать, что больше ничего не будет.
Он думал: Я — живой.
Он думал о том, как тело отца опускали днем в могилу, о первых комьях земли, стукнувших о крышку, о сказанных над гробом словах: "О Ты, Сущий и Глаголящий, будь милостив к нам во имя того, кто, как агнец, отдан был на заклание".
Он проговорил эти слова вслух и спросил себя, а что они значат для него, Адама Розенцвейга.
Он вспоминал, что говорилось дальше в молитве, слово за словом. И произнес заключительные слова: "Будь милостив к отбившемуся от стада Твоего, и повели Ангелу Карающему: Останови десницу Свою!"
Он думал: И я теперь — отбившийся от стада. И я стою там, где когда-то стоял мой отец.
Он закрыл глаза и представил, как отец, молодой тогда человек, стоял на исходе зимы на этом самом месте и смотрел на сверкающую белизну Зельцштайнберга, этой горы, которую он, его сын, не видел сейчас за прикрытыми веками. Не открывая глаз, пробормотал он первые строки стихотворения, написанного когда-то отцом:
Если бы только я мог стать достойным этой горы,
Если бы только я мог стать достойным сияния солнца на этом снегу,
Если бы только мог человек стать достойным того, что он любит.
Он открыл глаза. И увидел кривую улочку и зимнюю грязь, чавкающую на солнце и снова замерзавшую там, куда дотянулись тени домов. Он увидел арку моста через Зельц, где глыбы талого льда плавали как плевки на черной воде. Он увидел за Зельцем Замок, серый, громоздкий, уродливый, увидел короткие, толстые башни-близнецы, каждая увенчана куполом в виде перевернутой репки, и стену под ними с застрявшим между зубцами тающим снегом, от которого на сером камне оставались черные кровоподтеки.
Он смотрел за реку и думал, что где-то там, внутри Замка, большого и неповоротливого, как грузовое судно в порту, старик — тучный и болезненный, но — Граф, — храпит, сморенный послеобеденной дремой и накапливает силы для совращения дочки торговца. Глядя на Замок, Адам слышал поросячье хрюканье из свинарника возле хибары, которую герр Целлерт называл своим домом. Герр Целлерт держал свиней, и люди говорили, что держит он их только ради того, чтобы доказать, что он со своим домом в конце Юденштрассе и со своими сердитыми, красными глазами — не еврей.
Я — еврей, подумал Адам Розенцвейг и попытался представить, как его отец много лет назад стоял на этом месте, и взгляд его скользил над талой грязью, поскольку грязь всегда тает на солнце и снова замерзает, повергнутая в тень; над хибарой герра Целлерта, поскольку здесь всегда жил герр Целлерт, державший свиней; над Замком, поскольку здесь всегда был Граф, молодой и гордый или тучный и болезненный. Отец устремлял взгляд поверх всего этого, на сияющую белизну горы, и жаждал всем сердцем стать достойным этой горы, которую он любил.
А сейчас Адам стоял здесь, смотрел на гору и думал о своем отце своем отце, Леопольде Розенцвейге, который много лет назад покинул Баварию и эту улицу. Он уехал в Берлин и терпел нищету, голод, бессонные ночи учебы. Он написал свои стихи. Он женился. Он зачал сына. Он назвал сына Адамом. Он выучил сына английскому и греческому, потому что эти языки, повторял он, языки свободы. Он внушил сыну, что для мужчины нет благороднее участи, чем жить и умереть за свободу.
Поэтому давным-давно, пятнадцать лет назад, в Берлине, 18 марта 1848 года, Леопольд Розенцвейг вышел из дома, где жили его четырнадцатилетний сын и жена с красивыми и не прощающими глазами, и оказался в толпе на Замковой площади, когда в два часа пополудни генерал Приттвитц не спеша двинул вперед эскадроны своих блистающих драгун, подкрепляемых с обоих флангов прусской пехотой. Позже, с удивлением разглядывая мушкет в руках, Леопольд Розенцвейг стоял на баррикадах, а потом стрелял. Год спустя, уже не удивляясь, он умело орудовал своим мушкетом, защищая Растатт в его последние страшные часы. Когда Растатт пал, он по воле случая не попал в число казненных.
Леопольд Розенцвейг жил во имя свободы, но лишен был счастья умереть за нее. Он продолжал жить год за годом в сырой тюремной камере, даже не зная, что жена умерла, так и не простив его, а сына выслали обратно в Баварию. Потом, через тринадцать лет, его выпустили из подземелья и позволили увезти свой тюремный кашель на родину. Его старший брат, некогда приютивший Адама, принял под свою крышу и Леопольда.
Потом, когда на раскладной койке он выкашливал остатки своей жизни, брат его — lehrer, хозяин schule, сказал: "Ты жил не по Закону".
Леопольд Розенцвейг, лежа в ожидании нового приступа кашля, ответил: "Я думал, у меня есть ради чего жить".
И брат его сказал: "Говорят, былое благочестие совсем исчезло из нашего мира. Я молюсь. Я сидел на полу в полночь и посыпал голову пеплом. Молился о том, чтобы ты хотя бы перед смертью принял Закон".
Адам, съежившийся в темном углу, задержал дыхание, чтобы услышать ответ отца.
Ответа не последовало.
Брат отца сказал: "Не доверху наполнена ещё чаша слез Господних. И не было в тебе веры, чтобы дождаться, пока переполнится чаша сия, и мир станет святым. Не в Бога ты веровал. Ты верил в человека".
Адам, скорчившийся в темном углу комнаты, комнаты, которую смерть заполняла постепенно, как сумерки, слушал медленное дыхание отца и ждал.
Потом, почти шепотом, отец сказал: "Да, я верил в человека".
"А это — богохульство, — сказал старик, неумолимо склоняясь над ним в наступающих сумерках. — Разве это не богохульство? Отвечай, богохульство?"
Адам услышал, как сердце в груди сжалось и сделалось маленьким. Долгое время ему казалось, что он не сможет больше вздохнуть.
И затем погасшим, бесцветным голосом отец ответил: "Да".
Вот так, в один миг, единым словом отец отнял у сына то, что даровал много лет назад, подарок, доставшийся ему такой дорогой ценой — годами мученичества в берлинском тюремном подвале. Телу отца понадобилось ещё полгода, чтобы умереть, но Адам знал, что его "я" уже мертво. И ещё Адам знал, что в тот миг, когда отцово "я" умерло, его, Адамово, "я" родилось.
Теперь, шесть месяцев спустя, когда тело отца упокоилось в земле, Адам понял, что он, его сын, все годы юности жил только одной мечтой — об отцовской жизни, отцовском мужестве, отцовском геройстве. И устремляя взгляд поверх уличной грязи, поверх свиного хлева герра Целлерта, поверх громоздкого Замка, он ещё яснее понял то, что пришло ему в голову шесть месяцев назад. Это озарение, а вместе с ним и осознание долга, пришли к нему в той самой комнате, в тот самый миг, когда отец отрекся от всего, за что страдал и чем был.
Мог ли он, его сын, продолжать жить прежней жизнью? Как мог он сидеть в мрачной каморке, окруженный шелестом всех этих тикающих часов и часиков, развешанных вокруг по стенам, и весь светлый отрезок дня терпеливо склоняться над столом, ремонтируя будильники этого жалкого, суетливого городишки, затерянного в Баварии? Как мог он вставать из-за стола, когда дневной свет угасал, и вечер за вечером возвращаться в дядюшкин дом, и есть вареную капусту, и слушать все те же слова, и ложиться в ту же постель, и лежать без сна, уставившись в ту же темноту над головой, и мечтать, что настанет день, когда он не будет так одинок во тьме.
Нет, не мог он больше влачить это жалкое существование. Теперь он знает, как поступить. Он подписал долговое обязательство. Ну и пусть, думал он в ознобе возбуждения, пусть отец отрекся от этого долга, он, Адам, не отвергнет.
Стоя и глядя на гору, он услышал, как дядя вышел из дома. Он не оборачиваясь знал, что это дядя. Дядя подошел и встал рядом, маленький, согбенный старик в ермолке. Адам знал, что скажет этот старик.
— Пошли в дом, — сказал старик.
— Нет, — сказал Адам.
— Так положено и предписано, — сказал старик. — Настало время молитвы.
— Послушайте, — тихо проговорил Адам, — я не хочу вас обидеть. Я сделал то, что положено и предписано. Я разорвал одежды. Глядите!
Он стянул пальто с левого плеча, как бы предлагая дяде проверить.
— Разве не разорвал я одежды? — спросил Адам. — Разве не склонялся над телом отца моего, пока на губы ему не положили перо, и не надрезал кафтан перочинным ножом, и не разорвал его больше, чем на пядь?
— Все так, — сказал старик, — но...
— Вы хотите, — прервал его Адам, — вы хотите, чтобы теперь я вошел в дом, снял обувь и сел на пол в комнате, которая пропахла воском и безысходностью?
— Иди в дом, — сказал старик.
— Нет. Я останусь стоять здесь.
— Ты не почтишь своего отца?
— Я стою здесь, чтобы почтить человека, которым когда-то был мой отец, — сказал Адам, стыдясь гнева, заставившего дрогнуть его голос, и в то же время радуясь ему. — Я смотрю на гору, чтобы почтить его.
— Пф-ф! — сказал дядя.
— Помните его стихотворение? — спросил Адам, снова успокаиваясь. — Про гору.
— Да, и написал он его по-немецки, — сказал старик. — Священный язык был для него недостаточно хорош.
— Это, должно быть, та самая гора, — сказал Адам, не слушая старика. И начал декламировать по-немецки:
Если бы только я мог стать достойным этой горы,
Если бы только я мог...
Дядя дернул его за рукав.
— Послушай, — сказал он. — Твой отец пренебрег священным Законом. Он верил в то, что только человек может принести людям свободу. Он поехал в Берлин и предался учению, в котором нет ничего общего со священным Законом. Он преломил с ними хлеб, и они делали вид, будто уважают его. Но знаешь ли ты, как они поступили?
Адам кивнул.
— Так помни, — сказал старик, склоняясь к самому его лицу. — Они делали вид, что уважают его, те, кто ратовал за новое учение и новую свободу. Но когда он написал свою книгу и восславил горы и реки — что было? Ему дали понять, что он еврей, и обязан сойти с тропы в грязь, и снять шапку, а неевреи будут гавкать на него: "Jude, mach Mores". Да, я видел, что писала берлинская газета о книге твоего отца, писали те самые люди, которые преломляли с ним хлеб. "Jude, mach Mores" — вот что они писали. Именно это означали их слова: "Еврей, ты не имеешь права восхвалять наши горы и реки, ибо они наши. С твоей стороны, еврей, это дерзко и нелепо говорить, что ты их любишь". Ты помнишь это?
— Да, — сказал Адам. — И я помню, как мой отец сказал тогда, что потребуется ещё не одно столетие, чтобы человек окончательно стал человеком, но кто-то ведь должен дожить до этого дня, и он взял мушкет и встал на баррикады рядом с ними, и умер бы ради того, чтобы помочь им приблизить этот день.
— Но, — сказал дядя, — он вернулся и умер, приняв Закон Божий.
— Он был старым и больным, — сказал Адам.
— Он был старым и мудрым. И я молюсь о том, чтобы ты ещё в юности извлек пользу из его мудрости.
Адам промолчал.
— Ты хочешь сказать, что укоренился в своей глупости?
— Если вы так это называете, — спокойно ответил Адам.
— А как ещё прикажешь это называть? Разве не глупость — ехать в Америку, — он замолчал и вгляделся в лицо Адама. — Или мои молитвы были услышаны? — прошептал он. — И ты не поедешь?
Адам сказал:
— Я сделаю то, что должен сделать.
— Дурак, — сказал дядя. — Ты едешь убивать или быть убитым. В Америке люди сейчас убивают друг друга, и это их выбор. Но это не твоя война. Знаешь, что говорит Талмуд? Он говорит: когда сталкиваются две великие силы, стань в стороне и жди Мессию.
Адам постарался, чтобы голос его звучал спокойно и терпеливо.
— Я мужчина, — сказал он. — Разве может мужчина стоять в стороне и ждать? В Америке сейчас — в эту минуту — мужчины сражаются за свободу.
— За свободу, — как эхо, повторил старик. — Да, твой отец сражался за свободу, и знаешь, чем эта свобода обернулась? В Праге они скинули императора и начали убивать евреев. Здесь, в Баварии, герои вышагивали, распевая песни о свободе, но потом перестали распевать, чтобы сэкономить силы для того, чтобы убивать евреев. Знаешь, что такое всемирная свобода? он помолчал. — Что ж, я скажу тебе. Это свобода убивать евреев.
Старик засмеялся.
Адам подумал: Если он не перестанет смеяться, я его убью.
Но смех оборвался.
— Есть только один выход, — сказал старик. — Мы должны ждать.
— Чего?
— Сам знаешь, чего. Дня, когда, следуя нашему примеру — примеру евреев, — весь мир познает Закон. И возрадуется святости его.
Адам посмотрел на еловый лес, на гору, где в сиянии заходящего солнца розовели снега.
— Я не хочу ждать, — сказал он.
— Чего же ты хочешь?
— Сделать все, что в моих силах, чтобы приблизить этот день.
— День, когда мир познает Закон?
— Нет, — сказал Адам, чувствуя, как возвращается гнев, вновь ощутив себя преданным и отвергнутым — как тогда, в темнеющей комнате, шесть месяцев назад, когда отец произнес слова, перечеркнувшие смысл всей его жизни и всех страданий.
— Нет, — повторил он. — День, когда мир познает Справедливость.
— Закон и есть Справедливость, — сказал дядя. И когда Адам обернулся к нему сказать что-то, чего он сам ещё не сформулировал и мог опознать только по тьме, застившей разум, и по боли в сердце, — дядя поднял руку, чтобы остановить его: — Нет, не говори того, что готово сорваться у тебя с языка. Это будет богохульством.
— Разве надежда на Справедливость — богохульство? — спросил Адам. Он чуть не плакал.
— Только в Боге есть справедливость.
— В Боге, может, и есть справедливость, — взорвался Адам, — но в Баварии никакой справедливости нет. А вы сидите здесь, в этом свином хлеву, и...
Дядя сплюнул.
— Бавария — мать проституток, — сказал он устало, как будто без осуждения.
— Вот именно. А вы сидите здесь и хрюкаете. Как один из хряков герра Целлерта. А я не буду. Здесь у меня нет элементарных человеческих прав. Здесь, когда я прихожу похоронить отца, сборщик податей стоит над могилой, чтобы взять плату, прежде чем Еврея опустят в землю Баварии. Здесь я не имею права жениться, не получив разрешения на создание семьи. Ну, конечно, ведь здесь все еврейские щенки наперечет, и я обязан дождаться своей очереди, и...
Дядя смотрел вниз, на левую ногу Адама.
Адаму вдруг захотелось спрятать её. И тут привычное, знакомое чувство стыда было сметено новым, злым стыдом за то, что он снова ощутил прилив старого.
— Давайте, глядите на мою ногу, глядите на здоровье. Думаете, ни одна баба на меня не польстится? Думаете, я не мужик из-за этой чертовой ноги? Ну так смотрите же! — он выпрямился, отвел назад плечи, поднял голову. — Я могу стоять на ней, — сказал он.
Дядя смотрел на него, печально качая головой.
— Я нужен Америке, — сказал Адам.
— Дурак ты, — сказал дядя, и печаль его сменилась жалостью.
— Дурак я или не дурак, — провозгласил Адам, — но маршировать мне теперь по силам. — Он шагнул и впечатал пятку левой ноги в замерзшую грязь. — И я могу научиться стрелять. Могу научиться...
Он замолчал. Не смог продолжать, потому что его затрясло от страшного возбуждения. Его охватила ледяная дрожь восторга. Он не мог выговорить следующего слова. Он даже не знал, что это будет за слово.
Дядя взглянул на него и снова покачал головой. Он заговорил очень мягко, не споря, не убеждая.
— Будь среди тех, кто без ответа внимает обидчикам своим. Ибо Бог с теми, кого обижают. Знай, что даже если праведник в праведном гневе своем поднял голос на нечестивца, Господь все равно плачет о гонимом.
— Что-то не верится, чтобы Господь в таких случаях плакал о гонимом, сказал Адам, последний раз вздрогнув от наплыва обжигающей радости. — Не верится мне, что Господь плачет, когда нечестивцев подвергают справедливым гонениям. И я не стал бы по ним плакать.
— Ты очутишься в мире, где добродетель невозможна, — сказал старик.
— Ну и пусть, — отозвался Адам.
И дядя повернулся, не проронив более ни слова, и вошел в дом, где лежало тело, а Адам остался стоять снаружи. Сумрак сгущался в далеком еловом лесу и на улице. Он посмотрел вниз, на ногу, закованную в странный, начищенный ботинок. Он разглядывал ботинок с беспристрастностью и отчужденностью. Он тянул ногу вперед, понимая, что выглядит комично и похож сейчас на жеманную девицу, которая любуется новой туфелькой или собственной щиколоткой. Он любовался хитроумным устройством ботинка, скрытой высотой каблука, внутренняя часть которого была немного выше внешней, подошвой, тоже чуть более толстой с внутренней стороны, шнуровкой и ремешками, которые крепче обычного стягивали лодыжку, чтобы она держалась прямо. Он имел право любоваться этим ботинком. Он сам изобрел его. Он преодолел боль, сопровождавшую каждый шаг в этом ботинке.
Он сделал два больших шага по замерзшей грязи. Боли не было.
Он посмотрел на ботинок ещё раз и вспомнил, что идея пришла к нему в тот самый миг, когда в темнеющей комнате, шесть месяцев назад, его отец отрекся от собственной жизни. И в течение тех долгих месяцев, пока отец терпел боль собственной смерти, его сын терпел боль своего рождения.
И мысль эта поддерживала Адама Розенцвейга. Когда резкая боль в ступне и лодыжке была почти невыносима, он говорил себе, что это цена его взросления и возмужания. Он говорил это по утрам, когда затягивал шнурки и ремешки немного туже, чем накануне. Он говорил это по вечерам, когда снимал ботинок и, вместо ожидаемого облегчения, каждый мускул отзывался ещё более острой болью.
Что ж, он заплатил цену. Теперь он мог ходить как мужчина. Комиссия, возможно, даже не заметит ботинка. А если и заметит, скорее всего, не придаст этому значения. Говорят, они берут всех, кто способен ползать и у кого есть хотя бы три зуба. Все рекруты поголовно проходят комиссию. Что ж, у него, Адама Розенцвейга, в наличии имеются все зубы до единого, и он научился ходить. Он может маршировать. Когда завтра он получит новый ботинок, почти нормальный, без обилия ремней и шнурков, необходимых вначале, он будет мало отличаться от остальных.
Если не слишком приглядываться.
Глава 2
На второе утро после отплытия из Бремерхафена на "Эльмире", колесном пароходе грузоподъемностью 1940 тонн с английским регистровым судовым свидетельством, после завтрака, состоявшего из солонины, галет и тепловатого кофе, дневальный вызвал их на палубу, все 125 человек. Впервые им было позволено выйти из тусклых кают на воздух, и теперь, ошалевшие от солнечного сияния и блеска воды, они щурились и жались друг к другу на шаткой палубе. Долговязый человек с рыжими усами, свисающими с изможденного, похожего на череп лица, в неопрятном штатском платье, с фуражкой, на которой виднелось невыгоревшее синее пятнышко от снятого значка, пристально оглядывал толпу. Глаза у долговязого были бледно-голубые, сильно воспаленные.
— Начинай перекличку, Свинячий Глаз, — на странно скрипучем английском приказал долговязый своему помощнику, толстому, как бочонок, голландцу с бельмом на одном глазу, в штанах, болтающихся пузырем под огромным брюхом.
Помощник по-немецки объяснил, что по мере того, как их одного за другим будут выкликать, они должны пройти по палубе и встать перед майнгерром Дунканом. Там, объяснил он, они выстроятся в двойную шеренгу. При помощи этих нехитрых действий, объяснил он, они попытаются обрести чувство собственного достоинства.
Майнгерр Дункан тем временем снял фуражку, и, несмотря на рыжие волосы, густо торчащие из-под околыша по бокам, обнаружилось и поразило то, что майнгерр Дункан был лыс. Голова его не была голой, как яйцо. Она, однако, была голой, как сустав гигантского быка, белая, со свежими красными пятнами, будто с неё совсем недавно сняли скальп, и она никак не заживет.
Майнгерр Дункан осторожно почесал свою обожженную солнцем лысину, с явной неприязнью наблюдая, как люди один за другим выходят и строятся в неровную шеренгу. Внезапно палуба покачнулась, это заставило его переменить позу, и стало заметно, что он хром на левую ногу. Колено не сгибалось, застыло, как деревянное. Потом внимание его переключилось с шеренги людей на указательный палец правой руки, которым он чесал свою несчастную лысину. На пальце осталась капля крови. Майнгерр Дункан вытер кровь о штаны пониже спины и снова водрузил на голову фуражку.
И в тот момент, когда зудящую, обожженную лысину майнгерра Дункана лишили даже того небольшого удовольствия, которое приносит почесывание, Адам Розенцвейг, чье имя было только что названо, сделал первый шаг, чтобы пересечь палубу и присоединиться к шеренге, выстроившейся перед майнгерром Дунканом. Он сделал этот шаг уверенно, решительно. Это был момент, к которому месяцами — даже годами — подводила его жизнь. Момент, когда его мечты вот-вот станут реальностью.
Корабль вторил размеренным, неторопливым движениям волн, но в этот миг море нарушило ритм. Оно едва заметно, непостижимо вздрогнуло — так лошадь дергает шкурой, когда на неё садится слепень. Этого легкого рывка как раз хватило, чтобы изменился плавный и ожидаемый подъем палубы, и самоуверенный, предавшийся мечтам Адам Розенцвейг потерял равновесие.
Он не упал. Просто выставил вперед левую ногу, чтобы удержаться. И нога неожиданно воспроизвела привычное крученое движение, которое в течение стольких месяцев он мучительно преодолевал. Так он и замер посреди палубы, большой палец левой ноги устремлен резко вниз, как у танцора, пятка поднята, тело нелепо перекручено, правое плечо перекошено для равновесия, локти оттопырены. А нелепый ботинок со всеми своими ремешками и шнурками выставлен на всеобщее обозрение. И к нему прикованы глаза всех присутствующих.
Хорошо знакомый, давнишний стыд захлестнул Адама, лицо его стало пунцовым. Он судорожно зажмурился, как будто собственная, персональная тьма могла скрыть его от окружающей действительности. В эту минуту ему захотелось молиться. Он вспомнил о маленьком ранце, который дядя сунул ему на прощание и от которого ему не хватило духу отказаться — там лежали филактерии, талес и молитвенник. Ему захотелось забиться в темный угол, съежиться и молиться.
— Ты!
Он уловил угрозу в голосе майнгерра Дункана и открыл глаза.
И в этот момент океан снова вздрогнул. Адам Розенцвейг каким-то чудом удержался в своей танцевальной позе, но майнгерр Дункан, в отличие от него, не выставил для равновесия свою несгибаемую ногу. И просто-напросто уселся, хлопнувшись задом о палубу.
Кто-то из рекрутов хихикнул. Или, может, это был один из английских моряков.
Адам Розенцвейг увидел красное, рассвирепевшее, черепообразное лицо майнгерра Дункана, впившееся в него снизу голубыми глазками. Он почувствовал себя жертвой гигантского тайного заговора, в котором замешан весь мир.
И в какой-то мере он был прав. Если бы спокойное море не сбилось с ритма, не совершило этого непостижимого рывка, как лошадь дергает шкурой, тогда Адам Розенцвейг не застыл бы в этой идиотской позе и не выставил ногу на всеобщее обозрение. Если бы лысина майнгерра Дункана не чесалась так нестерпимо от солнечного ожога, то настроение его, хотя и весьма непредсказуемое, как правило, тем более после таких обильных возлияний, как накануне вечером, могло все же оказаться более благодушным. Если бы майнгерру Дункану в Первом Манассийском не попала в колено ружейная пуля южанина, он бы, может статься, не так болезненно отнесся к физическому недостатку Адама Розенцвейга. Если бы, на самом-то деле, майнгерр сержант Дункан не проявил себя трусом в Первом Манассийском, оказавшись первым в своей роте, кто сломался и побежал, и как раз когда он как следует разогнался, не получил по заслугам вражескую пулю под колено сзади, он мог бы отреагировать менее болезненно. Если бы в ту минуту, когда обнаружился этот недостаток Адама, океан не вздрогнул во второй раз и не усадил его на пятую точку. Если бы не раздался смех. Если бы не выстроился такой невероятный ряд совпадений, то все могло бы в конце концов обойтись.
На самом деле, не было никакого логического объяснения, почему майнгерра Дункана до такой степени разгневал физический недостаток Адама Розенцвейга. Он знал, что проверяющие особо не проверяют. Ему самому не раз случалось закрывать глаза и пропускать весьма жалких субъектов. Он понимал, что пушечное мясо есть пушечное мясо, и парень с таким незначительным изъяном несет в себе столько же кварт крови, которую можно пролить, а комиссии большего и не нужно. Но сидя на палубе с ушибленным копчиком, со своей обожженной лысиной и тяжелой от рома головой, со своей хромой ногой, своей трусостью и чьим-то случайным смешком, звенящим в ушах, майнгерр Дункан не настроен был мыслить логически.
Он с трудом поднялся и приблизил к Адаму красное лицо.
— Ты! — заорал он. — Ты, жулик чертов! Хотел выгадать себе бесплатную прогулку до США! Ага, ты прекрасно понимал, что с такой ногой не сможешь воевать! Ага, едешь капиталец себе сколотить в Америке, в то время как остальные ребята едут за пулей. Ага, такое у тебе имелось намерение, так ведь?
Адам смотрел в красные, воспаленные глаза, ненавидящие его, и не мог вымолвить ни слова. Сказать было нечего, потому что все, все, что с ним происходило, было из области нереального.
— Отвечай, ты, педик! — орал на него майнгерр Дункан. — Разве не за этим ты едешь в Америку?
— Нет, — сказал Адам.
— Тогда за чем же? — и красное лицо придвинулось невыносимо близко.
Все было нереальным, и Адам знал, что голос его, произнесший затем ответ, тоже был нереальным. Это он сам с собой разговаривал, в своей внутренней тьме, пытаясь что-то себе объяснить.
— Я еду, — голос доносился из далекого далека, — чтобы сражаться за свободу.
Он знал, что на самом деле не мог такого сказать, по крайней мере, вслух, и когда он медленно повернул голову к остальным — сначала к тем, которые уже откликнулись на свое имя и построились, образовав неуклюжую шеренгу, потом к толпе, все ещё бесформенной и безымянной, он не ждал от них поддержки. Он просто хотел прочесть в этих лицах их собственную, глубинную, невысказанную тайну: что они тоже едут сражаться за свободу.
Конечно, он был не готов к тому, что Свинячий Глаз, Голландец, похлопал себя обеими руками по пузу, как по барабану, отдельному от остального тела, издал два смешка, по звуку нечто среднее между отрыжкой и сморканием Гаргантюа, и указав на него, Адама Розенцвейга, обернулся к толпе новобранцев и прокричал по-немецки:
— Он хочет сражаться за свободу! Он говорит, что хочет сражаться за свободу!
Свинячьего Глаза одолел смех, ему пришлось пережидать все новые приступы хохота и долго хлопать себя по пузу, прежде чем он набрался сил, чтобы ещё раз прокричать:
— Хочет сражаться за свободу!
Теперь, однако, его слова утонули во всеобщем гиканье и веселье. Люди смеялись. Они смотрели на него, Адама Розенцвейга, и смеялись. И кто-то все выкрикивал и выкрикивал из толпы:
— Fur die Freiheit! Fur die Freiheit!
Глава 3
По мере приближения "Эльмиры" к порту, с северной стороны медленно проплывал зеленый берег, там и сям украшенный хохолками деревьев, пятнышками белых вилл и ферм, умытый чистым сиянием летнего утра. Адам Розенцвейг оторвал взгляд от работы — он отбивал с цепи ржавчину — и поглядел на берег. Это была Америка.
Ребенок, маленький мальчик, стоял на длинной песчаной отмели рядом с виллой, совсем крошечный с такого расстояния, в голубых панталонах и белой курточке, а его коричневая собака лаяла не переставая. По крайней мере, поза и движения этой далекой собаки говорили о том, что она лает, — потому что звук не долетал до Адама из-за сильного ветра с моря. Это была большая коричневая собака, она опиралась на напряженные передние лапы, пасть её открывалась и закрывалась с ритмичностью метронома. Было понятно, что это большая собака, потому что стоя она была ростом почти с мальчика, но на расстоянии казалась ненастоящей, как маленькая хитроумная баварская игрушка, рот которой движется благодаря вмонтированному противовесу-маятнику. В ярком сиянии летнего морского утра без намека на дымку или туман ему казалось, что видна даже маленькая красная полоска языка, когда пасть открывалась.
Но звука Адам Розенцвейг не слышал. Как ни напрягал он слух, все равно не мог расслышать лая. Ему бы хоть разок услышать, чтобы убедиться, что по крайней мере эта собака — настоящая. Потому что все сейчас казалось ему нереальным.
С того второго утра после отплытия из Бремерхафена все казалось ему нереальным. Как будто его мечты там, в Баварии, в те долгие месяцы, пока умирал отец, а сам он перерождался в мужчину, были реальностью, а все, что на самом деле произошло после этого, было всего лишь сном. Неужели это действительно так? Ибо сокровенные мечты человека — и есть его суть, рассуждал Адам ночью, и если это отнять, что же останется ему от реальности?
После того, как утих смех тем страшным утром, майнгерр Дункан крикнул стоявшему неподалеку английскому боцману:
— Берите его, он весь ваш! Нам он не нужен, он ваш, — и повинуясь жесту боцмана, два моряка подошли и встали по обе стороны от Адама.
Но майнгерр Дункан крикнул:
— Стойте! — и подошел к Адаму. — Слушай, — сказал он, — если думаешь, что тебе позволят просто-напросто сигануть за борт в Нью-Йорке, то ты полный идиот. Думаешь, тебя задарма прокатили, а, сволочь? Я-то буду занят с этими, которые в строю стоят, а вот капитан — он приглядит за тем, чтобы тебя доставили точнехонько туда, откуда ты явился. Но ты отработаешь свой проезд, будешь работать, пока задница не отвалится. Понял меня, ты?..
Тут силы майнгерра Дункана иссякли. Так что два моряка увели Адама и приставили к работе. Да, он будет работать до самой Америки, сказали они ему, а потом весь путь назад до прибытия в Бремерхафен, если так велит капитан, и будет вышвырнут на берег, без гроша ломаного за душой.
Какого ещё ломаного гроша...
С тех пор Адам драил палубу или отскребал соль и ржавчину от металла, вяло волоча за собой увечную ногу и вновь признав себя калекой, и даже не замечал распухших, ободранных рук, так непереносимо болезненна была мысль о том, что с ним станет по возвращении в Бремерхафен. Что за жизнь его ожидает? Однако эти прозаические размышления — ничто по сравнению с преследующим его во сне и наяву смехом или безумным криком "Fur die Freiheit!", сопровождаемым ещё более безумным смехом.
Он видел лица, слышал смех и просыпался, и лежал в холодном поту, и стыд жег ему лицо. Но чего стыдиться-то, спрашивал он себя. Того, что он хочет сражаться за свободу? Что он принадлежит к той породе людей, в сердце которых могло зародиться желание сражаться за свободу? Что он выставил на всеобщее обозрение свой нелепый ботинок? Или это просто тайный стыд за то, что он такой, какой есть?
Но однажды ночью, когда его снова захлестнул стыд, в голову ему пришла одна мысль. Этот дикий крик "Fur die Freiheit!", не выражал ли он под конец нечто совершенно противоположное? Быть может, повторяя эти слова снова и снова, люди, поначалу поднявшие его на смех, обнаружили, что слова эти созвучны их собственным потаенным мечтам? Быть может, поэтому они не могли остановиться. Наверное, так же солдаты кричат "ура", бросаясь в атаку. Быть может, поэтому их смех становился все более безумным. Безумие этого смеха было, вероятно, проявлением радости, — радости, которая захлестывает людей, когда пробуждается их внутренний источник силы.
Если все это правда, думал Адам, значит, он не так уж и отличается от остальных. Их мучит та же жажда, что и его самого. С этой мыслью стыд отступил. Потом он подумал, что их жажда, должно быть, даже сильнее, чем его, оттого что скрыта глубже. С этой мыслью он ощутил сладость смирения. Ему захотелось вскочить и помчаться искать в темноте кого-нибудь из них любого — и сказать, что все понял и просит прощения. Ему захотелось молиться, чтобы Господь не отнял у него этого прозрения о сущности человека. Потому что если это прозрение сохранится в сердце его, то он, Адам Розенцвейг, все же сможет продолжать жить после того, что случилось.
Но тут он увидел дядю. Дядя печально поглядел на него и сказал:
— Собираешься просить Господа, чтобы даровал тебе иллюзию красоты человека, а это — распоследнейшая глупость.
И все-таки он уснул. Адам поднял глаза от солевой ржавчины, которую сбивал, поглядел на зеленый берег и увидел далеко-далеко маленького мальчика на песчаной отмели и собаку, заливающуюся беззвучным лаем.
Этот зеленый берег в нежном сиянии утренней зари и есть Америка, подумал он. В Америке есть маленький мальчик в голубых панталонах и белой курточке, он стоит рядом с белой виллой и глядит на корабль, красиво проплывающий мимо. В Америке, далеко отсюда, на юге, есть мужчины, которые с криком бросаются в атаку и умирают в дыму сражения. Да, это Америка, подумал Адам, страна, куда он никогда не попадет. Мир там или война, его нога никогда не ступит на эту землю.
Он поглядел на свою левую ногу и вспомнил Старого Якоба. Старый Якоб, сапожник, чинивший обувь, сделал этот ботинок. Адам сидел и описывал, какой ему нужен ботинок, а старик, впотьмах склонявшийся над верстаком в темной каморке своей мастерской, кивнул и сказал, да, он может такой сделать. И он его сделал, первый ботинок, который мало-помалу, сжимая и стягивая ногу, придал ей более нормальный вид. Потом, когда прошла боль от этого первого ботинка, он сделал другой, с меньшим количеством шнурков, пряжек и ремешков, который по виду меньше отличался от обычной обуви.
На следующий день после похорон отца Адам отправился за новым ботинком. Он уже был готов. Адам достал два золотых и положил на верстак сапожника, рядом с новым ботинком. Старый Якоб взглянул на деньги, но не притронулся к ним.
— Я тебе кое-что скажу, — сказал он.
— Что? — спросил Адам.
— Я стар, — сказал Старый Якоб. — Я родился, когда пришел Наполеон, и люди заговорили о новых временах. Мы, евреи, тоже заговорили о новых временах. И новые времена наступили. Но долго они не продержались. Потом стало даже хуже, чем раньше. Люди кричали: "Jude, verreck!" — и евреи умирали.
Я был уже большим мальчиком в те плохие времена. Мне приказали идти в подмастерья к сапожнику. Я хотел стать учителем, но люди тогда делали то, что им велят. Я не выносил запаха сырой кожи. Знаешь, как пахнет, когда дубят кожу? Это невыносимо. Так вот, мне поневоле приходилось вдыхать запах свежей кожи, когда я пытался работать, и меня рвало. Когда я дошел до того, что не мог ни есть, ни спать, я сбежал.
И глупо сделал. Меня поймала полиция. Они избили меня, бросили за решетку, и снова били. Потом отослали обратно к сапожнику. Он был в этом не виноват, сапожник. Может, он никогда не просил о том, чтобы стать сапожником. Может, он никогда не просил о том, чтобы родиться на свет божий. Эта мысль пришла мне в голову и помогла выжить. Человек может научиться жить. Гляди!
И Старый Якоб взял кусочек свежей кожи, положил в рот и принялся жевать. Адам смотрел. Старик вытащил кожу изо рта. Он даже не сплюнул скопившуюся слюну. Его нижняя губа была влажной и поблескивала.
— Вот видишь, я научился жить, — сказал старик, и в темноте каморки, в темноте, призванной даже средь ясного дня торопить приближение старческой слепоты, он разразился хохотом. И в хохоте этом была внушающая ужас радость, от которой у Адама похолодело сердце.
Старик справился со смехом, прищурился на Адама и сказал:
— Да, можно научиться жить. Но даже в этом случае, — он указал на две золотые монеты, которые лежали рядом с ботинком на верстаке, посверкивая в сумраке, — я не могу принять их.
— Но мы оговорили цену. Они ваши, — сказал Адам.
— Слушай, — сказал старик, — даже мне требуется нечто большее, чем просто уверенность, что я научился жить. Если я приму деньги, у меня только эта уверенность и останется. Ботинок перестанет быть моим.
— Но в том-то все и дело, — сказал Адам. — Я хочу заплатить за ботинок. Ботинок — мой.
— Нет, сынок, — сказал Старый Якоб. — Он не твой. Он мой. Он мой, но ты можешь носить его. Ты можешь взять его у меня взаймы и носить, чтобы прямо держать ногу.
— Но... — начал Адам.
— Ты можешь носить его, чтобы прямо держать ногу в Америке. Можешь носить его, чтобы маршировать. Можешь носить его в бою. Но он все равно останется моим. Ты понимаешь?
На миг Адаму почудилось, что он попал в ловушку, отчаяние пронзило его. Он не мог ответить.
— Ты можешь носить его даже для того, чтобы умереть, — говорил старик. — С пулей в теле. Но ботинок все равно останется моим. Я должен знать, что мой ботинок ступил на землю Америки, шагал по грязи и пыли. Теперь начинаешь понимать?
Адам кивнул. Да, он начал понимать.
— Забери их, — сказал старик, указав издали на золотые монеты. Забери, потому что ботинок — мой. Я заплатил за него тем, что научился жить.
Адам молча протянул руку и взял монеты. И подержал на ладони, разглядывая.
Итак, он везет из Баварии два подарка, думал Адам, глядя на зеленый берег, проплывающий мимо, — ранец со священными реликвиями, подаренный дядей, и ботинок, подаренный Старым Якобом. Он думал о том, как они попали к нему, об их обоюдной и равновеликой враждебности. Как в сказке, когда под влиянием какого-то магического заклятия, каждый из двух заколдованных подарков уничтожает волшебные свойства другого. В результате, молиться он не может, а ботинок никогда не ступит на землю Америки.
Глядя на далекий зеленый берег, он думал о сапожнике. Бедный Старый Якоб, думал он, ты заплатил такую великую цену за этот ботинок, и все ради того, чтобы быть обманутым.
Нет, без толку вглядываться в зеленый берег, ботинок никогда не пройдет по нему.
Он опустил глаза на солевую ржавчину и начал в прежнем ритме бить старым долотом по цепи. Потом почувствовал, что рядом кто-то стоит. Кто-то смотрел сверху на его незащищенные плечи. Он медленно повернул голову. Шагах в трех, облокотившись о поручни, стоял матрос и смотрел на него сверху, — коренастый, краснолицый, до костей просоленный морем человек с седеющими баками, с отвратительной трубкой, залихватски торчащей в углу рта, и серо-голубыми глазами, холодными, как зимний полдень в высоких широтах. Руки казались слишком красными и громоздкими для него, как тяжеловесные молоты, готовые в любую минуту приступить к работе. Одна рука лежала сейчас на поручне — так молоток покоится на наковальне в ожидании рабочего. Адам узнал в этом человеке одного из двух матросов, в распоряжение которых он поступил в то утро, когда майнгерр Дункан признал его негодным.
— Дурак ты, круглый дурак, — беззлобно сказал матрос, перегоняя черную трубку из одного угла рта в другой.
Долото Адама замерло на полпути. Слова матроса странным образом отдавались в голове, как эхо. Он чувствовал, что смотрит на человека, который их произнес, щурясь и помаргивая, как будто не расслышал или слишком туп, чтобы понять. Слова отдавались в голове, как эхо всей его жизни.
— Дурак ты, говорю, круглый, — повторил человек. И поскольку Адам продолжал пялиться, добавил обиженно: — Ты ведь говоришь по-английски, а? Я слыхал, ты в тот день говорил по-английски.
Адам кивнул.
— Охота, значит, попасть в Америку? — спросил матрос.
Адам опять кивнул.
— Тем более дурак, — сказал матрос.
Но все же вынул изо рта трубку.
— Слушай, — сказал он. — Рано утром мы сделаем остановку в Касл Гарден. Бросим там якорь, чтобы освободиться от первой группы паразитов.
— Кого? — не понял Адам.
— Эмигрантов, — пояснил матрос. — Там, внизу, их набито штук двести пятьдесят, — он ткнул концом трубки в палубу. — Больше, чем сельдей в бочке. Но мы избавимся от них в Касл Гарден. Повышвыривают их за борт на катера, и полетят — кто кормой вперед, кто чайником, кто кувырком. И тебе бы так лететь вверх тормашками, если бы этому доброхоту Дункану не приспичило возвернуть тебя домой.
Моряк наставил трубку на Адама, сурово пресекая всякие надежды.
— Э-э, нет, — сказал он, — ты особо губешки-то не раскатывай. Они всех галочкой помечают, паразитов-то, там тебе ни в жизнь не слинять.
Матрос ненадолго впал в задумчивость. Потом снова заговорил.
— После этого, — сказал он, — мы пойдем вверх по реке к месту стоянки. К тому времени уже свечереет. Как причалим, так начнется шум, гам и всеобщий тарарам. После того как господ пассажиров со всеми их манатками спровадят на берег, тут приходит черед остальных паразитов — тех, кто не мог оплатить проезд до Страны Свободы и посему записался в солдаты. Но теперь уж негодяи — то бишь Дункан и этот косоглазый пивной бочонок Голландец-голодранец — даже не почешутся никого пересчитывать. Просто спихнут их в теплые, заботливые руки Морской Пехоты Дядюшки Сэма. — Он замолчал. — Хо, хо! — вдруг загоготал он и снова замолчал, смакуя представшую перед его мысленным взором комичную картину.
— Ну слушай, — продолжил он. — Вот их спихнули. Стоит в этот момент поглядеть на их рожи. Ведь они всю дорогу думали о щедром вознаграждении о том, что им останется от восьми обещанных сотен долларов после того, как все агенты и вербовщики получат свою долю. Они думали о попойках или о девках, о том, как их произведут в сержанты, и как они разбогатеют. Единственное, о чем они не думали — это о возможности получить пулю в брюхо.
А тут они видят этот трап, ведущий к Американской земле, и вдруг все дружно начинают думать о возможности получить пулю в брюхо. У них это на рожах написано. Они пятятся, жмутся, липнут друг к дружке, как густая овсянка, храбрые, как овцы, и лица у них зеленеют, короче, ведут себя в точности как тот парень, который попросил палача: подождите, пожалуйста, минутку, я высморкаюсь. Вот тут приготовься.
— Приготовиться? — переспросил Адам.
— Да, дурак несчастный, ты будешь сидеть вон там, под пиллерсом, прятаться от греха подальше и со всей мочи долбить эту чертову цепь, как будто тебя за это бессмертием наградят. На тебя будет всем наплевать. Ни одна живая душа не даст за тебя не то что двух центов, но даже рыбешки, цыпленок ты дохлый. Интереса ты вызовешь не больше, чем солнечные блики на закате. Если у тебя есть какой-то скарб, чемодан или, может, мешок, лучше припрячь его там заранее. Чтоб как настанет подходящий момент, ты не вызвал подозрений. Подбери его незаметно. И тогда гляди в оба. Когда агент — этот чертов Дункан — спустит паразитов на причал, прямо в жаркие объятия Морской Пехоты Дядюшки Сэма, когда после команды "свистать всех наверх!" те, кто наверху, будут смотреть на тех, кто остался внизу, и смеяться или разойдутся по своим делам, ты со своими пожитками сиганешь за борт. Сделаешь вид, что ты — один из паразитов, которого в спешке забыли. Ведь, по сути-то, так оно и есть.
И никто, ни одна живая душа, тебя не остановит. Потому что в это время Морская Пехота поведет паразитов получать пулю в брюхо. Притворись, что спешишь догнать их. А вместо этого давай деру.
— А если я не дам деру? Если я их действительно догоню? — спросил Адам. — Я имею в виду Морских Пехотинцев? Примут они меня?
Матрос поглядел на Адама сверху вниз, качая головой, будто от жалости.
— И Христос проливал свою драгоценную кровь ради такого, как ты, сказал он.
— В каком смысле?
Матрос указал трубкой на его ногу.
— Дурак ты, — сказал он.
Он постоял, изучая ногу Адама.
— Все равно, — наконец сказал он, — Дункан-то с ними пойдет, с Пехотинцами, а он тебя невзлюбил. Уж не знаю, почему. Надо же ему было кого-то невзлюбить. Он отправит тебя обратно домой, к мамочке.
Снова пригляделся к ноге.
— Не-е, — проговорил он, закрывая тему, — давай деру, не раздумывай.
Моряк отвернулся и пошел прочь. Адам поспешно вскочил.
— Стойте!
Моряк повернул голову.
Адам не мог найти слов. Сердце его переполняла благодарность. Нет, эта благодать была сильнее и глубже благодарности, от нежности у него перехватило дыхание.
— Не знаю, как... как... — пробормотал он.
— Что — как? — спросил моряк.
— Как благодарить вас, — сказал Адам.
— За что? — спросил моряк.
— За то, что вы сделали.
Моряк осмотрел его с ног до головы.
— Если я что-то и сделал, — сказал он, — то не знаю, зачем.
— Не знаете?
— Может, и знаю, — сказал тот. Потом усмехнулся резко и сухо. Допустим, — он выбил трубку о поручни. — Допустим, просто из любопытства. Я вообще любопытный, забавно иногда смотреть, как можно сделать то или сё. Стало чего-то вдруг интересно, сможет ли человек в твоем положении добраться до берега.
Адам шагнул к нему.
— Неправду вы говорите! — выпалил он.
— Это почему еще? — усмехнулся моряк. — Ты же хотел попасть на берег. В эти чертовы Соединенные Штаты. Вот и все, чего ты хотел, верно ведь?
— Да.
— Ну и вали в свои Штаты, дурачина. Только... — он снова отвернулся и сунул в рот трубку.
Адам ухватил его за рукав.
— Что — только? — спросил он.
Моряк вытащил трубку изо рта.
— Да оставишь ты меня наконец в покое? — выкрикнул он в сердцах.
Произведения
Критика