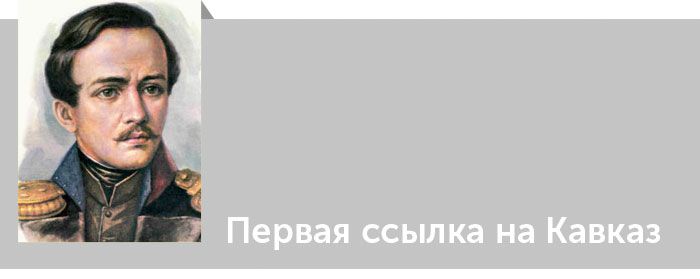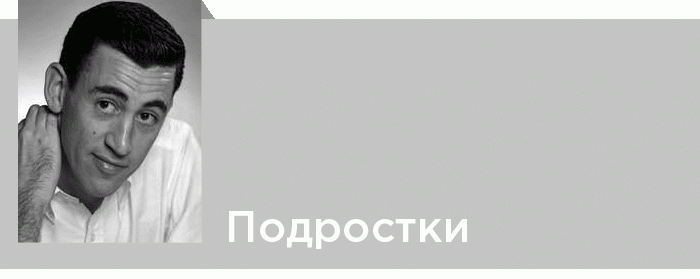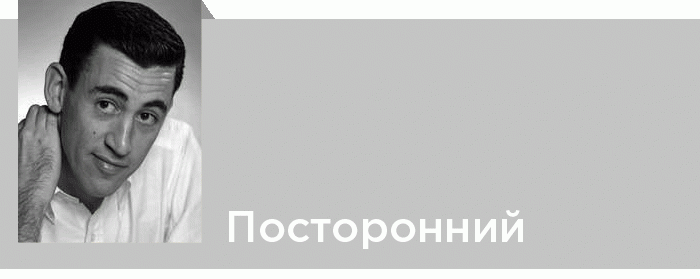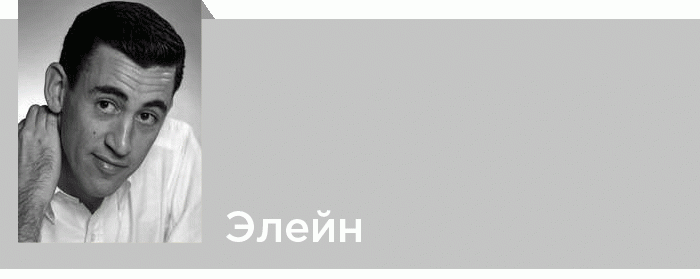Парадоксы Дж. Сэлинджера

Сергей Белов
Этот однотомник — почти полное собрание сочинений писателя. Перед нами тот круг произведений, который Сэлинджер издавал и переиздавал, стараясь забыть обо всем остальном, созданном им (в основном в 40-е годы). «Почти полное» — потому что в сборнике нет повести «Хэпворт 16, 1924», написанной в 1965 году (потеря, впрочем, невелика, так как событием повесть не стала). С тех пор Сэлинджер живет затворником, ничего не пишет, точнее сказать, ничего не публикует, не дает интервью, лекций по теории и истории литературы не читает и время от времени становится героем очередного слуха, мифа, апокрифа, которые, однако, довольно-таки быстро опровергаются.
В нашей стране Сэлинджер издавался не раз. Новая книга тем не менее не стала «повторением пройденного». Так, впервые переведена и опубликована повесть «Симор: Введение», являющая собой важную часть саги о Глассах, над которой Сэлинджер работал в последние годы своей писательской деятельности; впервые заговорил, как и положено, дуэтом, цикл «Фрэнни» и «Зуи».
О новых поступлениях, впрочем, в хронологическом порядке. Пока же вернемся к тому, что для читателей всего мира в первую очередь ассоциируется с именем Сэлинджера — к повести «Над пропастью во ржи» (в этом издании она названа «романом», хотя все же «повесть», думается, точнее). Тридцать с лишним лет отделяют нас теперь от первой публикации повести в США и двадцать пять — от появления ее у нас в превосходном переводе Р. Райт-Ковалевой. Менялись поколения критиков и читателей. Не менялось одно: среди тех и других равнодушных, кажется, не встречалось. Повестью зачитывались, ее превозносили, ее решительно отвергали. Главный герой Холден Колфилд привлекал и очаровывал одних, сильно раздражал других, раздражал и очаровывал одновременно — третьих. Даже критики, казалось, забывали о профессиональной сдержанности, читая повесть: радовались и сердились, переживали свои отношения с литературным персонажем как совершенно «взаправдашние». Впрочем, особенно удивляться здесь не приходится. Секрет притягательности повести заключался не только в том, что вместе с ним в повествование ворвалась обжигающая актуальность проблем и конфликтов, прекрасно знакомых по личному опыту тем, кто только-только вступал во взрослую жизнь, драматически воспринимая несоответствие реального ожидаемому, социальной практики идеалам. И тем, кто давным-давно освоился в этой действительности, принял ее условности и правила как нечто само собой разумеющееся, но порой все же ловил себя на том, что привычное и истинное отнюдь не одно и то же, а вовлеченность в круговорот деловой повседневности нет-нет да и обернется глухотой и слепотой к тем мелочам и пустякам, из которых и складываются добротные человеческие отношения.
Что и говорить, поклонников у повести было много больше, чем противников. Холден Колфилд подкупал своей нетерпимостью к «липе», притворству, красивым словам, недоверием к общепринятому, стремлением глядеть на мир самостоятельно, словом, тем, что хотел быть самим собой. Однако сколь живым ни казался бы литературный персонаж, он в то же время является и обобщением, порой символом. Символическое начало в Холдене Колфилде и стало самым настоящим яблоком раздора у его читателей.
Впервые Холден Колфилд заговорил с читателями в начале 50-х годов. В общественном климате США, зажатых в тисках конформизма, всеобщей подозрительности, подогреваемой активностью комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, нежелание сэлинджеровского героя быть «как все» прочитывалось вполне однозначно: как метафора неповиновения, как социальный протест, если угодно, как бунт. При том, заметим, что формально, на основании сюжетно-фабульных данных Холден Колфилд мало соответствовал роли бунтаря.
Подобная интерпретация, основанная на конкретной общественно-исторической ситуации Америки 50-х, дала жизнь любопытной тенденции. Холдена Колфилда нередко ругали или хвалили за те качества и функции, которыми он как эмпирическая личность не обладал, но которыми его наделяли те, кто видел в нем символ протеста, нон-конформизма и т. д. Казалось, что именно таким видит его автор, вроде бы вполне солидарный с героем. Здесь возникал «оптический обман», естественный, если учесть особенности сэлинджеровской прозы. Искренность и контактность Холдена Колфилда как бы заслоняют сдержанную ироничность автора, отнюдь не торопящегося все расставить по своим местам и внести полную ясность.
Холден Колфилд в повести как на ладони со своими минусами и плюсами. Автор же постоянно в тени.
Показательная сцена встречи героя со своим бывшим преподавателем мистером Антолини, который пытается растолковать Холдену ошибочность его отношения к жизни. Холден не слушает, зевает, а потом среди ночи, вдруг заподозрив приютившего его преподавателя в дурных намерениях, сбегает. Взаимоотношения персонажей — наглядный образец взаимонепонимания. Да, речи мистера Антолини всем хороши, если не считать того, что издерганному и замученному подростку а тот момент не до них — ему бы выспаться, прийти в себя, но педагог увлекся собственным красноречием, забыв о конкретной ситуации. Опасениям Холдена насчет «посягательств» педагога примерно та же цена, что и красноречию последнего: и то и другое неуместно.
Подкупая своей открытостью, Холден Колфилд прямо-таки заставлял смотреть читателей на мир его глазами: «липа», торжество пошлости, черствости и прагматизма, — никому нет дела до того, куда деваются зимой утки в Центральном парке. С другой стороны, прежде чем строго судить взрослый (неподлинный) мир за пренебрежение к уткам (символ подлинности), не мешает подумать о парадоксах романтического сознания, носителем которого выступает герой. При всей своей симпатии к персонажу «солидарный с ним» автор не упускает случая иронически снизить «героический пафос» Холдена Колфилда, подчеркивая разрыв между тем, каков он на словах и на деле. На словах, в области фантазии он и впрямь герой: в воображении лихо расправляется с хамом лифтером, налаживает «правильные отношения» с опротивевшим обществом: подальше от него, побег на запад, жизнь в хижине и пр. Не сразу и замечаешь, что оперирует он — борец против штампов и шаблонов — теми же штампами, только не вульгарно-будничными, а романтическими. В мире «вульгарных фактов» у него все валится из рук. То забудет в метро снаряжение фехтовальной команды, то разобьет пластинку, что купил в подарок сестренке. Гордо бросит «Спокойной ночи, кретины!» своим спящим и не слышащим его однокашникам — споткнется и чуть не свернет шею. Романтики хороши как пророки, судьи, глашатаи, фантазеры, но плохи как исполнители: так и не блеснула своим мастерством фехтовальная команда, выбрав романтика Холдена в капитаны, не дождалась пластинки сестра, да и поверивший в его литературные способности и попросивший написать за него сочинение Стредлейтер получил вещь, может быть, тонкую, оригинальную, только не на тему.
Да и попроси Холдена в реальности «стеречь ребят над пропастью во ржи» — ведь, чего доброго, сбежит, обругав и тех, кто поставил его дежурить, и шумных непослушных малышей — сбежит к новым фантазиям. Нет, «пошлая реальность» не так проста, как представляется тем, кто трактует ее свысока, она при случае умеет наказать за высокомерие.
О бунтарстве Холдена Колфилда говорилось немало, меньше внимания обращали на то, что движение повести — это медленное освобождение героя от слишком поверхностного отношения к жизни. На смену раздражению по любому поводу, скоропалительным суждениям начинает — только лишь начинает — приходить спокойствие, стремление присмотреться, что к чему вокруг и не торопиться с оценками.
У Холдена Колфилда все впереди, и мне кажется, он как живое существо, а не как символ (борца, бунтаря и проч.) не заслуживает ни бурных аплодисментов, ни грозных эпитетов. Состояние запутавшегося в жизни подростка передано Сэлинджером так точно и объективно, что некоторые из специалистов по педагогике и психиатрии взяли на вооружение термин «синдром Холдена Колфилда». Что же касается символа... Опасность принять протест по-колфилдовски за настоящий протест вполне реальна, как реальна угроза не пойти дальше удобного словесного всеотрицания, напоминая юного персонажа пушкинской пародии, который «ничему не хотел порядочно выучиться» и, будучи недовольным грамматикой для народных училищ, вовсе не изучал этот предмет, ибо «ждал новой, философической».
Колфилдовский «бунт» импонировал многим читателям из разных стран, увы, отчасти и потому, что это был весьма приятный, комфортабельный бунт, со всеми атрибутами протеста и автономности, с одной стороны, и полным отсутствием тех неприятностей, что выпадают на долю тех, кто протестует последовательно и всерьез. Игра в протест, пока это весело и не опасно — явление слишком знакомое послевоенной Европе и Америке, чтобы принимать за чистую монету «акции» многих родственников Холдена Колфилда и в литературе и в жизни.
Еще Шервуд Андерсон полемически утверждал высокую человечность своих странных героев, оказавшихся на обочине «организованного общества». В русле такой проблематики и развивалось творчество Сэлинджера, любимые герои которого обладают тонкой душевной организацией и в силу этой утонченности трагически воспринимают законы и правила деловой Америки. Об этом на Западе написаны уже горы книг, социологических и философских работ, поэтому, перечитывая сэлинджеровские новеллы и повести сегодня, спустя десятилетия после их первой публикации, нелегко порой отделаться от ощущения вторичности некоторых сюжетных ходов, характеров, хотя именно проза Сэлинджера в свое время послужила образцом для копирования и тиражирования. Впрочем, это не может заслонить от сегодняшних читателей изящество его почерка, лиричность, органично сочетающуюся с иронической остраненностью, позволяющей ему и быть «внутри ситуации» и наблюдать ее со стороны.
Блестящая техника Сэлинджера — отчасти результат его интереса к философии, религии, эстетике Востока, прежде всего к дзэн-буддизму. Недосказанность, отсутствие однозначных трактовок в его новеллах заставляют вспомнить о важном эстетическом принципе дзэн — о равенстве творческой активности художника и его аудитории. Увидеть, правильно истолковать смысл произведения не меньшая заслуга, нежели непосредственное создание художественного текста. В соответствии с требованиями поэтики дзэн Сэлинджер в своем цикле «Девять рассказов» стремится запечатлеть мимолетное, трудноуловимое (для него прежде всего область эмоций и человеческих взаимоотношений), указать на парадоксальное несовпадение истинного и привычного, которое лишь кажется истинным в силу общепринятости. Кстати, на эту связь с дзэн в англоязычных публикациях указывал эпиграф — коан (философская загадка-вопрос, являющий собой некое парадоксальное наблюдение) японского поэта и художника XVIII века Хакуина Осё: «Известно, как звучит хлопок двух ладоней, но как звучит одна ладонь?» К сожалению, в рецензируемом сборнике этот эпиграф почему-то отсутствует. А коль скоро речь зашла о том, что в сборнике отсутствует, это, думается, в первую очередь — комментарий, проясняющий многочисленные культурно-философские аллюзии в повестях цикла о Глассах. Случайные и не всегда удачные постраничные примечания переводчиков не могут заменить комментарии.
Постулаты дзэн-буддизма стали у «позднего» Сэлинджера орудием критики американской буржуазности, а также многих шаблонов западного сознания. В дзэн он нашел оружие борьбы с рационально-умозрительным отношением к миру. Устами юного вундеркинда Тедди из одноименного рассказа Сэлинджер осуждает западное сознание за слепоту, неумение видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. В отличие от большинства мятущихся и неуравновешенных героев Сэлинджера Тедди, отбросивший «одномерную» логику, а с ней и ненужные эмоции, обрел гармонию. Он выше тревог и сомнений, мудрее погрязших в погоне за сиюминутным представителей взрослого мира. Как обычно, автор не выражает открыто своего отношения к герою, хотя многие читатели увидели в Тедди воплощение сэлинджеровского идеала, гармоничной личности. Если это так, то идеал не без изъянов. Рассуждениям Тедди внимаешь не без страха. В новеллах Сэлинджера почти всегда есть дети, и они своим присутствием согревают, вселяют надежду. Тедди много говорит о подлинности и естественности, но сам производит впечатление, хотел того автор или нет, сказать не берусь, чего-то очень неестественного. В его гармонии слишком много «мертвой воды» умозрительности. Да и «антизападная» отрешенность и склонность к созерцанию этого чудо-ребенка парадоксальным образом напоминают все тот же старый добрый западный эгоцентризм: к людям, к их проблемам, радостям и горестям Тедди относится с остраненным любопытством; так он разглядывает апельсинные корки, проплывающие за окном каюты...
Глассы не просто семейство. Это сообщество, братство, орден тех, кто отличается умением тонко чувствовать и переживать. Это рожденный сэлинджеровской фантазией микросоциум, который полемически противостоит «организованному обществу», где царит отчужденность и нет того взаимопонимания, что существует между Глассами.
Критики не раз отмечали, что в этом цикле Сэлинджер особенно настойчиво ищет те ценности, которые, на его взгляд, способны облегчить тонкой, многогранной личности существование в обезличивающей Америке. И тут, однако, не обошлось без парадоксов (нелегко сказать, случайных или вполне осознанных автором). Так, Симор Гласс — своеобразный идеальный герой — этому миру не принадлежит (как, если вдуматься, и полагается настоящему идеалу). Еще в новелле «Хорошо ловится рыбка-бананка», открывшей цикл, он покончил жизнь самоубийством и живет теперь исключительно в воспоминаниях родных. Самоубийство Симора стало итогом его бесплодных попыток наладить отношения с «нормальной повседневностью», которая одновременно и манит Глассов, и очень больно ранит их, повергая в уныние, а то и в отчаяние. Так в отчаянии застает читатель Фрэнни Гласс, которой «надоело!», надоело на каждом шагу сталкиваться с фальшью и самодовольной пошлостью — всем тем, что не давало покоя Холдену Колфилду.
Прав А. Мулярчик, связавший в своей вступительной статье дуэт «Фрэнни» и «Зуи» с проблематикой «Над пропастью во ржи» и отметивший в филиппиках Фрэнни колфилдовские интонации, а в наставлениях ее братьев Зуи и Бадди дидактику мистера Антолини. Бадди вспоминает завет Симора наладить контакт с миром других, возлюбив «Толстую Тетю», то есть ту массовую аудиторию, что обычно внимала программе «Умные ребята», в которой на протяжении многих лет блистали юные Глассы. А. Мулярчик увидел в этом «лишенную всякого высокомерия живую демократическую интонацию». Хочется к этому лишь добавить, что интонация эта для Глассов действенна, так сказать, лишь в теории, слишком уж пошлыми и противными оказываются в их глазах Толстые Тети (и Дяди), когда с ними приходится сталкиваться в повседневной жизни. Симоровский призыв возлюбить весь мир — нет слов — звучит притягательно, только вот беда: все в той же реальной жизни принцип любить всех одинаково, как правило, выливается в подспудное стремление не входить ни в какие социальные, особые отношения с отдельными представителями рода человеческого, не любить никого, в конечном итоге оставаясь единственной реальностью — собственным «я».
Следует вообще заметить, что в этом цикле сэлинджеровская ирония, обычно находившаяся под жестким контролем со стороны автора, исподволь начинает обретать автономию, порой «замахиваясь» на самого Сэлинджера. Читая про Симора Гласса в повестях «Симор: Введение» и «Хэпворт 16, 1924», порой думаешь: «Уж не пародия ли он?» Бадди Гласс уверяет нас в гениальности Симора, великого, хоть и не публиковавшегося поэта, а чудится знаменитое репетиловское: «Но если гения прикажете назвать — Удушьев Ипполит Маркелыч». А почему бы и нет — Симор тоже упражняется в жанре «взгляда и нечто» и уж если что-то и пишет, то не публикует ничего. Интереснее, однако, другое. Настойчивость, с которой Сэлинджер расхваливает элитарных Глассов, гордо высящихся над бескрайними просторами пошлости и бездуховности, заставляет задуматься: почему эта «утонченность» так агрессивно требует всеобщих рукоплесканий? Почему вдруг (не только, между прочим, у Сэлинджера, он здесь подчеркнул и впрямь типическое) так часто нам рекомендуют гениев, которые ничего гениального не совершили (причем дается понять, что не совершили из-за удушающей обстановки, засилья посредственностей)?
Коль скоро Сэлинджер любит аллегории и, как принято говорить, всякого рода «амбивалентности», не будет нарушением правил и неуважением законов, воздвигнутых им в его художественном мире, продолжить аллегорию с Глассами. Как известно, в дословном переводе слово означает «стекло», что понималось интерпретаторами в виде указания на тонкость, хрупкость, ранимость носителей этой фамилии. Не замечалось при этом, однако, что стеклом можно сильно пораниться. О ранимости Глассов написаны диссертации, об их способности наносить повреждения не говорится. Но судьба незадачливой Мюриэль Феддер, невесты, супруги, а затем и вдовы Симора, напоминает о том, что общение с гением не в эстетическом, а в реальном жизненном пространстве — не такая уж приятная штука. Вообще возникает ощущение, что Глассы хотя и страдают от бездуховного окружения, но вообще-то совместными усилиями с их создателем Сэлинджером держат пошлых мещан и обывателей в ежовых рукавицах, изрядно компрометируя их в глазах симпатизирующего им, Глассам, читателя.
Вообще проблема «хрупкости», затронутая Сэлинджером, достаточно актуальна: сколько нам встречается «ранимых», «импульсивных», «не от мира сего», которые при всей своей неприспособленности преуспевают на зависть иным прагматикам. Жалели-жалели человека, предупреждали окружающих, что с ним надо побережнее, а под хрупкостью оказывалась танковая броня и проходимость танковая же. Сочувствуя утонченным Глассам, трудно отделаться от мысли, что их утонченность, материальное благополучие и интеллектуальная независимость — результат их плодотворного сотрудничества с миром пошлости: чуть не с пеленок играя — и не в шекспировских пьесах, а в дурацкой, но очень популярной у Толстых Теть и Дядь программе «Умные ребята», они зарабатывали себе на жизнь и на обучение в колледжах. Существовать на счет «плохого общества», на все лады поругивать его в ощущении собственного превосходства, но тем не менее не расставаться с тем комфортом, что оно обеспечивает, — все это слишком знакомо, чтобы не замечать иронической двусмысленности ситуации Глассов, хотя ирония тут, кажется, существует вопреки намерениям автора.
Автора, впрочем, все равно хочется поблагодарить. Как ни относись к его дзэн-буддистским ориентирам, к ценимым им Глассам, он — как и в повести «Над пропастью во ржи» — говорит интересно, ярко и потому как писатель не проигрывает. Не остались в проигрыше и его читатели, получившие возможность поразмыслить над сэлинджеровской прозой в ее почти полном объеме.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1985. – № 2. – С. 61-64.
Произведения
Критика