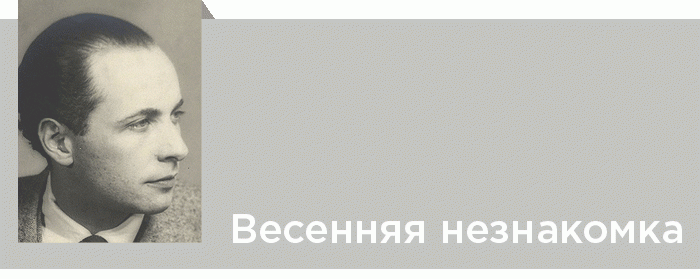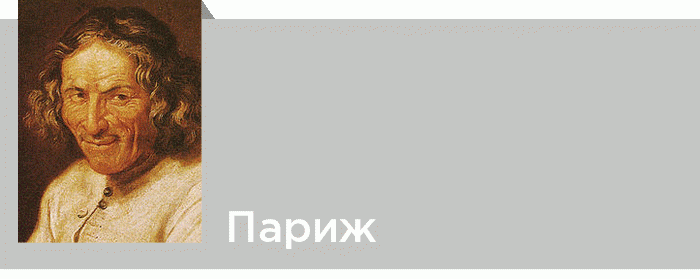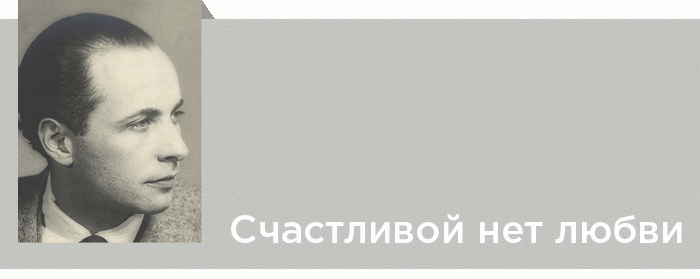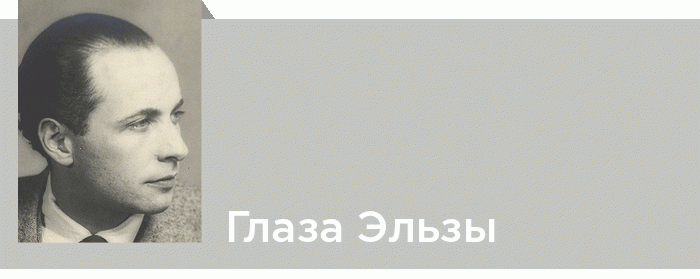Жан де Лафонтен. Любовь Психеи и Купидона
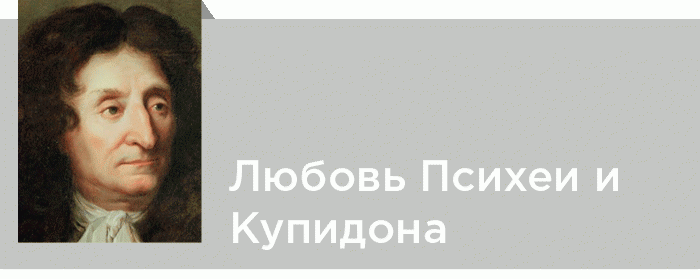
(Отрывок)
Книга первая
Четыре приятеля, сведшие знакомство на Парнасе, образовали своего рода кружок, который можно было бы назвать Академией, если бы только он был несколько шире и если бы все его члены столь же ревновали о Музах, сколь пеклись о своих наслаждениях. Первым делом они изгнали из своих собеседований педантические рассуждения и все то, что попахивает академическими диспутами. Когда они собирались вместе и успевали вдоволь наговориться о своих забавах, то, если речь заходила о чем-нибудь, имеющем отношение к наукам или к литературе, они пользовались таким случаем. При этом они не задерживались долго на одном и, том же предмете, а с легкостью перебрасывались с одного сюжета на другой, подобно пчелам, встречающим на своем пути множество разных цветов.
Зависть, недоброжелательство, интриги были им чужды. Они преклонялись перед творениями древности, но не скупились на похвалу и новым произведениям, когда те этого заслуживали. О собственном творчестве они отзывались со скромностью и откровенно высказывали свое мнение, когда один из них, заразившись болезнью века, выпускал в свет книгу, что случалось, впрочем, довольно редко.
Полифил (назовем так одного из наших четырех друзей) был подвержен этому недугу больше, чем другие. Похождения Психеи представлялись ему весьма подходящим сюжетом для приятного рассказа. Он уже давно работал над ним, никому в этом не признаваясь; наконец, он все же поведал о своем замысле трем друзьям, — не для того, чтобы спросить у них совета, стоит ли ему закончить начатое, но чтобы узнать, как, на их взгляд, ему следует продолжать свой рассказ. Друзья высказали свои мнения, и Полифил последовал тому из них, которое более пришлось ему по вкусу. Когда труд его был окончен, Полифил спросил, где и когда он может его прочесть.
Акант, по своему обыкновению, предложил совершить загородную прогулку в местах, где бывает мало гуляющих; там, по крайней мере, их не будут прерывать, и они прослушают всю историю без помех и с большим удовольствием. Он необыкновенно любил сады, цветы, тенистые уголки. Полифил в этом отношении разделял его вкусы, но можно сказать, что ему нравилось решительно все. Страсти, нежно волновавшие сердца обоих, наполняли их произведения, составляя основное их содержание. Они оба тяготели к лирике, с тем лишь различием, что Акант был склонен в стилю трогательному, тогда как Полифил отдавал предпочтение стилю цветистому.
Из двух остальных друзей, которых звали Аристом и Геластом, первый был весьма серьезен, не будучи докучным, а второй — неизменно весел.
Предложение Аканта было принято. Арист заметил, что Версаль обогатился новыми красотами, которые следует посмотреть; для этого надо отправиться туда утром, чтобы осталось время погулять после того, как они прослушают рассказ о похождениях Психеи. Незамедлительно было поставлено: начиная со следующего дня приступить к выполнению плана. Дни были еще длинные, погода отличная. Происходило все это минувшей осенью.
Приехав в Версаль рано утром, наши четыре приятеля пожелали прежде всего заглянуть в зверинец. Там они увидели множество птиц и насекомых разных пород, а также четвероногих, по большей части очень редких и доставленных из далеких краев. Они подивились тому, сколько разновидностей насчитывает одна и та же порода птиц, и воздали должное изобретательности природы, которая проявляется в разнообразии как животных, так и цветов. Весьма восхитились они строением «нумидийских барышень» и некоторых птиц-рыболовов, имеющих необычайно длинные клювы с отвисшей под ними, наподобие мешочков, кожей. Их оперение превосходит белизной лебединые перья. На близком расстоянии оно кажется телесного цвета, а у основания их перья имеют розоватый оттенок. Невозможно вообразить себе что-либо более прекрасное. Они очень похожи на бакланов.
Времени у наших приятелей было довольно. Поэтому они заглянули еще в оранжереи. Нет слов, чтобы описать красоту и многочисленность апельсинных деревьев и других растений, которые наполняют их; среди них есть такие, которые выдержали сотню зим.
Акант, видя возле себя лишь трех своих приятелей (ибо их провожатый удалился), не удержался и прочел несколько строф, относительно которых его друзья припомнили, что уже видели их в поэме, по манере, сильно напоминающей его музу.
Как, неужели мы на юге?
Вечнозеленую листву
Здесь подчинить не могут вьюги
Зимы суровой торжеству.
Жасмин, цвети, благоухая.
Тебе не страшен ветер злой.
Моя Аминта дорогая
С тобою схожа белизной.
Что сладостнее тешит взоры?
Какой блаженней аромат?
Я все владенья нежной Флоры
Отдам за апельсинный сад.
Плод с кожурой лоснистой, твердой.
Нас чистым золотом дарит.
Такие же сияли гордо
В саду блаженных Гесперид.
А в этом солнцу вместе рады
Осенний плод и цвет весны,
Здесь пышной зрелости услады
С надеждой юной сплетены.
И здесь вокруг дерев не мощных, не ветвистых,
Но опьяняюще-душистых
Играет легкий ветерок.
Пускай огромный дуб, раскидист и высок,
Лишить нас солнца может,
И тень огромных рук своих
Он на арпан земли наложит,
Куда ему до них!
Пробудившийся аппетит принудил их покинуть это прелестное место, но в продолжение всего обеда они только и говорили, что обо всем виденном ими и о монархе, для которого здесь было собрано столько прекрасных вещей. Воздав хвалу его великим добродетелям, ясности его разума, героической доблести и уменью повелевать, — словом, наговорившись о нем вдосталь, друзья вернулись к своей первоначальной теме и сошлись на том, что только один Юпитер способен беспрерывно управлять делами мира сего. Человеку же необходима некоторая передышка: Александр Великий распутничал; Август играл на сцене; Сципион и Лелий развлекались иногда тем, что метали плоские камешки в воду; наш государь находит утеху в сооружении дворцов — занятии, вполне достойном монарха. В некотором смысле он даже способствует общему благу, ибо дает подданным возможность принять участие в удовольствиях государя и с восхищением взирать на то, что создано не для них. Множество прекрасных садов и роскошных зданий приносит славу их родине. А как восхищаются всем этим иностранцы! Как будут восторгаться наши собственные потомки, любуясь шедеврами всех родов искусства!
Размышления четырех наших друзей кончились вместе с их обедом. Они вернулись во дворец и осмотрели его убранство, которое я не стану здесь описывать, ибо оно одно составило бы целый, том. Среди прочих красот их внимание особенно привлекли постель короля, гобелены и кресла в королевском кабинете. Стены здесь обтянуты китайской тканью, рисунок которой заключает в себе всю религию этой страны. Так как поблизости не оказалось брамина, наши друзья ничего во всем этом не поняли.
Из дворца они проследовали в сады и попросили провожатого оставить их одних в гроте, пока не спадет жара; они велели принести им стулья; их пропуска были подписаны столь влиятельным лицом, что всякое их желание исполнялось; дошло до того, что, дабы сделать место, где они находились, более прохладным, приказано было пустить там фонтаны. Грот этот устроен так: он имеет у входа три аркады и соответственно три решетчатые двери. Посреди одной из аркад находится изображение солнца, лучи которого служат затворами для дверей. Трудно придумать нечто более изящное и искусное. А наверху, над аркадами, красуются три барельефа.
На первом — светлый бог у самых врат заката.
Лучи, которыми и пышно и богато
Врата раскрашены — как сноп блестящих стрел,
Ваятель мастерски изобразить сумел.
По сторонам плывут Амуры на дельфинах.
Они, резвясь, шаля на их широких спинах,
К Фетиде божеству прокладывают путь,
Чтоб гостю милому скорее отдохнуть.
Зефиры стаями над волнами порхают,
То появляются Тритоны, то ныряют.
Такие чудеса скрывает этот грот,
Что кругом голова у всякого пойдет.
В нем украшения — какая радость взорам! —
Заставят первенство признать то за скульптором,
То за искусником, что воссоздать здесь мог
Всё, чем прославился морских богов чертог.
На сводах и полу мозаика цветная:
Те камешки, что нам дарит волна морская,
И те, что прячутся в глубоких недрах гор,
Пестро сплетаются в диковинный узор.
На каждой из шести больших опор — по маске
И страшной и смешной, как чудище из сказки.
Какой-то странною изваяны мечтой,
Над нишею они застыли чередой,
А в нише с двух сторон, выпячивая губы,
Сирена и тритон победно дуют в трубы,
Чтоб дальше удалось пустить усилью их
Струю воды из труб — из раковин витых.
У маски изо рта с журчанием потока
Вода течет в бассейн, поставленный высоко,
И в нижний падает, уже как пелена,
И из него бежит, прозрачна и ясна.
Она звенит, поет, и ровен блеск зеркальный,
И эта пелена нам кажется хрустальной,
И наш восторг из ста восторгов состоит.
Когда же нет воды, когда фонтан закрыт,
Коралл и перламутр, ракушки, сталактиты,
Окаменелости, что струями омыты,
И так причудливо сверкают и горят,
Становятся еще пленительней на взгляд.
Под аркой в глубине таинственного грота
Мы видим мраморы искуснейшей работы.
Там гений этих скал, над урною склонен,
В убежище своем вкушает долгий сон.
Из урны бьет поток, и под уклон стекая,
Весь этот грот поит волна его живая.
Лишь в малой степени мой стих передает
Все то, чем славится дворец журчащих вод,
А прочих совершенств он, жалкий, не изложит.
Но ты, чья благодать мой дух усилить может,
Бог света и стихов, Феб, окрыли меня,
Ведь о тебе сейчас хочу поведать я.
Как солнце, утомясь, конец пути завидя,
Для отдыха от дел спускается к Фетиде,
Так и Людовик наш приходит в этот грот,
Чтоб сбросить хоть на миг тяжелый груз забот.
Когда б мой слабый дар был этого достоин,
Король предстал бы здесь как победитель-воин:
Чужие племена у ног его лежат;
Он мечет молнии — враги его дрожат.
Но пусть в других стихах, у музы величавой
Людовик, бог войны, гремит победной славой,
Пусть ею весь Парнас священный потрясен —
Мной будет он воспет, как светлый Аполлон.
Феб отдыхает здесь, под сводами пещеры,
У нереид. Они — как юные Венеры.
Но прелесть этих нимф, не доходя сейчас
До сердца Фебова, чарует только глаз.
Фетиду любит он. Куда им до Фетиды!
Ухаживать за ним стремятся нереиды:
Вот на руку ему Дорида льет струю,
И чашу Клелия подставила свою.
Дельфира подошла омыть ему колена,
И с вазой расписной за ней стоит Климена.
Она вздыхает, ждет, но равнодушен бог.
Один зефир — увы! — подхватит этот вздох.
Порою вспыхнет вдруг лицо ее тревожно
(Насколько покраснеть для статуи возможно).
Я, правда, не скульптор, но тщусь по мере сил,
Чтоб мой читатель все в уме вообразил.
Да, на прелестниц Феб глядит невозмутимо.
Душа его полна единственной, любимой.
Он жаждет одного: забывши обо всем —
О власти, о делах — остаться с ней вдвоем.
Достойно описать чей стих имел бы право
Изящество его осанки величавой,
Столь удивительной и непостижной нам,
Что мы издревле ей курили фимиам?
И кони Фебовы здесь отдых свой вкушают.
Амброзию они, усталые, вдыхают:
Их дышащих ноздрей мы ощущаем дрожь —
Да, совершеннее искусства не найдешь.
Есть в гроте, по концам, две ниши углубленных
С двумя прелестными фигурами влюбленных.
Одна из них — юнец пленительный Акид.
Все волшебство любви его свирель таит.
Он, стоя у скалы, мелодией своею
Как будто приманить стремится Галатею.
Манит не только звук, манит и красота…
Какая нега здесь повсюду разлита!
Вслед за певцом любви стараются и птицы
Искусства своего переступить границы.
Хоть из пружин стальных, покорных току вод,
Здесь сделан соловей, он все-таки поет,
И нимфа скорбная, не знающая смеха,
На песни и слова ответит в гроте Эхо.
Легко звенит свирель и с нею в лад ручей,
И подпевает им согласно соловей.
Две люстры каменных здесь с потолка свисают
И жидким хрусталем, как пламенем, сверкают:
Огонь в них заменен прозрачною струей,
Причудлива игра с послушною водой:
Вот с яшмовой плиты взлетел фонтан-ракета,
Чтоб жемчугом опасть, росою, полной света.
И этот яростный неукротимый взлет
Густыми брызгами по лепке сводов бьет:
Не так стремительно летят из ружей пули.
Свинцом напор воды мы сжали и стянули,
И с ревом ярости бежит она из труб.
Он может оглушить, зато зевакам люб.
Со всех сторон летят, рассеиваясь, струи
И каждому дарят так щедро поцелуи,
Что сторонись иль нет, жаль платья иль не жаль,
А вымочит тебя расплавленный хрусталь.
И в хаосе они еще пышней играют —
Бегут, встречаются, друг друга обгоняют,
Теряются в камнях, кипят меж скал седых,
Сочатся каплями с крутых откосов их.
Нигде от их игры нам не найти спасенья.
Смогу ли описать я этих вод кипенье?
И если б даже твердь мой стих, как гром, потряс,
Всей этой красоты не передаст мой глас.
Но наши четыре приятеля не пожелали мокнуть. Они попросили провожатого приберечь это удовольствие для какого-нибудь горожанина или приезжего немца, а их устроить в уголке, надежно защищенном от воды. Их желание было исполнено.
Когда проводник удалился, они расселись вокруг Полифила, который раскрыл свою тетрадь; откашлявшись, чтобы прочистить горло, он прежде всего прочел следующие стихи:
Крылатый бог любви сам обречен любить,
Он своего не избежал закона,
Уж коль стрела его сумела поразить
Сердца Геракла и Плутона,
Дивиться ли, что этот бог,
Слепой и дерзостный, в игре неосторожной
Стрелой себя поранить мог?
Что это, как сдается мне, возможно,
Пусть вам, друзья, рассказ докажет мой,
В котором я иду по следу Апулея, —
Рассказ о бедствиях и славе неземной,
Сужденных некогда Психее.
После этого вступления Полифил снова откашлялся, как бы приглашая слушателей сосредоточить свое внимание, и так начал свою историю.
Когда города Греции были еще под властью царей, среди этих последних был один, который, царствуя весьма счастливо, не только пользовался любовью своих подданных, но иза привлекал к себе сердца всех соседей. Все они наперебой старались добиться его расположения, каждый старался жить с ним в полном согласии, и все только потому, что у этого царя были три дочери на выданье и всем трем придавала еще больше очарования их собственная прелесть, нежели владения их отца. Двух старших можно было бы назвать самыми красивыми девушками в мире, если бы у них не было младшей сестры, которая сильно портила им дело. Это был единственный их недостаток, но недостаток, правду сказать, огромный, ибо Психея (так звалась их младшая сестра) отличалась всей той прелестью, какую только можно себе вообразить, равно как и тою, которую человек вообразить бессилен. Пытаясь описать ее должным образом, я не стану прибегать ни к сравнениям с небесными светилами, ибо она затмевала их всех, ни к сравнениям с лилиями, розами, слоновой костью или кораллами. Одним словом, она была так хороша, что самый лучший из поэтов вряд ли в силах измыслить нечто подобное.
Неудивительно поэтому, что властительница Киферы возревновала к ней. Богиня опасалась — и не без причины, — как бы ей не пришлось лишиться звания царицы красоты и как бы Психея не захватила ее престол, ибо люди, обожающие все новое, уже готовы были склонить колени перед сей новой Венерой. Киферея уже видела себя изгнанной отовсюду, кроме своих островов, да и на этих блаженных островах, составлявших немалую часть ее владений, амуры, их древние обитатели, толпами покидали свою повелительницу, переходя на службу к ее сопернице. Храмы, некогда переполненные ее почитателями, поросли травою: приношения стали редкими, молящиеся исчезли, паломники больше не являлись туда, чтобы почтить богиню. Дело дошло до того, что Венера пожаловалась сыну, обратив его внимание на то, что такая непочтительность может распространиться и на него.
И говорит, поцеловав его:
Мой сын, дочь смертного в безумном самомненье
Мое оспаривает торжество,
Меня лишает поклоненья.
Быть может, это дерзновенье
Дойдет и до того, что посягнет она
На мой небесный трон, где я царить должна.
И ныне опостылел мне Пафос,
Ведь я оставлена всей свитою моею,
Какой-то вихрь к сопернице унес
Амуров, обольщенных ею.
Венец мой хочет взять Психея,
Ну, что же, пусть берет: и без того сейчас
Она, мой сын, царит и правит вместо нас.
Вот, обойдясь без помощи твоей,
К ней явится герой, могучий и прекрасный,
И самый доблестный из всех людей,
Тебе, Амуру, не подвластный.
От их любви, живой и страстной,
Родится заново всесильный Купидон,
Которым будешь ты, о сын мой, превзойден.
Поберегись же: надо сделать так,
Чтоб, несмотря на все родни ее старанья,
Увел ее уродина, чужак,
Чтоб ведать ей одни скитанья,
Побои, брань и нареканья,
Чтоб тщетно плакала и мучилась она,
В падении своем нам больше не страшна.
Такие преувеличения, в которые впала отчаявшаяся богиня, характерны для женской натуры и женского ума: среди женщин трудно найти такую, которая признала бы, что соперница превосходит ее красотой. Замечу мимоходом, что для представительницы прекрасного пола нет более тяжкого оскорбления, чем когда другая затмевает ее на людях. За такие вещи обычно мстят, как за убийство или предательство.
Но вернемся к Венере. Сын обещал ей отомстить за нее. Успокоенная этими уверениями, она вернулась к себе на Киферу как победительница. Она не умчалась по воздуху в своей колеснице с голубями, а села в перламутровую раковину, запряженную двумя дельфинами. Весь двор Нептуна сопровождал ее. Но это уже сюжет для поэзии: не подобает описывать прозой кортеж морских божеств, да я и не думаю, что вид, в котором предстала тогда богиня, можно передать обычным будничным языком.
И потому теперь в стихах рассказ пойдет,
Как, дивная, она пленила царство вод,
К Киферской гавани плывя по глади синей.
Тритоны угодить стараются богине.
Один вокруг нее резвится, а другой
Кораллы ей несет из глубины морской.
Тот зеркала хрусталь Венере подставляет,
А этот от лучей палящих защищает,
Возница Палемон — знаток морских дорог,
И Главк во славу ей трубит в свой звонкий рог.
Фетида громче петь сиренам повелела,
Боятся ветры дуть стремительно и смело.
Один Зефир шалит, забывши всякий страх,
Играет томно он в Венериных кудрях,
Покров с нее сорвать старается порою.
Волна ревнивая стремится за волною,
Чтоб лаской губ своих, что влажны и чисты,
Коснуться нежных ног богини красоты.
— Это, наверно, было прекрасно! — вскричал Геласт. — Но я предпочел бы увидеть богиню в рощице и одетой так же, как в день, когда она предстала перед пастушком со своей тяжбой.
Друзья с улыбкой выслушали Геласта. Затем Полифил продолжил свой рассказ.
Не провела Венера и месяца на Кифере, как ей стало известно, что сестры ее соперницы повыходили замуж, а их мужья, которые были соседними царями, обходятся с ними весьма нежно и всячески выказывают им свою привязанность; словом, сестры Психеи имеют все основания считать себя счастливыми. Что же касается их младшей сестры, то у нее, которая прежде была окружена несметной толпой поклонников, теперь не осталось ни одного воздыхателя: они исчезли все до одного как по мановению волшебного жезла. Неизвестно, произошло ли это по воле богов, или же в этом и состояла месть Купидона. Психею по-прежнему почитали, уважали, если угодно — восхищались ею, но во всем этом не было того, что мы называем любовью. А между тем любовь — это поистине пробный камень, по которому мы обычно судим о чарах представительниц прекрасного пола.
Отсутствие поклонников у особы, обладающей такими достоинствами, какими обладала Психея, было сочтено чудом и вызвало у народов Греции страх — не приключилось ли с ней чего-то поистине ужасного. В самом деле, тут было чему подивиться. Царство Купидона, как и царство Вод, с незапамятных времен подвержено переменам, но ничего подобного никогда еще не случалось, по крайней мере в тех краях, где жила Психея. Если бы она была только прекрасна, ее одиночество не показалось бы таким удивительным; но, как я уже сказал, она отличалась не одной лишь красотой — ее нельзя было упрекнуть в отсутствии хотя бы одного из тех совершенств, какие необходимы женщине, чтобы вселять любовь. Ее находили тысячу раз достойной любви и не видели около нее ни одного влюбленного.
Дав людям вдоволь натолковаться об этом чуде, Венера объявила, что виновница его — она сама; что таким путем, с помощью сына, она осуществила свою месть; что родители Психеи должны приготовиться к новым бедам, ибо ее ненависть к Психее будет длиться до конца жизни царевны или по меньшей мере до тех пор, пока не увянет ее красота; что тщетно будут они склоняться у алтарей богини и совершать жертвоприношения: единственная жертва, способная ее умилостивить, — это сама Психея.
Однако приносить Венере такую жертву никто не собирался; более того, нашлись люди, которые стали нашептывать красавице, что возбудить ревность Венеры — немалая честь и что женщина, сумевшая вызвать зависть у богини, особенно у такой богини, как Венера, не может быть названа очень уж несчастной.
Психее было бы приятнее выслушать такие любезности из уст влюбленного. Хотя гордость и запрещала ей выказывать свое огорчение, она то и дело тайком плакала. «Что сделала я сыну Венеры? — говорила она себе. — И что сделали ему мои сестры, что они так счастливы? У них сколько угодно поклонников. А я, которая воображала себя самой желанной, теперь утратила их всех до одного! На что мне тогда моя красота? Боги, давшие мне ее, не так уже щедро одарили меня, как полагают некоторые. Я готова вернуть им их дар, лишь бы они оставили мне хоть одного поклонника. Нет такой невзрачной девушки, у которой бы его не было; только одна Психея не может никого осчастливить — видно, она настолько жалка, что не в силах удержать за собой сердца тех, кого послал ей случай. Как мне показаться на людях после такого позора? Беги, Психея! Скройся в какой-нибудь пустыне: раз боги не создали тебя для любви, значит, они не хотят, чтобы люди видели тебя!»
Так сетовала она о своей судьбе, а ее родители скорбели не меньше, чем она сама. Не в силах примириться с мыслью, что дочь их так и останется незамужней, они были вынуждены прибегнуть к помощи оракула. Вот ответ, который они получили вместе с пояснениями, исходившими от жрецов.
Судьба чудовищу отдаст Психею в жены.
Утеха для него — терзать сердца людей,
И слезы жадно пить, и жадно слушать стоны,
Вносить смятенье в мир, смущать покой семей.
Оно, свирепое, по всей вселенной мчится
С горящим факелом раздора и войны.
Трепещут небеса, земля его страшится
И Стикса берега ему подчинены.
Поджечь иль отравить — забава для злодея.
В цепях и стар и млад — на всех клеймо раба.
Пусть ласкою своей его смягчит Психея:
Судили так Амур, и боги, и судьба.
Ведите же ее на тот утес печальный,
Где ждет красавицу чудовищный жених,
И, шествуя, обряд свершайте погребальный:
Она умрет для вас и для сестер своих.
Читатель представляет себе изумление и печаль, вызванные таким ответом. Отдать Психею во власть чудовища! Неужели это справедливо? Понятно, что родители Психеи долго колебались, не зная, следует ли им повиноваться приказанию оракула. Не говорю уже о том, что место, куда им надлежало доставить дочь, не было точно указано. О какой горе говорили боги? Где она — в Греции или в Скифии? Под знаком Медведицы или в знойной Африке, где, как говорят, можно встретить самые различные чудовища? Как решиться покинуть такую нежную красавицу на скале, среди гор и пропастей, оставив ее на волю самого ужасного существа, какое знает природа? И как вообще отыскать это роковое место?
С помощью таких доводов добрые родители Психеи пытались спасти дочь, но она сама убедила их подчиниться оракулу.
— Я должна умереть, — заявила она отцу, — ибо не подобает простой смертной, как я, тягаться с матерью Купидона. Чего вы добьетесь, сопротивляясь ей? Ваше непослушание навлечет на вас еще более суровую кару. Какова бы ни была моя участь, я утешусь уже тем, что не буду больше причиной ваших слез. Освободитесь от Психеи, чье исчезновение принесет вам счастливую старость! Не препятствуйте небу покарать виновную, к которой вы питали любовь и которая так плохо вознаграждает вас за тревоги и заботы о ней, доставленные ею вам, когда она была ребенком.
Пока Психея говорила все это, старик отец глядел на нее сквозь слезы и отвечал лишь вздохами. Но скорбь его была ничто в сравнении с отчаянием его супруги, которая то металась с растрепанными волосами по храмам, то осыпала проклятиями Венеру, то прижимала Психею к груди и уверяла, что скорей умрет, чем допустит, чтобы у нее отняли дочь и отдали ее чудовищу. Тем не менее пришлось смириться и ей.
В те времена оракулы имели над людьми необычайную власть. Человек нередко сам упреждал свою беду, лишь бы не показалось, что оракул мог солгать, — так сильны были предрассудки у первых людей! Трудность заключалась лишь в одном: как узнать, на какую гору надо отвезти Психею?
Несчастная девушка устранила и это сомнение.
— Посадите меня, — сказала она, — в повозку без вожатого и проводника, и пусть лошади везут меня, куда им вздумается: случай направит их в надлежащее место.
Я не хочу сказать, что наша красавица, умевшая найти выход из всякого положения, смотрела на дело подобно многим другим девушкам, считая, что лучше получить злого мужа, чем совсем никакого. Мне кажется, примириться со своей судьбой ее заставило не что иное, как отчаяние.
Как бы то ни было, решено было тронуться в путь. Чтобы выполнить все веления оракула, шествию придали вид похоронной процессии. Наконец, оно двинулось. Психея отправилась в дорогу, сопровождаемая своими родителями. Вот она сидит на колеснице из слоновой кости, облокотись на стоящую рядом с ней урну и склонив голову на грудь матери, меж тем как отец шагает рядом и при каждом шаге тяжело вздыхает, а за ним следует множество людей в траурных одеяниях и толпа жрецов, совершающих похоронные обряды и жертвоприношения. В руках у жрецов высокие сосуды и свирели, под звуки которых они тянут свои унылые песнопения.
Соседние племена, дивясь необычному зрелищу, не знали, что и подумать. Те из них, по чьей земле проходило шествие, примыкали к нему и следовали до границы своих владений, распевая гимны во славу их юной богини Психеи и устилая путь ее розами, хотя распорядители похорон и кричали им, что, действуя так, они наносят оскорбление Венере. Тщетные усилия! Эти добросердечные люди не могли сдержать свое рвение.
После нескольких дней дороги, когда путники уже начали сомневаться в правдивости оракула, они, огибая какую-то очень высокую гору, были поражены тем, что их свежие и недавно накормленные лошади вдруг круто остановились и, несмотря на все понукания, не двигались с места. Крики и плач возобновились — все решили, что это и есть та гора, которую имел в виду оракул.
Психея сошла с колесницы и, заняв место между отцом и матерью, в сопровождении всех остальных, вошла в небольшую весьма приятную на вид рощу. Но не успели путники углубиться в лес, идя все время в гору, и на тысячу шагов, как очутились в скалистой местности, населенной всякого рода драконами. Если не считать этих ее обитателей, местность была настоящей пустыней и притом самой ужасной в мире: вокруг ни деревца, ни травинки, ни тени — ничего, кроме островерхих утесов, нависавших над головами, лишенных какой-либо опоры и грозивших вот-вот обрушиться и раздавить путника. Некоторые из них были во многих местах изрыты горными потоками и служили убежищем для гидр — животных, весьма распространенных в этих краях.
Все замерли, охваченные таким ужасом, что если бы не необходимость покориться судьбе, они тотчас же вернулись бы домой. Итак, они стали взбираться на гору. Однако чем больше они приближались к верхушке, тем круче становилась дорога. Наконец, после множества поворотов тропинки, они оказались у подножия гигантского утеса на самом гребне горы. Тут-то и решено было оставить несчастную девушку.
Описать, до чего дошла общая скорбь, не в моих силах.
И красноречия высокое искусство
Бессильно выразить в словах такие чувства.
Ужасен этот миг прощанья: для него
Молчанье скорбное пристойнее всего.
Нет, я не расскажу, как плакала Психея,
Как материнский вопль при расставаньи с нею,
Стократ повторенный могучим эхом скал,
Протяжным рокотом в ущельях пробежал.
Пусть избавления от гибельной невзгоды
У солнца молит мать, у звезд, у всей природы, —
К ее моленьям глух немилостивый рок,
Расстаться навсегда приходит страшный срок.
От сердца матери Психею оторвали,
И Солнце, помрачнев от гнева и печали,
Старается быстрей уйти за океан
И принести рассвет народам новых стран.
Еще угрюмей стал весь это край нагорный.
Нисходит тихо ночь на колеснице черной,
И тайным трепетом широкий мир объят.
Немалой была и доля участия, которое во всем этом принимала Психея. Читатель представляет себе, каково девушке, брошенной в полном одиночестве среди ужасной пустыни, да еще ночью! Все рассказы о духах и привидениях сразу припомнились ей. Она едва решалась раскрыть рот, чтобы всхлипнуть.
В таком вот состоянии, полумертвая от страха, она вдруг почувствовала, что какая-то сила подняла ее на воздух. Психея подумала, что ей пришел конец: некий демон унесет ее в края, откуда нет возврата. На самом же деле это был Зефир, который сразу рассеял ее страхи, сообщив, что ему приказано похитить ее и доставить к жениху, предсказанному оракулом, и что он, Зефир, состоит на службе у ее супруга. Психее было очень приятно то, что рассказал ей Зефир: он одно из самых любезных божеств. Верный служитель Купидона, с усердием исполняя желания своего господина, вознес ее на вершину горы. Перенесенная им по воздуху с превеликим для нее удовольствием, которым она, впрочем, предпочла бы насладиться в другое время, Психея внезапно очутилась во дворе великолепного дворца. Наша героиня, уже начавшая привыкать к необыкновенным приключениям, овладела собой и принялась рассматривать этот дворец при свете факелов, столь ярко освещавших окна, что небо, где пребывают боги, никогда, еще не было так озарено.
Пока Психея взирала на все эти диковины, на пороге дворца появилась толпа нимф, и самая представительная из них, отвесив Психее глубокий поклон, приветствовала ее краткой речью, которой та вовсе не ожидала. Однако она сумела с достоинством выйти из затруднительного положения. Первое, о чем она осведомилась, было имя властелина этих прелестных мест; затем она, естественно, выразила желание его увидеть. Нимфы ответили на это несколько уклончиво и проводили ее в прихожую, откуда открывался вид, с одной стороны, на двор, с другой стороны, на сады. Психея нашла, что прихожая не уступает в роскоши прочим помещениям дворца. Из прихожей ее провели в залы, которые, казалось, украсило само великолепие: каждая из них неизменно затмевала блеском предыдущую. Наконец, наша красавица прошла в помещение, где для нее была приготовлена баня. Тотчас же нимфы принялись раздевать ее и всячески ей прислуживать. Психея сначала немного противилась, но потом отдала свою особу в полное их распоряжение. Выйдя из бани, она позволила облачить, себя в брачные одежды. Пусть читатель сам представит себе их изящность, а я лишь уверю, что на отделку их пошло более чем достаточно брильянтов и других драгоценных камней. Правда, это была работа фей, за которую обычно платить не приходится. Психея изрядно обрадовалась, почувствовав себя такой нарядной: она долго любовалась своим отражением в зеркалах, которых в помещении было сколько угодно.
Произведения
Критика