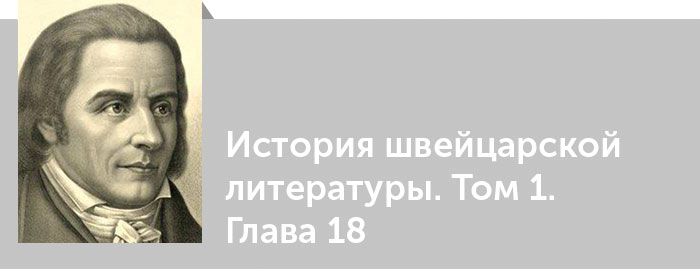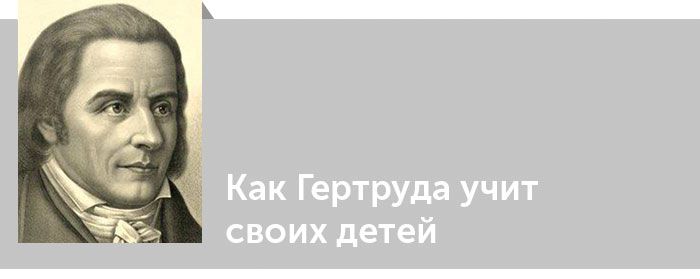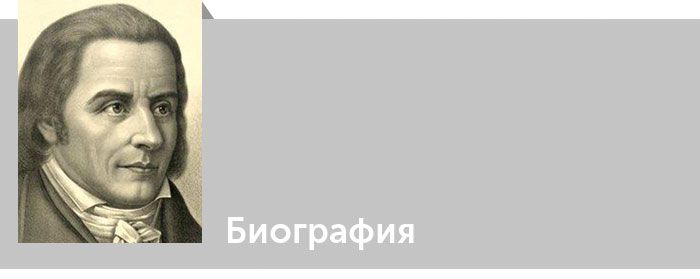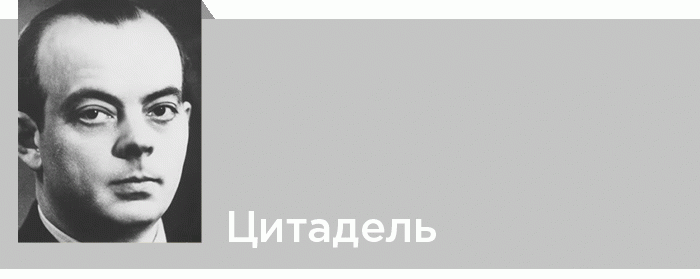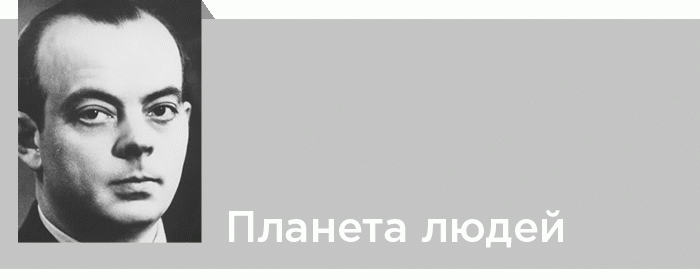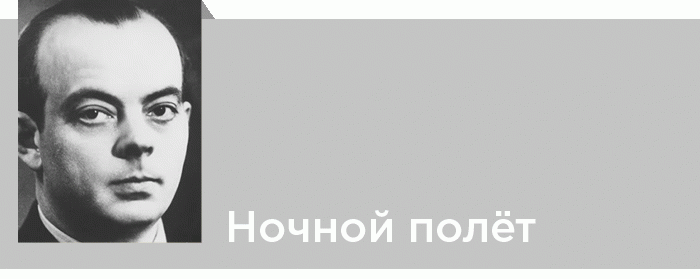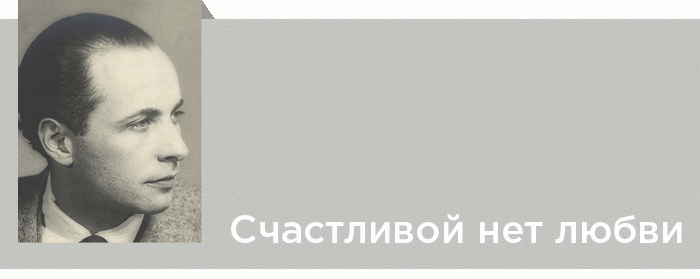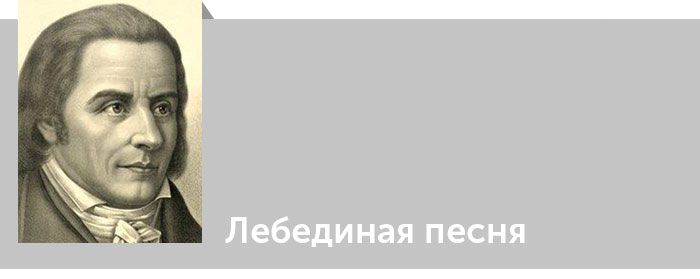Биография Теодора де Беза

Место Теодора де Беза (ориг. Théodore de Bèze, 1519-1605)1 в литературном процессе романдской Швейцарии не просто очень значительное и даже ключевое. На примере творческого пути этого крупного литератора, заслуги которого безоговорочно признавала вся Европа (причем, совсем не только франкоязычная), очень хорошо видны пути и судьбы культуры в кальвинистской Женеве, сильные и в еще большей степени слабые стороны той кальвинистской культурной политики, которую последовательно и целеустремленно насаждал в своем теократическом государстве апостол новой веры, хотя он и не был официальным главой этого государства.
Без был вторым — после Кальвина — политическим деятелем Женевской республики и ее самым талантливым и плодовитым писателем, одним из самых глубоких мыслителей и ученых. При этом, при всей исключительности и неординарности его общественной роли, жизнь его и его писательская карьера поразительно типичны для его времени, являя собой некий своеобразный эталон (но все-таки не образец для подражания). Творческую и чисто человеческую судьбу Беза повторили очень многие его современники.
Теодор де Без был выходцем из кругов состоятельной французской провинциальной буржуазии, т. е. он не был коренным швейцарцем (как и Кальвин, как и Агриппа д’Обинье). Без родился в старинном бургундском городе Везле в 1519 г. Среди членов его семьи в какой-то момент получившей дворянское звание, были не только удачливые торговцы, но и государственные чиновники. Так, отец писателя, некий Пьер де Без, был местным бальи (судьей), а один его дядя, Никола де Без, был членом парижского парламента, и именно он занимался на первых порах воспитанием своего юного племянника, рано оставшегося сиротой. Никола де Без привез юношу в Париж, где тот поступил в обучение к Мельхиору Вольмару Роту (1497-1560), немецкому гуманисту, убежденному стороннику церковной реформы. Молодой де Без воспринял от своего наставника интерес к новым идеям, а кроме того — прекрасное знание латыни и греческого и вообще античной культуры. Что касается “новых идей”, то вначале это был типичный для деятелей раннего французского Возрождения “евангелизм”, т. е. стремление очистить текст Библии от позднейших толкований и, следовательно, — вернуться к первоначальным основам христианства. Но очень скоро — и в сознании Беза, и в теории и практике его старших современников — “евангелизм” преодолел чисто филологические рамки и стал наполняться острым политическим содержанием.
Теодор де Без не был, хотя бы по молодости лет, активным и, главное, влиятельным участником этого процесса; он был, скорее, его заинтересованным свидетелем. Но набиравшая обороты религиозная полемика и политическая борьба вовлекли его в свою орбиту. В 1534 г., после так называемого “дела об афишах” (антипротестантской провокации, ставшей первой ласточкой грядущих религиозных войн), Без и его учитель были вынуждены покинуть Париж. Они перебрались в Бурж, затем в Орлеан, где Без и завершил свое юридическое образование. Произошло это в 1539 г. Вольмар Рот вернулся в Германию; Без не был замечен в каких бы то ни было предосудительных поступках и смог безбоязненно вернуться в Париж.
Здесь он предался соблазнительнейшим удовольствиям столичной жизни, но и хорошо зарекомендовал себя в кругу гуманистов: к суждениям двадцатипятилетнего Беза прислушивались, ибо знания его были действительно незаурядными. В Париже Без занимался отнюдь не одними гуманистическими штудиями: как раз на эти годы приходится и его пылкое любовное увлечение некоей молодой привлекательной парижанкой. Этот роман, полный бурных переживаний и чувственных удовольствий, продолжался достаточно долго.
Молодые забавы, внимательное штудирование жизнелюбивой и достаточно эротичной лирики древнеримских поэтов (Овидия, Горация, Катулла и др.), остро пережитое любовное чувство — все это отразилось на раннем творчестве Беза. Как и многие его современники, он написал немало латинских стихотворений во вполне определенном духе, подражательных, конечно, но отмеченных и известной искренностью, и незаурядным профессионализмом. Большинство из этих ранних поэтических опытов Теодора де Беза вошло в книгу “Poemata juvenilia”, изданную в 1548 г. Вдохновляясь прежде всего Овидием, Без описал свои любовные переживания с нарочитой откровенностью. Его возлюбленная, героиня этих стихотворений, которой поэт дал условное имя Кандида (т. е. Скромная), чувственно привлекательна, капризна, непредсказуема в своих прихотях и порывах. Не приходится удивляться, что деятели кальвинизма сурово осудили де Беза за эти грехи молодости, но еще более сурово подошел к своему юношескому творчеству он сам: переиздавая в 1587 г.,уже в Швейцарии, этот свой поэтический сборник, поэт исключил из него все мало-мальски чувственные признания и тем более — соблазнительные пассажи. В таком виде эта книга представляла собой уже не взволнованный лирический дневник (или хотя бы попытку имитации его), а собрание ученых гуманистических упражнений, где автор выступал уже не поэтом, а умелым версификатором. Эта губительная самоцензура (впрочем, мы можем это только предположить) окрасила все последующее творчество де Беза и стала отличительной чертой литературной жизни в кальвинистской Женеве.
В 1548 г. Без перенес какую-то тяжелую болезнь. Она, однако, не подорвала его здоровье, не сломила дух, но послужила сигналом к некоторому отрезвлению, даже к раскаянию в молодых проказах. Мы не можем сказать, что в душе писателя произошел быстрый и решительный переворот. Перелом этот был чисто внешним и готовился исподволь, благодаря тем размышлениям и сомнениям, которым писатель предавался в юности, и под влиянием тех моральных уроков, которые преподал де Безу его наставник. Так или иначе, Без решил распроститься с бездумным, но таким будоражащим и приятным времяпрепровождением, каким он наполнил свою жизнь в Париже. В октябре все того же 1548 г. Без покидает прельстительную столицу и ее не вполне благочестивые удовольствия и уезжает в провинцию. Там было меньше соблазнов, но и меньше обременительного церковного надзора. Здесь можно было в большей безопасности углубиться в евангелическое учение и внести свой вклад в его пропаганду. Очень скоро Теодор де Без добрался до швейцарских земель. И в этом жизненные перипетии де Беза типичны для его времени: в Швейцарию, в Женеву уезжали многие гуманисты и поэты; одни из них оставались там навсегда, для других же (например, для Клемана Маро или Бонавантюра Деперье) Женева оказывалась временным пристанищем. Последнее стоит особо отметить: наиболее талантливые и свободолюбивые литераторы, живо интересовавшиеся Реформацией и искренне увлекавшиеся ее идеями, все-таки в Женеве не уживались и через какое-то время покидали ее. Теодор де Без оттуда не уехал. Он решительно и, видимо, очень сознательно сделал свой выбор. Он трезво и бесповоротно обозначил в своей личной жизни, жизни общественной и в творчестве определенный рубеж.
Принять такое решение Беза вынудили прежде всего, конечно, внутренние побудительные причины (ведь парижские грешки не сделали его человеком нерелигиозным), но были и внешние, не менее значительные. После смерти в 1547 г. французского короля Франциска I, этого “отца изящной словесности”, для писателей и гуманистов наступили новые времена. Новый король, Генрих ІІ, и особенно его жена Екатерина Медичи совсем не сочувствовали идеям Реформации. Завершившийся первый этап Тридентского собора (1545-1547) был отмечен началом активного наступления на протестантизм. Против сторонников новой веры начались жесткие гонения. Сорбонна осудила публикации переводов Библии, вышедшие из-под пера видных гуманистов (Робер Этьен и др.). Таким образом, переезд Теодора де Беза в Женеву был во многом вынужденным: это было бегством от преследований и желанием оказаться среди единомышленников, где было бы можно заниматься тем, чему он решил отныне посвятить свою жизнь, — проповедью, защитой и прославлением протестантизма.
Впрочем, по приезде в Швейцарию Без не порывает со своими гуманистическими интересами. Так, свою новую деятельность он начинает с преподавания древнегреческого языка в Академии Лозанны (1549). Но продолжалась такая профессорская жизнь не очень долго. Без появился в Швейцарии, когда там (точнее, в Женеве) кальвинистская Реформация не только одержала полную победу, но и упрочила свое безраздельное господство. Теократическое государство Кальвина было создано. Оно нуждалось, однако, в деятелях убежденных, решительных и даже безжалостных. И талантливых, конечно. Кальвин скоро понял, что на Беза вполне можно положиться, вот почему он сделал его своим доверенным лицом, соратником, наконец, преемником.
Одной из первых “проверок на прочность” оказалось для Беза дело Мигеля Сервета, злополучного испанского гуманиста, вырвавшегося из застенков католической инквизиции, но не ускользнувшего от кальвинистов. Как известно, эти убежденные борцы со старым оказались еще более нетерпимыми и бесчеловечными, чем их былые оппоненты. Так или иначе, Сервет был в Женеве схвачен, судим, признан еретиком и без долгих разговоров публично сожжен. Произошло это 27 октября 1553 г. Столь жестокая и безапелляционная мера наказания потрясла международное сообщество гуманистов. Гуманисты-протестанты не были здесь исключением. Наиболее взволнованным и искренним было выступление Себастьяна Кастельона (1515-1563)2, базельского профессора, последовательного сторонника идей Эразма Роттердамского. В своем трактате “О еретиках, коих нельзя подвергать казни” (De haereticis gladio non puniendis) он отстаивал идеи веротерпимости и человеколюбия, права личности на свободное исповедание своей религии, даже на колебания и сомнения. Этот трактат был направлен, конечно, прежде всего против Кальвина (с которым Кастельон ввязывался в ожесточенную полемику чуть ли не с момента своего появления в Швейцарии), но, бесспорно, выходил за рамки выяснений личных отношений. Но ответил Кастельону не Кальвин, а, вероятно, по его поручению, Теодор де Без. В 1554 г. он выпустил брошюру “ De haereticis а civili gladio puniendis” (“О том, что еретиков следует предавать публичной казни”). Брошюра была написана не столько убедительно, сколько убежденно. В своей жестокости де Без не знал сожалений и сомнений. Как всякий неофит и как человек, принадлежащий к определенной партии, которая захватила власть и стремится любыми способами ее удержать, Без был бескомпромиссен и радикален в своих воззрениях и в тех практических выводах, которые из подобных воззрений вытекали. Дело Сервета и участие Беза в полемике вокруг этого дела — еще один существенный поворот и в его жизни, и в его воззрениях, а следовательно, и в творчестве. Отметим, что самое значительное литературное его произведение — трагедия “Жертвоприношение Авраама” — было создано за несколько лет до казни Сервета.
Со временем Теодор де Без стал наиболее надежным соратником Кальвина не только как идеолог и публицист. На его плечи легли обязанности и чисто государственные. Прежде всего — дипломатические. Вот почему ему приходилось не раз отправляться с важными дипломатическими миссиями, составлять соответствующие документы, официальные послания и т.д. Приближенный Кальвина, которому тот доверял в наибольшей степени, Без, однако, довольно долго пробыл в Лозанне. Впрочем, возможно, Кальвин сознательно держал его там: тем самым этот город постоянно находился под соответствующим наблюдением, и угроза его “отпадения” совершенно исключалась. В 1559 г. Без был наконец допущен в Женеву, где он стал одновременно протестантским священником и университетским (“академическим”) профессором. Начавшаяся гражданская война во Франции (на конфессиональной почве) заставила его отправиться на свою былую родину, принять участие в переговорах в Пуасси (1561), где он выступил с несколькими яркими речами (они тут же были напечатаны), примкнуть к армии гугенотов, возглавляемой принцем Конде, быть очевидцем жестокой “резни в Васси” (март 1562 г.), во время которой погибли многие активные сторонники протестантизма, и битвы при Дрё (1562), где Франсуа де Гиз нанес жестокое поражение армии протестантов. После заключения так называемого Амбуазского мира, положившего конец первой религиозной войне (1563), Без возвратился в Женеву. По смерти Кальвина (5 мая 1564 г.) Без тут же сделался его восторженным биографом и, по сути дела, создателем “кальвинистской легенды”.
Как и сам Кальвин, де Без не был юридическим главой кальвинистской церкви и тем более Женевской республики (впрочем, он возглавлял местную Консисторию). Но авторитет его был чрезвычайно велик, поэтому он выступал по важнейшим политическим и религиозным вопросам, продолжал постоянно произносить проповеди и обучать в Женевской академии будущих протестантских пасторов. Но главное, чем он занимался в последний период своей жизни, был труд историка, о чем мы еще скажем. Без прожил долгую жизнь, он скончался в Женеве 13 октября 1605 г.
Итак, разносторонне образованный гуманист, талантливый литератор, Теодор де Без на протяжении своего долгого творческого пути не столько раз за разом раскрывал свои способности и реализовывал возможности, сколько старательно и последовательно ограничивал их, направляя в строго определенное русло. Перед нами бесспорно трагедия большого художника, поставившего свой талант на службу определенной партии и поэтому неизбежно сузившего и даже извратившего его. Мы не знаем, насколько Без сознавал все это. Скорее всего, не сознавал — настолько он подчинил себя идеям, взглядам, методам Кальвина. Он вряд ли ощущал, что с появлением последнего в Женеве уклад города очень скоро существенным образом изменился. Он прибыл в Женеву значительно позже Кальвина (тот впервые приехал в Женеву в 1536 г., приглашенный туда Гийомом Фарелем, но на первых порах пропаганда новых идей шла там не очень гладко, и Кальвин с Фарелем в 1538 г. даже вынуждены были покинуть город; окончательно утвердился в Женеве Кальвин в 1541 г.), и Безу уже не с чем было сравнивать. Партийный дух пронизал все его творчество, свою принадлежность к партии, свой долг перед ней он не уставал подчеркивать и подтверждать делом. Отметим, что кальвинистскую Женеву посещали многие, кто разделял идеи Реформации, но созданная в городе гнетущая атмосфера нетерпимости, сыска и слепого подчинения установлениям новой веры их отталкивала, и они задерживались здесь обычно на самое короткое время. Трагедия Беза — это трагедия очень многих его современников, но в отличие от самых ярких из них (например, Агриппы д’Обинье), которые постоянно нарушали правила партийного “поведения”, де Без стал во многом и создателем этих правил, и их неукоснительным блюстителем.
Теодор де Без очень осознанно выбрал свой жизненный путь, и лишь в первом его произведении, созданном в Швейцарии (в трагедии “Жертвоприношение Авраама”), выплеснулся наружу трагический конфликт между человечностью и религиозными установлениями, между естественными чувствами любви, жалости, сострадания и чувством долга. Затем трагическое восприятие действительности из произведений писателя уходит, и они предстают, при всем их жанровом разнообразии, почти монолитным идеологическим единством.
Творческое наследие Теодора де Беза достаточно велико и многообразно.
Отметим прежде всего, что он был едва ли не первым и бесспорно одним из самых талантливых историков кальвинизма. Уже в год смерти своего учителя, в 1564 г., Без выпустил в Женеве краткую, энергичную, естественно насквозь апологетичную “Жизнь Кальвина”. Затем эта книга им неоднократно переиздавалась, каждый раз с небольшими поправками и дополнениями, и стала почти обязательным чтением всех сторонников новой веры. Без постарался нарисовать правдивый и одновременно привлекательный образ Кальвина, высветить его высокие моральные качества, твердость убеждений, силу воли, преданность делу, личную незаинтересованность в земных благах и скромность (привычный набор качеств почти обожествляемого вождя). “Жизнь Кальвина” Теодора де Беза — это, скорее, не сочинение беспристрастного (и даже пристрастного) биографа, а яркого партийного публициста. Именно этой книгой были заложены основы того мифа о Кальвине, который оказал воздействие как на распространение протестантизма, так и на всю последующую кальвинистскую историографию.
Более объективен Без в своей трехтомной обстоятельной “Религиозной истории реформированных церквей во Франции, в которой правдиво описаны их появление и распространение с 1521 по 1563 г.” Эта книга, возможно, не была целиком написана Безом, он мог быть лишь ее редактором, но все, что в ней говорится, вполне соответствовало его взглядам. Эта работа, также много раз переиздававшаяся, впервые увидела свет в 1580 г. Элементы ретроспективного взгляда на недавнее прошлое придали книге более спокойный, уравновешенный тон; кроме того, книга насыщена огромным фактическим материалом, что делает ее ценнейшим источником по истории Реформации: ведь Без сам был непосредственным участником многих описываемых здесь событий, он повествовал о том, что хорошо знал и пережил.
Но, пожалуй, одним из самых популярных произведений де Беза были его “Правдивые портреты достославных мужей” (“Vrais Portraits des hommes illustres en piété”). В 1580 г. они были изданы на латинском языке, но уже в следующем году вышел их французский перевод. Как и трехтомная “Религиозная история”, “Портреты” содержат массу сведений, но — главное — очень меткие и яркие характеристики деятелей реформаторского движения, характеристики, конечно, предвзятые и далеко не всегда верные, что вполне понятно в устах писателя, стоящего на ясных, но ограничительных партийных позициях.
Если Теодор де Без был снисходителен и терпелив по отношению к деятелем своей партии, то он был яростен и нетерпим, когда ему приходилось писать о своих идейных противниках. Причем, как это всегда бывает в литературе партийной, особый его гнев вызывали не представители противоположного лагеря, а отступники или сомневающиеся и даже просто недостаточно ярые поборники их общей доктрины (это, например, обнаружило себя в “деле Сервета”, в полемике де Беза с “мягкотелым” Себастьяном Кастельоном).
Рядом с историческими и полемическими трудами Теодора де Беза, так или иначе связанными с пропагандой протестантизма (в его кальвинистском обличии), следует поставить теологические работы писателя. Это в основном — многочисленные проповеди и толкования Священного Писания, с которыми он постоянно выступал с церковной кафедры, а затем и печатал.
Как писатель религиозный де Без имел среди деятелей Реформации немало предшественников и современников-единомышленников. Наиболее талантливыми из них, помимо Кальвина, были Гийом Фарель (1489-1565)3 и Пьер Вире (1511-1571)4. Первый из них, Фарель, был уроженцем Франции, там приобщился к новым идеям и переселился в Швейцарию по политическим и, конечно же, религиозным убеждениям. Он стал едва ли не первым значительным пропагандистом новых идей в романдских кантонах. Его деятельность протекала в основном в Невшателе, как и Пьера-Робера Оливетана (1495—1538)5, организовавшего перевод Библии на французский язык, соперничавший с известнейшим переводом Жака-Лефевра д’Этапля и также, конечно, осужденный католической церковью. И хотя работа Лефевра была более удачной, в протестантских кругах перевод Оливетана продержался очень долго. Фарель оставил немало теологических сочинений, отличающихся яркостью языка, но не очень глубоких по мысли. Это были труды популяризатора. Другой современник де Беза, Вире, был едва ли не единственным среди соратников Кальвина коренным швейцарцем. Он родился на берегах Женевского озера, но умер во Франции, куда отправился, дабы преподавать теологию в южных департаментах страны, где были весьма распространены реформаторские идеи. Обширное творческое наследие Вире тоже состоит из сочинений по религиозным вопросам, но по своей форме они более самостоятельны и свободны, чем труды других религиозных проповедников. Вире охотно прибегал, в полемических целях, к форме диалога, что позволяло ему использовать всевозможные сатирические приемы, и при этом он не гнушался ни яркой образности, ни стилистической раскованности. Вот почему у него не без основания находят отдельные заимствования у Рабле и вообще мощное воздействие автора “Гаргантюа и Пантагрюэля”.
Не прошел мимо такого воздействия и Теодор де Без. Им, этим воздействием, отмечены все его сатирические произведения, которыми он не брезговал, ведя оживленную полемику по политическим и религиозным вопросам. Впрочем, эта сторона его деятельности изучена все еще не полно. К тому же ряд вышедших из протестантских кругов сочинений сатирического, памфлетного характера, которыми столь богата была эпоха, приписывался де Безу без достаточных оснований. Но эти ошибочные или сомнительные атрибуции говорят о многом: современники видели в Безе такого непререкаемого классика религиозной полемики, что относили на его счет все мало-мальски талантливое и яркое в этой области. Так, одно время с его именем связывали “Будильник французов и их соседей” (Le Reveille-matin de François, 1574), отмеченный особым остроумием и язвительностью. Действительный автор этого примечательного произведения неизвестен, но нет также и никаких достоверных сведений о принадлежности его Теодору де Безу. Случалось, что Беза принимали за автора произведения совсем не анонимного, например “Комедии о больном и плохо лечимом папе” (La Comédie du pape malade et tiran à sa fin, 1561). Автором этого остроумного произведения был гуманист и издатель Конрад Бадиус (1510-1562). Комедию эту стоило бы отметить в ряду других сатирических произведений эпохи.
С большим основанием Беза можно считать автором сатирического “Послания магистра Бенедикта Пассавана” (Epistola magistri Benedicti Passavanti, 1553). В этой небольшой книжке, написанной макаронической латынью, Без, несомненно, взял за образец “Письма темных людей” Ульриха фон Гуттена и Крота Рубеана, изобразив простодушного и недалекого католического правоведа и богослова Пьера Лизе, задавшегося целью своими пространными “научными” рассуждениями сокрушить протестантизм. Все это искрится юмором вполне в раблезианском духе.
Злой и язвительной сатирой является написанная Безом, уже по-французски, “История папистской карты мира” (L’Histoire de la Mappemonde papistique, 1566). В этой книге высмеиваются различные компоненты католического культа и церковных установлений — монашество, паломничество, покаяние, месса, столп “учености” — Сорбонна и т.д.; все это изображено как отдельные провинции, входящие в некое новое королевство, “полное удовольствий, богатств, развлечений и празднеств”. Здесь явственно чувствуются творчески усвоенные уроки Рабле. Это особенно очевидно в живых и веселых описаниях всеобщего обжорства и пьянства, царящих в этом королевстве, в рассказах о погребах и чуланах, ломящихся от всевозможных съестных припасов, о пылающих жаром огромных очагах, на которых жарится и варится разнообразнейшая снедь, о покрытых многолетней пылью бочках в винных подвалах и т.п. Буйство красок и острый гротеск Питера Брейгеля (его “кермесс”, “Страны Кокань” и т.д.) соединяются здесь с едкой иронией и грубоватым смехом автора “Гаргантюа и Пантагрюэля”. Впрочем, Безу все-таки далеко до неудержимой изобретательности и неистощимой фантазии Рабле; некоторое однообразие приемов, повторы, а также прорывающаяся порой желчность, заступающая место неуемного юмора и хлесткой сатиры, несколько умаляют литературные достоинства этого произведения Беза.
Сатирическая линия в литературе романдской Швейцарии, к которой принадлежит и “История папистской карты мира” Теодора де Беза, так или иначе оказалась связанной с теми идеологическими процессами, которыми была отмечена жизнь франкоязычных кантонов на протяжении почти всего XVI столетия. Эта сатирическая литература, однозначно антикатолическая по своей направленности, возникла еще до появления в Женеве Кальвина, отразив тем самым господствовавшие среди широких городских кругов настроения.
Ярким памятником “докальвиновской” сатирической литературы стало аллегорическое “Моралите о болезни христианства” (Moralité de la maladie de chrétienté) Тома (или Матье) Маленгра (конец XV в. — 1572), священника из Невшателя. В этой пьесе перед зрителями проходят аллегорические действующие лица, столь привычные по средневековым пьесам, — Вера, Надежда, Доброта, Христианство, Грех, Лицемерие, Стяжательство и т.п. В то же время есть в “Моралите” и вполне реальные, взятые из жизни персонажи — Доктор, Аптекарь, Слуга, Слепец. Как и в большинстве средневековых пьес, в произведении Маленгра наивный аллегоризм сочетается с чисто бытовыми, реалистическими деталями. Таковы сцены со Слепцом и его Поводырем, олицетворяющими простой народ, нищий и бесприютный, или с Доктором, щупающим у Христианства пульс и рассматривающим и нюхающим его мочу.
Тома Маленгр пользовался, и достаточно широко, внешними приемами старого средневекового театра. Новой стала идеологическая основа произведения. Что же, по мнению автора, в действительности губит христианство? Ответ очевиден: разложение римско-католической церкви. Антикатолическая, даже в известной степени антицерковная направленность “Моралите” Маленгра в пьесе высвечена достаточно определенно. Не приходится удивляться, что автор вложил в свою критику христианства народную ненависть к лицемерию и стяжательству церковников и уравнительные тенденции, столь типичные для эпохи перехода от Средних веков к Новому времени.
По мнению Маленгра, все церковные установления служат лишь одной цели — угнетению честных тружеников (заметим, что речь идет об установлениях католической церкви, хотя этот оттенок, столь важный для всех сочинений, вышедших из-под пера кальвинистов, у Маленгра не получает еще достаточной определенности). Христианство излечивается в этой пьесе лишь испив эликсира, настоянного на языках человека, льва, быка и орла (символы четырех евангелистов), т. е. окончательно отвернувшись от папистов и обратившись к истинной вере.
Написанная энергичными, подчас страстными стихами пьеса Маленгра была первым ярким драматическим произведением, проникнутым духом Реформации, но Реформации еще докальвинистской, лишенной сектантской узости и нетерпимости “апостола новой веры”.
Между прочим, весьма показательно и симптоматично отношение Кальвина к театру. На исходе Средневековья и в первые десятилетия XVI в. драматургия была одним из самых популярных, развитых и демократических (из-за особенностей своего бытования) жанров швейцарской литературы. Здесь постоянно ставились мистерии, приуроченные к тем или иным датам церковного календаря, но также моралите и фарсы, особенно в дни ярмарок и масленичного карнавала. Вообще без театральных представлений не обходилось ни одно значительное событие в жизни города, которая была отмечена определенным достатком, общительностью и праздничностью. Все стало меняться с приездом в Женеву Кальвина. На протяжении всей своей деятельности в Женевской республике он упорно боролся с театром. Уместно напомнить об одном примечательном эпизоде: непримиримость Кальвина по отношению к театру натолкнулась однажды на сопротивление городского магистрата, настоявшего в 1546 г. на разрешении показать горожанам многочастную мистерию “Деяния апостолов”, одно из любимых женевцами драматических произведений. Начиная с 1540 г. со сцен швейцарских городов постепенно исчезают фарсы, моралите, мистерии, т. е. основные жанры средневекового театра. На смену им отчасти приходит ученая драма, как правило, написанная на латинском языке. Старания Кальвина не прошли даром, его борьбу с театром достойно завершили его ревностные последователи: в 1617 г. женевская Консистория окончательно запретила театр, вообще какие бы то ни было публичные представления. Ради справедливости отметим, что гонения на театральные постановки прокатились по многим странам Европы. Но там это была неосознанная борьба с любительством, борьба за профессиональный театр и соответствующую ему гуманистическую, ренессансную драматургию. По крайней мере, таков был объективный смысл этой борьбы, и это, как известно, принесло такие замечательные плоды. Лишь в Швейцарии театр был подавлен и затем уничтожен и смог возродиться лишь через много десятилетий.
Как известно, для гуманистической литературы было характерно (и это легко объяснимо) широкое развитие различных эпистолярных жанров — от торжественного послания до дружеского и даже интимного письма. И здесь Теодор де Без показал себя незаурядным мастером. Его эпистолярное наследие очень обширно (оно еще не все опубликовано и изучено) и сопоставимо с эпистолярным наследием Эразма Роттердамского, не говоря уже о других гуманистах Европы XV или XVI в. Наиболее значительную его часть составляют письма Беза — не столько личные, сколько полемические, которые мы теперь назвали бы “открытыми”. Но есть, конечно, и послания друзьям, и деловые документы (ведь Без был значительным государственным деятелем). Их много, этих писем разного рода, и они складываются в своеобразную хронику своего времени, хронику политической жизни, религиозных споров, ожесточенной идеологической борьбы. Не приходится удивляться, что хроника эта пристрастна и даже предвзята, она отражает позиции лишь одной стороны; она, эта хроника, преднамеренно заострена, задириста, подчас явно несправедлива по отношению к оппонентам автора. Но иначе и быть не могло: политик, убежденный в своих принципах, готовый отстаивать их не только силой слова, но и с оружием в руках (до чего, впрочем, дело не доходило), Теодор де Без был и в письмах страстным и агрессивным полемистом. В этом отношении его переписка во всем своем объеме, складывающаяся в хронику его дел и дней на фоне той бурной эпохи, разительно отличается от “Всеобщей истории” Агриппы д’Обинье, рассказавшего о том же времени и очень часто о тех же самых событиях (его повествование открывается 1550 г.), но с четкой установкой на более спокойный рассказ, на объективность, даже если автору это и далеко не всегда удается.
Без-эпистолограф не создал бесспорных шедевров в этом столь распространенном в эпоху Возрождения жанре; как стилист, он ориентировался на цицероновскую традицию, но не более, и его переписка осталась все-таки прежде всего общественным, а не литературным памятником, хотя чрезвычайно значительным и ценным.
Принято считать, что то же самое можно сказать и о Безе-поэте (вопреки точке зрения Монтеня6). Его ранние латинские стихи, как уже говорилось, не лишены юношеской искренности, но все-таки, безусловно, подражательны.
Несколько иначе обстоит дело с его французскими стихами. Впрочем, по приезде в Швейцарию Без отказался от “тайной свободы” поэта и поставил свое перо — и здесь! — на службу общему делу. Как франкоязычный поэт он почти ограничился переводом псалмов. В этом у него были не столько более удачливые, сколько более талантливые соперники и прежде всего Клеман Маро. Однако Без и не собирался превзойти своего старшего товарища: начиная с 1551 г. он стал дополнять переводы Маро, который, как известно, перевел далеко не весь Псалтырь. Переводы Беза печатались в 1551,1554,1556, 1562 гг., каждый раз в дополненном и немного переработанном виде; их общее число достигло 101 псалма. Тем самым, вместе с переводами Маро, Псалтырь оказался переведенным полностью. Обычно полагают, что перевод Беза существенно уступает переводу Маро. Это верно, но лишь отчасти. Как поэт Без, конечно же, не мог идти ни в какое сравнение с талантливейшим и самобытным Клеманом Маро, но, переводя псалмы, Без не то что не дотянул до его уровня, он просто ставил перед собой совершенно иные задачи. У Беза была очень четкая и логичная установка: в своих переводах он старательно избегал латинизмов и неологизмов, не стремился к изысканности и изощренности, так как писал не для любителей и знатоков, а для простых верующих, подчас даже неграмотных, хорошо владеющих местным диалектом, а не языком современной французской поэзии. Отметим еще одну его находку, которую ему удалось провести через все псалмы. Эти произведения в церкви пелись, и Без перевел их так, что каждый псалом был уникален по своей метрике и строфике: это должно было помочь прихожанам сразу же узнавать по музыкальному сопровождению, какой псалом сейчас следует пропеть. И хотя эти произведения де Беза, уже после их публикации, вызвали довольно суровую критику и даже прямые насмешки (например, женевского поэта-эпиграмматиста Гийома Геру), эти стихотворные опыты соратника (а не соперника!) Клемана Маро пользовались устойчивой популярностью и часто переиздавались на протяжении всей второй половины XVI столетия.
После 1562 г. Без совсем отказался от поэзии. Вообще следует отметить, что лирическая поэзия не получила в романдской Швейцарии широкого распространения и не выдвинула особенно ярких, запоминающихся имен. Поэты, конечно, были, но их достижения, за немногими исключениями, весьма скромны.
Лирической искренностью и подчас версификационными ухищрениями отмечено поэтическое творчество Блеза Ори (ок. 1528-1595), уроженца Невшателя. В его песнях и оделеттах, в которых он воспел двух своих жен (он был дважды женат), Луизу Гранджан и Жанну Периго, чувствуется влияние раннего Ронсара. Строфика Ори разнообразна, образный строй порой изобретателен и оригинален. В своих меланхолических сетованиях на разлуку с любимой Ори счастливо избежал искусственности и заезженных штампов лирической поэзии эпохи. Но место его — не на столбовой дороге швейцарской поэзии: мы не найдем у него ни религиозных медитаций, ни благочестивых мотивов. Вот почему он почти не печатался и был по существу открыт лишь в XIX в.
В этом отношении от него решительно отличается разносторонний и, бесспорно, более талантливый Эсторг де Больё (ок. 1495-1552). Этот уроженец Лимузена достаточно рано увлекся новыми, “евангелическими” идеями, начал подвергаться на родине преследованиям и вынужден был в 1537 г. обосноваться в Женеве. В молодости он занимался музыкой, стал неплохим органистом, потом принял священнический постриг. В Швейцарии он сделался протестантским пастором, имел приход в Берне, потом в Биле и кончил свои дни в Базеле. Это был, пожалуй, единственный швейцарский поэт, пользовавшийся “общефранцузской” известностью. В молодости он отдал дань чувственной и жизнерадостной лирике в духе Клемана Маро, а когда тот в 1535 г. написал свое знаменитое “Восхваление прекрасного соска”, включился в эту увлекательную игру и в 1537 г. в своем сборнике “Разные разности” (Divers Rapportz) поместил шесть таких “восхвалений” — женских носа, щек, зубов, языка, голоса и задницы. Наряду с любовными и сатирическими стихами, которые он продолжал сочинять и переселившись в Швейцарию, он обратился к поэтическим произведениям на религиозные темы. Однако его благочестивые размышления о бренности земного бытия, иллюзорности нашего земного существования приобретали характер веселой эпиграммы, в меру ироничной и саркастической, вполне в маротическом духе, например:
Не засыпай, имей терпенье
И сердце к Богу обрати,
Запомни, что в конце пути
Как все, не избежишь ты тленья.
Поэт и историограф Симон Гуларт (1548-1628)7 ограничивался в основном морализаторством и чисто религиозными темами. Куда более популярными были его труды по церковной истории, насквозь пронизанные кальвинистским духом, — “Жития святых”, “Чудеснейшее освобождение города Женевы” и т.д. Также довольно посредственным поэтом, но заметным историком был уроженец Арраса Жан Крепен (1520-1572), автор неоднократно издававшейся “Книги Мучеников”.
Особое место среди этих поэтов-любителей и профессиональных историков принадлежит Франсуа Бонивару (1493—1570)8, национальному герою, борцу за независимость Женевы. Эта патриотическая деятельность привела его в 1530 г. в темницу, куда его бросил Савойский герцог. Там Бонивар провел шесть страшных лет (что затем описал Байрон в “Шильонском узнике”). Когда Бонивар вернулся в Женеву, ставшую политически свободной, там уже безраздельно господствовал Кальвин. Он возложил на поэта и патриота обязанности городского историографа. Так появились “Женевские хроники”, в которых писатель (как до этого в стихах) выказал себя сторонником демократического государства с выборным верховным органом во главе. Такая позиция не могла понравиться Кальвину, и он в 1551 г. запретил “Женевские хроники” к печати. Бонивар не был крупным поэтом. В молодости он, как и многие другие из его поколения, испытал сильное влияние Клемана Маро и пытался ему подражать. Подражания эти были заведомо слабыми. Нашел себя Бонивар в прозе, когда стал описывать жизнь родного города, широко используя местные легенды и диалект родного кантона, образный и ироничный.
Как видим, поэзия в романдской Швейцарии явно была на втором плане, оттесненная историографией, политической сатирой, сочинениями на религиозные темы. Несколько особняком стоит здесь Теодор де Без с лучшим, самым известным и самым талантливым своим произведением, трагедией “Жертвоприношение Авраама”.
Парадокс творческого пути де Беза (а, возможно, и его творческая трагедия) состоит в том, что он создал это произведение, едва приехав в Швейцарию. Тем самым трагедия Беза родилась не из потребностей той идеологической работы, которая вскоре должна была лечь на его плечи, вернее, не столько из этих потребностей, сколько из общелитературных задач, мало связанных с местными условиями и обстоятельствами.
Трагедия Беза “Жертвоприношение Авраама” (La Sacrifice d’Abraham, 1550)9 вписывается прежде всего во французский литературный контекст, хотя она и была создана уже в Швейцарии, и это во многом определило важнейшие черты этого произведения. Тут в самом деле было немало “французского” и даже общеевропейского: перестройка образования, гуманистическое углубление в культуру античности, открываемой заново и совершенно по-новому, требовали новых учебников, словарей, самих методов преподавания. Не последнее место отводилось здесь разыгрыванию с учениками античных пьес, которые как раз в это время впервые стали выходить из-под печатного станка. От этих театральных постановок — на латыни и, реже, на греческом языке — логичен был переход к переводу античных трагиков и комедиографов на языки новые. Делалось это по всей Европе; переводы эти тоже, конечно, печатались.
Следующим шагом в освоении античной драматургии было создание по старым схемам новых пьес (отметим, что процесс этот растянулся почти на три столетия — до конца XVIII в.). Одним из первых обратился к созданию новых памятников драматургии по старым канонам как раз Теодор де Без; на французском языке он был вообще в этой области первым.
Начав свою преподавательскую деятельность в Лозанне, Без решил написать для своих учеников из местной “академии” “правильную” трагедию, в духе произведений Софокла и Еврипида, которых он постоянно анализировал и толковал с университетской кафедры. Перед ним был богатейший выбор сюжетов — его щедро предоставляли античная мифология и древняя история (чем так плодотворно воспользуются драматурги следующего века). Однако Без поступил иначе. Он обратился к библейской тематике. Драматургическая обработка отдельных сюжетов и эпизодов из Библии, как известно, имела многовековую традицию. Мы имеем в виду не столько литургическую драму, сколько мистерии, столь популярные в разных странах Европы на исходе Средневековья и в первой половине XVI в. Но мистерии, порой чрезвычайно длинные и композиционно плохо организованные и даже хаотичные, не имели ничего общего с “правильной” трагедией, пронизанной и сконцентрированностью действия и единой идеей. Попытки создания пьес на библейский сюжет в новом обличии уже делались, но исключительно на латинском языке. Здесь следует упомянуть шотландца Джорджа Бьюкенена (1506-1582), чья деятельность протекала в основном во Франции, где он перевел на латинский язык “Медею” и “Альцесту” Еврипида и написал, по-латыни, оригинальные трагедии на библейские темы — “Иафет” и “Иоанн Креститель”. (Не приходится говорить, что Бьюкенен придерживался протестантских взглядов.)
На выбор Безом сюжета своей трагедии оказали влияние некоторые высказывания Кальвина (особенно из его так называемого “Малого трактата”), который не раз обращался к истории Авраама как к примеру беспрекословного и слепого подчинения воле божества.
Без писал свою трагедию для учеников Лозаннской академии, где он преподавал, но, как было установлено в самое последнее время, исполнена пьеса была не на школьной сцене, а в местном соборе, и постановка эта, осенью 1550 г., была приурочена к очередному церковному празднику.
Итак, Теодор де Без выбрал сюжет из главы XXII Бытия (процитировав этот текст во французском переводе в первом издании пьесы). Он выбрал эпизод, повествующий о тягостном испытании, выпавшем на долю Авраама. Что же, во всей легенде об этом библейском патриархе данный эпизод, пожалуй, самый драматически напряженный и трагический. К тому же он очень сценичен, отмечен единством действия и компактен, что и позволило перенести его на театральные подмостки. В самом деле, эпизод этот хорошо вписывается во всю длинную и беспокойную историю жизни Авраама, подготовлен всем тем, что ему предшествует. Как рассказано в Библии, брак Авраама и Сарры долгие годы был бездетным. Прижитый от служанки Агари сын Измаил был изгнан отцом по наущению Сарры. Наконец на склоне лет жена родила Аврааму сына, единственного наследника, его надежду и опору. И вот прилетевший с неба ангел передает Аврааму божественное повеление: принести в жертву собственного сына, заколоть его своей рукой и сжечь на жертвеннике.
Работая над пьесой, Без, бесспорно, думал и о себе, о своей судьбе и внес в трагедию автобиографические мотивы. Как писал историк швейцарской литературы А. Сейу, пьеса моделировала типичную для многих кальвинистов ситуацию: “Все покинуть, всем пожертвовать во имя подлинного культа Бога — домашним очагом и счастьем, достатком, привязанностями, т. е. покинуть родину, семью, детей, наконец, подавить порывы своего сердца, чтобы избежать подчинения Папе — вот чего неустанно требовала Реформация от своих сторонников, вот что проповедовала она с церковной кафедры и во всевозможных писаниях, и «Жертвоприношение Авраама» является одним из них”10. Действительно, пьеса Беза была автобиографична в том, что вела героя вплоть до утраты собственной воли, самого себя, не говоря уже о привычках, о заботе о доме, о близких. Вот почему произведение это было актуально как для самого Беза, так и для его современников, оно было злободневно в самом прямом, непосредственном смысле слова.
Действительно, в пьесе все время мелькают намеки на современные события. И даже если это не прямые намеки, то в речах действующих лиц упорно звучит требование сопоставить историю библейского патриарха с судьбой современников поэта, таких же, как и он, изгнанников, покинувших родной кров, чтобы в чужом краю служить истинной вере. Именно так должны были воспринимать собравшиеся со всей Европы кальвинисты жалобы Авраама и Сарры на тяжесть добровольного изгнания. В персонажах де Беза они узнавали самих себя.
Столь же актуализирован и “осовременен” образ Сатаны, который предстает в пьесе в монашеской рясе. Его речь об этом одеянии — страстное разоблачение монашества, столь ненавистного всем сторонникам Реформации и гуманизма. Образ Сатаны, могущественного и хитроумного, почти безраздельно царящего на земле, призван олицетворять собой весь непротестантский мир, погрязший в пороке, междоусобных распрях и корысти.
Этому миру, забывшему Бога, или поклоняющемуся не тем богам (то есть католицизму), противостоит безраздельно преданный Богу патриарх Авраам. Хотя автор трагедии и наделяет его чертами реальных протестантских борцов, он не лишает его права на сомнение, колебания, даже известное неповиновение Богу. Это делает конечную моральную победу Авраама особенно ощутимой и значительной.
Сначала Авраам без раздумий подчиняется божественному повелению принести в жертву Исаака. Но затем в его смятенное сердце закрадывается сомнение. Однако тут же Авраам молит простить его за эти колебания и подчиняется приказанию свыше, но чувство горечи и обиды на несправедливость Бога не покидает его; он восклицает:
О Бог, создавший все земное,
Против кого идешь войною!
За что меня караешь так?
И второй раз, уже перед жертвенником, на котором возлежит связанный по рукам и ногам Исаак, Авраама охватывает чувство протеста. Но и теперь этот сильный человек сумел совладать с собой.
Здесь автор несколько отступает от библейского рассказа. Легендарный Авраам не испытывал тех сомнений, которые выпадают на долю героя Теодора де Беза. Аврааму из Библии уже обещано благоволение Бога, поэтому он, не раздумывая, готовится принести в жертву Исаака. Без драматизирует библейский рассказ, как бы актуализирует его, приближая к современной действительности. Автор усложняет не только образ главного героя, но и образы других персонажей, которые в библейском рассказе либо вовсе отсутствуют (Сарра), либо лишены каких бы то ни было индивидуальных черт (Исаак).
На примере Авраама Без показывает, сколь трудно служение протестантскому Богу, какой душевной целостности и стойкости оно требует. В образе Авраама Без стремился типизировать характерные черты лучших представителей протестантизма, в своем, конечно, понимании и этого учения, и этих положительных черт.
Рядом с Авраамом — Исаак и Сарра. Характер каждого раскрывается в напряженных диалогах с главным героем. В образе Сарры подчеркнуты прежде всего черты женщины, матери. Защищая своего единственного ребенка, она более смело и прямо, чем Авраам, восстает против несправедливости Бога. Но и она вынуждена смириться и исполнить суровые законы новой церкви. Сцена Сарры и Авраама из первого “акта” — одно из наиболее сильных мест трагедии. Переживания героев раскрываются в коротких репликах, смена этих переживаний передается подчас одним словом, одним междометием. Эта сцена полна внутренней динамики и напряжения. Критики не без основания видели в ней корнелиевскую силу.
Если Авраам — уже пожилой человек, умудренный большим жизненным опытом, чрезвычайно стойкий в своих убеждениях, выстраданных им, впитавшихся в его плоть и кровь, все понявший, для себя решивший и от многого отказавшийся, то Исаак еще юноша, ему ведомы и беспредельный страх, и отчаяние, и в то же время необузданная религиозная экзальтация, ведь протестантское движение знало и таких неуравновешенных мятущихся людей. Авраам — уже сложившийся борец; на примере Исаака писатель показывает, как происходит постепенное формирование таких борцов.
В основе конфликта пьесы — столкновение чувства и долга, заключающегося в беспрекословном подчинении Богу. Отцовские и попросту человеческие чувства Авраама сталкиваются не с какими-то предначертаниями и установлениями, существующими вне его, а с внутренними религиозными убеждениями. Здесь нельзя не видеть прообраз будущих конфликтов классицистической драматургии.
Основной пафос пьесы, ее идейный стержень — это мысль о необходимости внутренней религиозности для истинного христианина. Не какие-то внешние атрибуты культа, а задушевная вера помогает человеку, надежно защищает его от соблазнов.
Между прочим, именно поэтому и не играет в трагедии активной роли Сатана, замысливший отторгнуть Авраама от истинной веры; Сатана — лишь заинтересованный зритель напряженной борьбы в душе героя. Иной роли ему не дано. Это не значит, конечно, что автор умаляет его опытность, коварство и силу. Характерно, что Без постоянно подчеркивает справедливость Бога, равноправно распределяющего свои милости среди преданных ему верующих, тогда как сторонники Сатаны — это прежде всего сильные мира сего. Сатана восклицает, обращаясь к ним:
Вы, скопище гуляк, распутников и пьяниц,
На красных мордах чьих блестит попойки глянец,
Вы кутаетесь в шелк в алмазах и парчу,
Но поступаете лишь так, как я хочу.
Не приходится удивляться, что Без вкладывает в уста своего Хора проповедь умеренности, незаинтересованности благами жизни, чуть ли не аскетизма:
Ни богатству, ни бедности
Не дано провести Сердце, полное веры.
Но “Жертвоприношение Авраама” не было бы создано в бюргерской Швейцарии, если бы в пьесе не присутствовала, правда, подспудно, не явно, идея сделки с Богом, щедро вознаграждающим за беспрекословное повиновение. Между прочим, как раз этим объясняются сомнения и колебания героев — ведь Бог уже обещал им свое благословение, ведь они уже заработали его тем, что по повелению Бога покинули родные края, от столь многого отказались. В конце трагедии спускающийся с неба Ангел вновь подтверждает, что Бог берет под свое покровительство и самого Авраама, и все его потомство.
Итак, сильной стороной трагедии Теодора де Беза было изображение незаурядной, цельной личности, личности борца за идею. В этом Без типизировал примечательные черты характера своих современников гугенотов (именно, скорее гугенотов, чем кальвинистов), воплотил свой этический и эстетический идеал, представление об идеальном герое. Но этическое и эстетическое начало не существовало для Беза вне и помимо религиозной доктрины, вне идеи служения Богу. Эта проповедь неуклонного подчинения божественной воле, навязанная писателю обстоятельствами его жизни, но и глубоко укоренившаяся в его сознании, не могла не придать героям Беза черт безволия и пассивности, ни в коей мере не характерных для титанических персонажей литературы эпохи Возрождения. Это не выводит, конечно, трагедию Беза за пределы этой литературы, но обозначает ее место в ней — среди произведений откровенно ангажированных, а в данном случае — среди памятников швейцарской литературы, отразивших связывающее, ограничительное влияние кальвинистской догматики.
Между тем в протестантских кругах успех пьесы был чрезвычайный. Изданная в Женеве в конце 1550 г. и перед этим представленная перед зрителями, она затем не раз исполнялась гугенотами в подвластных им французских городах. Этьен Пакье, видный гуманист и публицист, когда-то похваливший латинские стихи де Беза, нашел “жертвоприношение Авраама изображенным столь живо, что при чтении трудно удержаться от слез”. Анри Этьен переиздал пьесу в Париже в 1552 г.; коллега Беза по лозанскому коллежу Жан Жакемо (1543-1615) перевел трагедию на латинский язык (1597), с латинского она была переведена на немецкий и стала очень популярна в Германии среди лютеран.
Развитие кальвинистской литературы проходит во второй половине XVI в. в основном по пути, намеченному Теодором де Безом. Обратившись к библейской тематике, которая воспринималась им как образец высокой морали, Без создал традицию актуальной пьесы с острым политическим содержанием. Последователи Беза именно так восприняли его уроки. Поэтому довольно обширное драматургическое наследие протестантов почти исчерпывается произведениями на библейские сюжеты, причем они черпались, как правило, из первых, наиболее древних книг Ветхого Завета, отразивших раннюю стадию жизни еврейского народа и повествующих о титанических личностях, смелых борцах, слепо преданных идее.
Кальвинистская драматургия развивалась в тесном, но очень сложном общении с драматургией католической Франции; в то же время произведения Теодора де Беза или Луи Демазюра нельзя полностью отрывать от создавшей их среды: они порождены политической обстановкой Женевы середины XVI столетия и отразили сильные и слабые стороны идеологии кальвинистов. Но на первом месте в них был пафос защиты и возвеличивания новой идеологии, а не государства, тем более его народа. Задачи национального строительства ставили перед собой или хотя смутно ощущали очень немногие (например, Бонивар или Теодор де Без). Напротив, были очень сильны интернационалистские тенденции: писатели, ученые, политики не только легко переезжали из города в город, но и из страны в страну. Так как в романдской Швейцарии нашли себе приют многие выходцы из Франции, они считали себя гражданами Женевской республики, но представителями французской культуры. Швейцария становилась интернациональным культурным центром (и это ее качество сохранилось до XX в.). Показательно, что определить национальную принадлежность Базеля XVI столетия вряд ли возможно: его типографии работали на всю Европу и печатали книги на самых разных языках; достаточно сказать, что здесь издавались и Эразм Роттердамский, и Томас Мор, не говоря уж о тех, кто был более тесно связан с этим городом.
Мы позволили себе рассмотреть основные черты литературы романдской Швейцарии начиная со второй трети столетия “в свете Теодора де Беза” по крайней мере по двум причинам: из-за того, что это был очень крупный художник, опробовавший едва ли не все жанры литературы его времени, и от него тянутся нити к другим писателям и другим литературным явлениям, а также потому, что он был, пожалуй, самой типичной фигурой и эпохи, и страны (и как политик, и как религиозный мыслитель, и как мастер слова), воплотивший в себе почти все сильные и слабые стороны кальвинизма как религиозной доктрины и как стиля жизни — возвышенную убежденность в правоте своего дела, верность ему и слепой догматизм, подавляющий волю, творческую фантазию, свободу суждений, выводов и оценок.
1См. онем: Sayou A. Th. de Bèze // Etudes littéraires sur les écrivains français de la Réformation. Paris, 1881. T. 1. P. 243-258; Choisy E. L’état chretien calviniste à Genève au temps de Th. de Beze. Genève, 1902; Vienney A. B. Théodore de Bèze. Alençon, 1928; Geisendorf P. F. Théodore de Bèze. Genève; Paris, 1949.
2См. онем: Buisson F. Sebastien Castellion, sa vie et son oeuvre // Etude sur les origines du protestantisme libéral français. Paris, 1892; Giran E. Sebastien Castillion et la Réforme calviniste. Les deux Réformes. Haarlem, 1914.
3См. онем: Goguel G. Histoire de Gillaume Farel, avec quelques-unes de ses lettres et celles de Pierre Toussin, son principal successeur à Montbeliard. Montbeliard, 1873; Sayou A. Guillaume Farel // Etudes littéraires sur les écrivans français de la Réformation. Paris, 1881. T. 1. P. 1-65; Guillaume Farel, 1489-1565. Biographie nouvelle écrite d’après les documents originaux par un groupe d’historiens, professeurs et pasteures de Suisse, de France et d’Italie. Neuchâtel, 1930.
4 См. онем: Sayou A. Pierre Viret // Etudes littéraires sur les écrivains français de la Réformation. Paris, 1881. T. 1. P. 181-241; BamoudJ. Pierre Viret, sa vie et son oeuvres (1511-1571). Saint-Amons, 1911.
5См. онем: Kunze H. Die Biveluebersetzungen von Lefevre d’Etaples und von R. P. Olivetan, verglichen in ihrem Wortschatz. Leipzig, 1935.
6См. Монтень. Опыты. M., 1979. T. 1. C. 590.
7 См. онем: Jones L. Simon Goulard, sa vie et son oeuvres (1548-1628). Genève, 1916.
8 См. онем: FlobertA. Les écrits de Bonivard. Fragments d’une étude historique et littéraire sur Bonivard et Genève à son époque. Lausanne, 1853; Bressler H. François de Bonivard, gentilhomme savoyard et bourgeois de Genève (1493-1570). Geneve, 1944.
9См. Bèze Th. de. Abraham sacrifiant / Edition critique par K. Cameron, K. Hall, F. Higman. Genève; Paris, 1967.
10 Sayou A. Etudes littéraires sur les écrivains français de la Réformation. T. 1. P. 280.