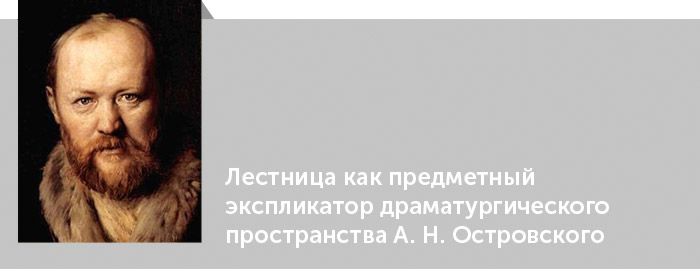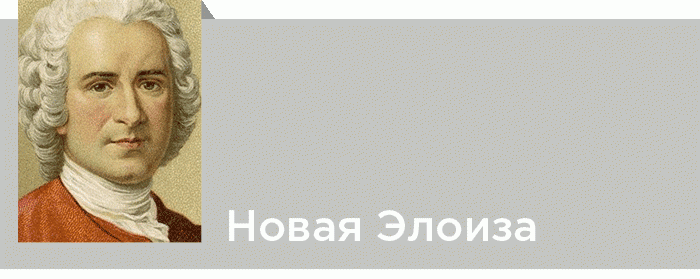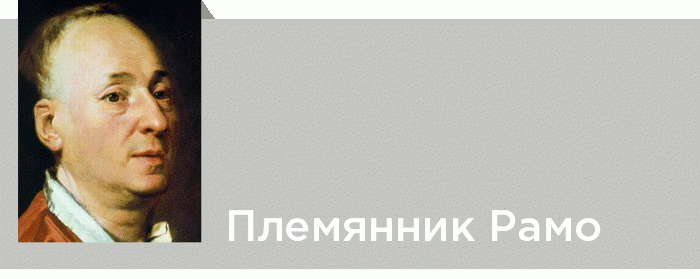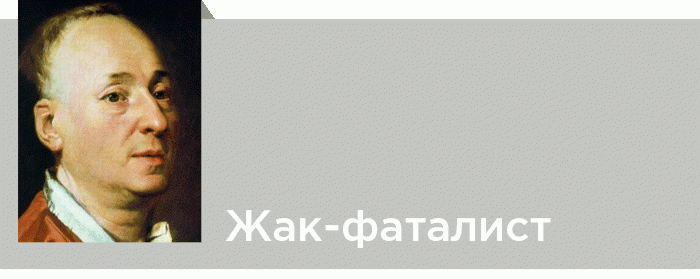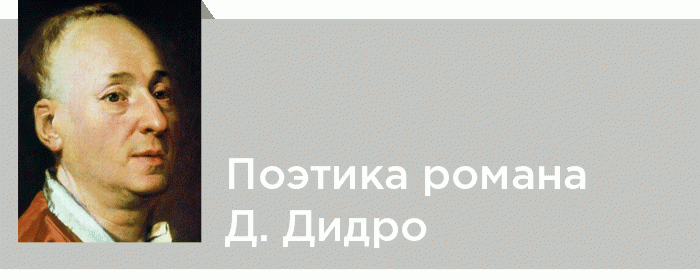Роман-диалог и философский диалог у Дидро: синтез научного и художественного познания («Племянник Рамо» и «Сон Д’Аламбера»)

М. В. Разумовская
Двести лет назад (31 июля
По многочисленным свидетельствам людей, знавших Дидро, он был блестящим собеседником, большим мастером бесконечных вопросов. В отличие от эпиграмматического тона бесед в салонах или от императивных утверждений (свойственных, например, стилю друга Дидро — барона Гольбаха), блестящее и живое слово Дидро выражало постоянное беспокойство, заключало в себе напряженный вопрос, требовавший немедленных поисков ответа. Так и в его творчестве: на протяжении всей жизни Дидро наиболее излюбленной из литературных форм была для него форма диалога.
Однако к форме диалога Дидро пришел не сразу. Уже с самого начала, преодолевая риторическую традицию «великого века», для своих первых философских сочинений Дидро избирает не привычный жанр трактата или «рассуждения», а обращается к наиболее свободным из традиционных форм — «мыслям» («Философские мысли», 1746; «Мысли об объяснении природы», 1754) и «письмам» («Письмо о слепых в назидание зрячим», 1749; «Письмо о глухих и немых», 1751). Но «мысли» и особенно «письма» во многом уже близки к диалогической форме. Ищущий, постоянно рассуждающий, вскрывающий диалектические противоречия действительности герой теоретических сочинений Дидро все время нуждается в собеседнике. Так появляются диалоги: «Прогулка скептика» (1747), «Беседы о „Побочном сыне”» (1758), «Сон Д’Аламбера» (1769), «Прибавление к „Путешествию” Бугенвиля» (1772) и др.; диалог часто встречается на страницах «Салонов», в «Письмах к Софи Волан» и даже в некоторых его статьях для «Энциклопедии». Чутко улавливая огромные художественные возможности, заложенные в диалоге, Дидро начинает использовать его и в своих поисках в жанре повествовательной прозы: он широко вводит его, как говорилось выше, на страницы «Нескромных сокровищ» и «Жака-фаталиста...» и создает классический роман-диалог «Племянник Рамо».
Во французском философском и научном диалоге XVII-XVIII вв. (Ла Мотт, Ле Вейе, Фенелон, Лаонтан, Фонтенель, Мальбранш, аббат Антуан Плюш, Вольтер) участники беседы, как правило, лишь воплощали в себе отвлеченную идею и были начисто лишены какой-либо конкретности, индивидуальности. Некоторые исследователи творчества Дидро (Шарли Гийо, Христо Тодоров, Йоахи Суми, Мари Сувирон) склонны и в «Племяннике Рамо» видеть прежде всего произведение философское, почти или вовсе лишенное художественных достоинств, где действуют идеи, но не люди. Думается, что это не так. Мы попытаемся доказать это, сопоставив «Племянника Рамо» и «Сон Д’Аламбера» (такой сопоставительный анализ, сколько известно, никогда не проводился), два наиболее известных диалога Дидро, прежде всего со стороны их художественных особенностей, переданных через форму диалога и помогающих более отчетливо выявить их глубокое диалектическое, философское содержание.
Дидро хорошо знал племянника известного композитора Жана-Филиппа Рамо — Жана-Франсуа Рамо (1716-?), человека умного и, несомненно, одаренного, но опустившегося, предавшегося беспорядочному, паразитическому образу жизни. В беседе философа и племянника Рамо («Я» — «Он») Дидро выразил свои научно-философские и морально-этические концепции, однако в его романе действуют не идеи, а живые лица, и хотя они в основном просто беседуют и беседа их длится не более двух-трех часов, по ходу этой беседы выявляется и идейное содержание романа, и его сюжет, интрига, его многоплановость.
«Племянник Рамо» — это уже роман в понимании Дидро: его герои — собирательные обобщенные типы — «философ», из тех людей, кто выпускал «Энциклопедию», кто размышлял над судьбами человечества и высказывал свои смелые убеждения не только в вольнодумных салонах, но и на страницах своих произведений, и деклассированного интеллигента, презирающего общество, в котором он живет, но и приспосабливающегося к этому обществу, того, кто сознательно выбрал для себя общественный паразитизм; тип, столь характерный для предреволюционной Франции. Роман насыщен конкретным историко-социальным материалом, бытовыми деталями, в которых отразилась идейная борьба старого и нового, фактическими приметами времени (этические, эстетические, социальные идеи; быт и нравы столицы; занятия и развлечения парижан и т. д.).
Дидро использует самые разнообразные, но органически связанные между собой художественные приемы, которые сделали из философской беседы подлинный и поистине новаторский роман. Основной корпус книги — это диалог. Ему предшествует довольно обширная экспозиция, где читателю представлены оба героя и пока лишь называются наиболее характерные черты, присущие «философу» («философом» иногда называет этого героя его собеседник, сам автор пишет о нем просто «Я») и Племяннику (выявляются они по ходу дальнейшего повествования.); упоминается об образе жизни Племянника; рисуется обстановка в кафе Регентства, где протекает беседа: игра в шахматы с участием знаменитого Филидора, угощение пивом, лимонадом. Диалог двух собеседников разнообразен, но всегда блестящ. Своими вопросами, заданными из любознательности и любопытства, «философ» вынуждает Племянника не только сообщать ему разного рода сведения, но и тут же комментировать их, оценивать, приходить к определенным выводам. Однако иногда и Племянник выполняет функцию платоновского Сократа, заставляя «философа» выражать свои мысли более откровенно и пространно, размышлять над только что сказанным или угадывать то, что его собеседник имеет в виду: «Он. — Жил он у одного из добрых и честных потомков Авраама, обещанных этому патриарху верующих в числе, равном количеству звезд на небе. Я. — У еврея? Он. — У еврея...». Диалог двух героев — это и тонкая игра ума, и изысканная светская беседа, и при полном понимании друг друга стремление употреблять одни и те же языковые средства (например, союз «но»). Разговор этот поистине неиссякаем, и сменяющие друг друга темы следуют одна из другой; он равно интересует и увлекает и «философа», и «его».
Автор самыми разнообразными путями и способами вводит диалог в повествование. То он вытекает непосредственно из содержания романа: «Он подходит ко мне: — А, вот и вы!»; «Вот он рыдает и плачет, говоря: — Нет, нет, я никогда не утешусь!»; «Выпив залпом то, что оставалось на дне бутылки и обращаясь к своему соседу: — Сударь!..»; «Затем, восстановив нить рассказа, он прибавил: — Я водил ее повсюду...»; «Потом он прибавил: — Это ясно само собою»; «Тогда я ему сказал: — Как это произошло...». Иногда диалог вводится по законам прямой речи: « — О глупец, архиглупец! — воскликнул я. — Как могло случиться...». Иногда — как театральная ремарка, заключенная в скобки: «Он (наклонившись к моему уху) ответил: — Мне бы не хотелось...».
Большую роль в романе играет и непосредственная авторская речь. Функции ее также разнообразны. Пояснение конкретной ситуации: люди собрались послушать «концерт» племянника Рамо, потом они расходятся; рассуждение о характере игроков в шахматы; «Нам подают пиво, лимонад. Он наполняет ими большой стакан, который опустошает два или три раза подряд. Затем, как человек, вновь оживший, он сильно откашливается, приходит в волнение и продолжает...»; «Он пьет второй, третий стаканы, не понимая того, что делает. Он мог бы теперь, наверное, даже захлебнуться, так он измучен, если бы я не отодвинул бутылку; которую он в рассеянности искал. Тогда я сказал ему...». Или — описание поступков и действий героев: «И вот он начинает подражать походке своей жены. Он семенит маленькими шажками, высоко задирает голову, играет веером, виляет бедрами; это был самый забавный и самый смешной шарж на наших маленьких кокеток»; «Потом он начал напевать увертюру»; пение племянника Рамо, его подражание музыкальным инструментам; его пантомимы; передразнивание других; его утрированно надсадный кашель; «Прежде чем начать, он глубоко вздыхает»; «В молчании прогуливается, насвистывая и напевая»; «Он ударяет себя по лбу, кусая губы». Изображение внутреннего мира героев: талантливость Племянника; сложное душевное состояние «философа», испытывающего желание одновременно смеяться, негодовать, сострадать; двойственное его отношение к Племяннику («Я часто бывал удивлен точностью суждений этого безумца о людях и характерах, я ему это тут же и высказал»).
Особое место в романе отведено «вставным эпизодам» (назовем их так) в речи Племянника. Это целые маленькие новеллы, с законченным сюжетом, с прямой речью героев; цель их — не только разнообразить круг художественных приемов, к которым прибегает Дидро, но и расширить тематику романа, круг его персонажей. Таковы эпизоды о развращенных нравах и искусстве сводничества; о мире кулис — актеров и авторов; история еврея и француза из Авиньона, переменившего религию; отношения покровителя и покровительствуемого; галантная история; воспоминания Племянника о покойной жене.
Большое мастерство проявляет Дидро, когда добивается раскрытия индивидуальности своих героев. В основу характеров, конечно, легли отчасти личные свойства Ж.-Фр. Рамо и автора романа; но, как говорилось выше, это образы, присущие определенной исторической эпохе. Наиболее типические особенности этих собирательных образов раскрыты в основном средствами диалогической формы повествования, закрепляющей и развивающей то, что было лишь кратко названо в экспозиции. С помощью искусного построения вопросов и ответов Дидро показывает, что характер — не самоданная сущность, что он зависит от физической организации человека и от его положения в обществе. Вот несколько примеров. «Я. — Как же получается, что с таким большим тактом, со столь развитой чувствительностью к красотам музыкального искусства вы так слепы по отношению к прекрасным проявлениям морали, так бесчувственны к очарованию добродетелей? Он. — Потому что я всегда жил в обществе хороших музыкантов и плохих людей». Племянник — «философу»: «— Вы всегда немножко интересовались мною, поскольку я добрый малый, которого вы в глубине души презираете, но который вас забавляет. Я. — Это правда». И в ответ Племянник, ничего не скрывая, говорит о себе: «Вы знаете, что я невежа, безумец, глупец, нахал, лентяй»; признается, что у него характер бездельника, глупца, плута. Ему льстит, что «философ» «принимает его за наглеца, но не за дурака»: «Я в ваших глазах человек низкий, достойный всяческого презрения; самому себе я, правда, очень редко кажусь таким. Куда чаще, за свои пороки, я себя поздравляю, но не порицаю». «Философ» не возражает: «...До какой степени низости вы дошли или были таковы от рождения?». Но он проницателен; осуждая Племянника за цинизм, за паразитизм («Не знаю, что более ужасно, — злодейства вашего ренегата или тот тон, каким вы о них рассказываете»), «.философ» видит и другое: «Как могло получиться, что в вашей дурной голове мысли справедливые перемешались с такими безумиями?». Он продолжает: «Несмотря на роль, презренную, отвратительную, низкую, гнусную, которую вы играете, я верю, что, в сущности, у вас нежная душа». Но Племянник живо возражает: «А я — нет! Пусть унесет меня дьявол, если я знаю, каков я в глубине души». Однако он уже признался, что в глубине его сердца живет человеческое достоинство, которым каждого наделяет природа и которое ничем не загасить; от него и мука — презрение к себе.
Тем не менее Племянник безнравствен принципиально; об этом он говорит в своем рассуждении о добродетели и пороке. На основании собственного опыта он убеждает «философа»; «Однако я вижу бесконечное число порядочных людей, которые глубоко несчастны, и бесконечное число людей, которые счастливы, не будучи честными». Можно жить счастливо, будучи порочным, это вполне соответствует нравам его времени; надо быть тем, кто ты и есть: удачливым разбойником среди разбойников богатых, а не добродетельным хвастуном или даже добродетельным человеком, гложущим свою черствую корку либо в одиночестве, либо в компании нищих.
Его резонные рассуждения о современном образе жизни наглядно выявляют причины упадка морали: это происходит потому, что все стремятся бесконечно обогащаться, от ««идиотизмов» (слово это ему подсказывает «философ») традиционного общественного сознания; если в природе все виды пожирают друг друга, то в обществе друг друга пожирают сословия; от одного полюса и до другого есть только рабы или тираны, поэтому все моральные соображения, например защита отечества, — не больше, чем простое тщеславие; чего бы ты ни делал, ты себя ничем не опозоришь, если ты богат; нищета и голод — страшные вещи, а раз в обществе нет больше ни добродетели, ни порока и все зависит от желаний сильнейших, то и паразитизм — вполне приемлемый способ существования. Эту свою выстраданную и глубоко осознанную философию Племянник излагает в обширных монологах. «Философ» отвечает ему кратко, односложно, то побуждая его к откровенности своими вопросами и замечаниями, то в виде афоризма высказывая собственное суждение, например в порицание защиты паразитизма: «Чем бы человек ни занимался, сама природа его к этому предназначила».
Так в романе «Племянник Рамо», используя выявленные им огромные возможности диалога, почти неведомые дотоле художественной литературе, Дидро не только выразил свои социально-этические концепции, но и создал убедительные собирательные, типические образы человека с «разорванным сознанием» и философа, увлеченного постоянными поисками истины. Эти возможности диалогической формы повествования, открытые и так ярко воплощенные в «Племяннике Рамо», были широко использованы и развиты в дальнейших работах Дидро, в том числе и в его философских диалогах. В первую очередь это относится к «Сну Д’Аламбера» (1769, опубликован посмертно), наиболее совершенному в художественном отношении философскому сочинению Дидро.
«Сон Д’Аламбера» состоит из трех связанных частей. Первая часть — «Продолжение разговора между г. Д’Аламбером и г. Дидро» — достаточно традиционна по построению: это сократическая вопросно-ответная беседа о математике и химии, биологии, материи и движении, о чувствительности, сенсуализме и детерминизме, в которой Дидро выражает свой последовательно материалистический взгляд на мир. Вопросы задает пытливый Д’Аламбер, научные занятия которого несколько далеки от темы беседы; Дидро на них отвечает, убеждает своего друга-скептика, поощряет его к дальнейшим поискам. Конец беседы подготавливает следующий диалог: «Дидро. — Вы увидите во сне этот разговор. Д’Аламбер. — ...Скептиком я лягу, скептиком и проснусь»; последние его слова: «Я спать хочу. Доброй ночи».
Вторая, основная часть — «Сон Д’Аламбера» — заключает в себе подлинный свод научных знаний по биологии, накопленных в Европе к
Поначалу весь бред Д’Аламбера кажется мадемуазель де Леспинас бессвязным, однако Бордё превосходно понимает его смысл и с удовольствием объясняет любознательной и понятливой собеседнице его глубокую научную, философскую суть. Если мадемуазель де Леспипас чего-нибудь не понимает, она задает вопросы; Бордё поощряет ее. По окончании чтения и обсуждения записей мадемуазель де Леспинас начинается непосредственно диалог между нею и доктором. Проснувшийся Д’Аламбер принимает участие в разговоре, затем снова засыпает, Бордё часто обращается к примерам, к художественным образам: таковы его рассуждения о материи и пчелином улье, впервые опоэтизированном еще Вергилием; о «пауке»; о хирургической операции; история сиамских сестер из Рабастена и др.
В диалоге присутствует и авторская речь, напоминающая театральные ремарки: «Мадемуазель де Леспинас быстро встает и звонит»; или: «После долгого молчания»; «Здесь доктор погрузился в размышление, а мадемуазель де Леспинас обратилась к нему так»; «Д’Аламбер, встав, в халате, в ночном колпаке». В ученую беседу вводится яркая бытовая деталь — забавный разговор со слугой, такая же, как и эпизоды, характеризующие образ жизни к характер Бордё: он хочет прервать разговор, поскольку торопится к больному («Я даже отсюда слышу, как меня зовет больной»), мадемуазель де Леспинас его удерживает. После новой долгой беседы Бордё спохватывается: «Но уже половина двенадцатого... в полдень у меня консультация в Марэ». Он добродушно ворчит: «К вам надо приходить, когда делать нечего. Иначе от вас не вырвешься». Заключительная сцена диалога написана совершенно виртуозно. Продолжая рассуждать на ходу, доктор ищет трость, шляпу, спешно прощается («— Подождите, еще одно слово! — Говорите скорее»): его приглашают на обед к двум часам пополудни.
Ярко выписан и характер мадемуазель де Леспинас. Она не скрывает своей любви к Д’Аламберу («...ведь обычно он спит, как ребенок»; «Я внимательно за ним следила; не знаю, почему, я чувствовала себя взволнованной»; «Тут лицо его побагровело. Я хотела пощупать его пульс, но не знаю, куда он спрятал свою руку»; «Затем, вздохнув, он добавил»); мило кокетничает с доктором («Не злоупотребляйте моей доверчивостью, доктор! Берегитесь, если вы меня однажды обманете, я перестану верить вам»; «Что вы там бормочете, доктор?»; «Бордё. — Правильно. Позвольте мне вас обнять. Мадемуазель де Леспинас. — Охотно»; спящий Д’Аламбер при этом сквозь сон изображает притворную ревность); она любит шутить, некоторые из ее шуток несколько фривольны.
Третья часть — «Продолжение предшествующего разговора». Собеседников — двое: мадемуазель де Леспинас и Бордё (Д’Аламбер обедает в гостях); на десерт хозяйка дома и ее друг пьют малагу и кофе; Бордё опять торопится: у него только час на завершение разговора, по истечении которого, если он пойдет быстрым шагом, он успеет в назначенное место. Здесь подводятся итоги научным и философским рассуждениям, составившим содержание двух первых диалогов.
В «Сне Д’Аламбера» Дидро изображает беседу единомышленников, ученых и философов. Это прежде всего разговор дружеский, легкий, светский, несмотря на его глубокое научное содержание, полный иронии, фантазии, веселой интеллектуальной игры. Бордё даже смущен: «Но мы касаемся всего, и ничего — глубоко». «Неважно, — парирует мадемуазель де Леспинас, — мы не создаем теорий, мы беседуем». Но часто, когда речь заходит о раскрытии тайн природы (о вечности Вселенной, ее материальности, о «всеобщей чувствительности», о живом и неживом, о зависимости наших чувств от устройства нашего тела и о многом другом), разговорный стиль сменяется стилем возвышенным, красноречивым, предельно точным. Автор не боится чисто научной терминологии: «Бордё. — Когда говорят о науке, надо пользоваться техническими терминами».
Персонажи диалога беседуют не как противники и даже не как противники в споре, а как друзья; они сообща ищут истину. В отличие от диалогов Платона, где главный собеседник — всегда мудрец Сократ (даже если он говорит мало), — здесь все три собеседника равноправны: они по очереди высказывают свои мысли и участвуют в их обсуждении («Так как доктор выслушал вашу историю, — говорит Д’Аламберу мадемуазель де Леспинас, — нужно, чтобы он выслушал и мою»).
Собеседники эти — хорошо в то время известные люди, близкие Дидро как друзья и единомышленники. Это Д’Аламбер (1717-1783), математик, крупный теоретик механики, член Парижской, Петербургской и многих других академий наук, непременный секретарь Французской академии, философ-скептик, давний друг и помощник Дидро еще по изданию первых томов «Энциклопедии». В «Сне Д’Аламбера »— это тип трудолюбивого, тонкого ученого, поглощенного точными науками, но испытывающего непреодолимое любопытство к наукам естественным. Ему свойственны живая реакция, скептицизм, привычка постоянно забрасывать собеседника вопросами, чуткое восприятие всего нового. Это Теофиль Бордё (1722-1776), изображаемый как ученый-врач, теоретик и практик, вечно занятый, вечно спешащий, интересующийся общими закономерностями устройства мира, склонный к парадоксам и выражающий не только свои, но и естественнонаучные и философские воззрения Дидро. Наконец, Жюли де Леспинас (1732-1776), хозяйка вольнодумного салона, «сестра философов», свой человек в кругу энциклопедистов, ученица Д’Аламбера и Бордё; она любознательна, жаждет узнавать новое, ей свойственны и тонкость, и вкус к серьезным материям. Правда, поначалу мадемуазель де Леспинас как будто бы нарочно изображает себя глупой и необразованной: не может разобрать свои собственные записи (ведь в них «так напачкано»), стесняется некоторых из них, не умеет прочесть слово «микрокосм» (его ей подсказывает Бордё), идею «всеобщей чувствительности» называет «безумием», «пустяками»; «Для женщин и для поэтов почти всякий довод сводится к сравнению», — насмешливо говорит она о себе. Мадемуазель «любит чудесное», «как ребенок», она даже «готова» всю жизнь «оставаться ребенком». Но постепенно она увлекается и начинает сама рассуждать о самых серьезных вещах. Бордё с удовольствием беседует с нею; он даже поражается: «Вы не только схватываете, что вам говорят; вы способны делать изумительно точные выводы»; «Вы ловки, как фея», — хвалит ее и Д’Аламбер, который не раз взывает к ней во сне, мучимый своими кошмарами.
В «Сне Д’Аламбера» упоминаются и другие реальные лица, настолько хорошо известные собеседникам, что не требуется никаких пояснений: хирург Фр. Ла Пейрони («которого вы могли знать лично»), А. Гретри, Ла Кондамин, механик Ж. Вокансон; несколько раз, без особого почтения, но дружески упомянут Вольтер («Привычки берут верх. Так старик продолжает любить женщин, а Вольтер все еще сочиняет трагедии», иронизирует Бордё; чуть ниже о Вольтере говорится как об одном из «великих людей»).
«Сон Д’Аламбера» создавался в
«Сон Д’Аламбера», повторяем, не «роман», и не подобие «романа»; это и не популяризация науки, чем занимался, например, Фонтенель, один из самых блестящих писателей французского Просвещения («Почему ваши философы не выражаются с таким же изяществом, как Фонтенель?» — запальчиво спрашивает мадемуазель де Леспинас, прельщенная естественнонаучной максимой Фонтенеля о том, что на памяти розы не умирал ни один садовник). Это — сама наука, одно из наиболее полных и наиболее глубоких выражений законченного материализма Дидро, созданное в пору его наибольшей зрелости. И в то же время, как мы старались показать, столько особенностей роднит «Сон Д’Аламбера», одно из немногих его созданий, которыми он, по собственным словам, «любовался», с жанром художественного произведения, в частности с романом «Племянник Рамо». Да и по поводу «Племянника Рамо», даже среди наиболее серьезных современных дизъюитьемистов, нет до сих пор единого мнения: роман ли это? «Куда поместить Племянника Рамо»? — задается вопросом, например, Жан Эрар. — Одновременно „сатира”, роман, драматический диалог и диалог идей, он представляет собою гибрид или „урода” (monstre), из тех, которые так интересовали философов и натуралистов века Просвещения, и Дидро вместе с ними». Попытаемся поискать ответ на этот вопрос.
Конечно, Дидро легко бы мог изложить свои глубочайшие научные идеи, открытия и предвидения в традиционной форме «рассуждения», трактата, как, по-видимому, он легко мог бы вложить любое самое серьезное содержание в традиционную форму романа, повести. Но в нем не был заключен отдельно — ученый, отдельно — философ, отдельно — писатель. Это всегда был один и тот же человек. Конечно, в таких поисках подобного синтеза Дидро был не одинок; эго было характерной особенностью французского Просвещения XVIII в. (вспомним Монтескьё, Вольтера, д’Аржана, Мопертюи, Кейлюса, Бюффона, даже Ж.-Ж. Руссо). Однако в творчестве Дидро она проявилась, как нам кажется, наиболее ярко.
Л-ра: Вестник ЛГУ. Серия 2. – 1984. – № 20. – Вып. 4. – С. 46-54.
Произведения
Критика