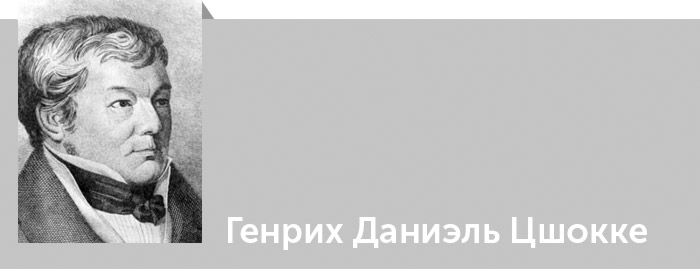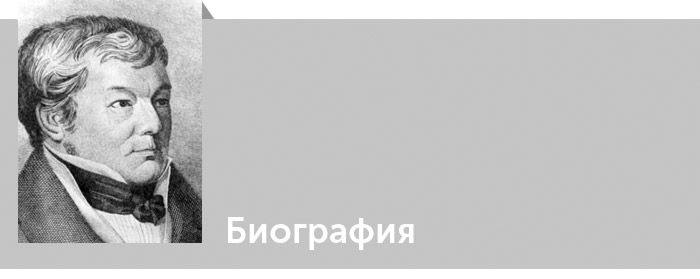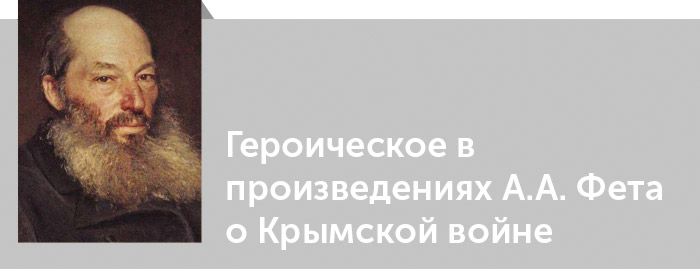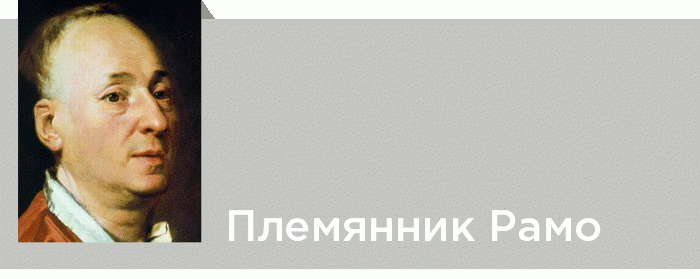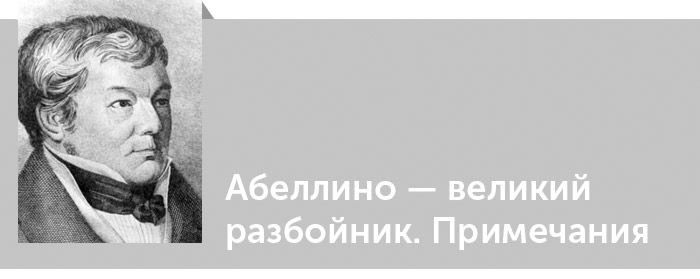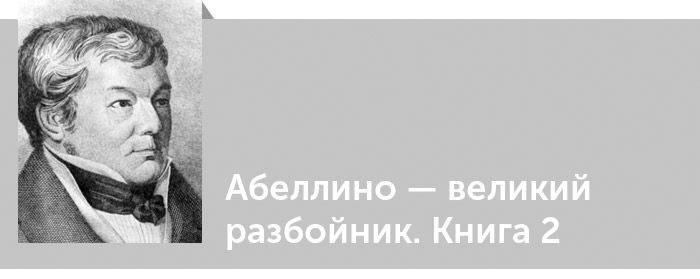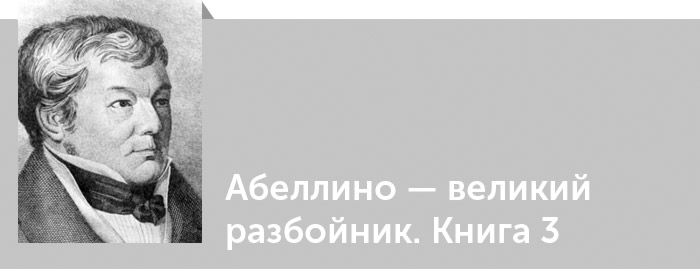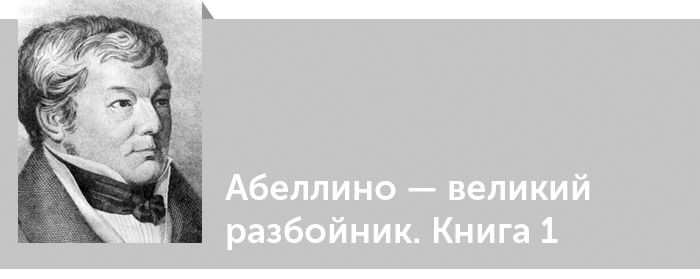Генрих Цшокке. Абеллино — великий разбойник. Предисловие
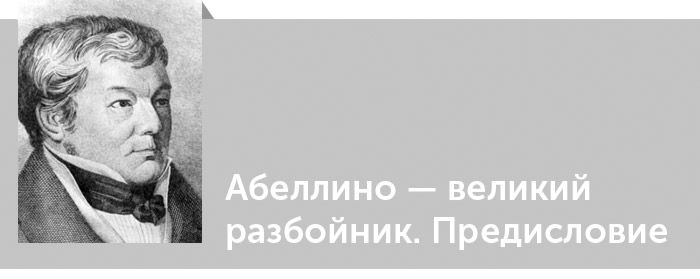
Несмотря на то, что публика в наше время падка только на романтические сцены, взятые из далекого прошлого, рыцарские истории, старинные легенды и разные россказни о временах кулачного права1, я не стану следовать этим примерам, если уж решусь написать что-нибудь годное для чтения, ибо придерживаюсь правила, что не автор должен приспосабливаться к читательским капризам, но, напротив, читатель должен приноравливаться к желаниям автора. Все наши сочинители романов, пичкающие публику рыцарскими историйками, весьма напоминают мне музыкантов, что, по прихоти танцующих, то наигрывают менуэт, а то вдруг ударяют вальцер2.
Коль скоро я вознамерился поведать кое-что своим читателям, то дело не в том, что я рассказываю им, а скорее в том — как я это рассказываю. Мне все равно — преподносить им восточную сказку или западную, правду или полный вымысел, но во всяческой такой болтовне важно для меня представить жизнь, как она есть или какою должна быть. Я беру тот или иной характер, провожу его через ряд ситуаций и наблюдаю, что он являет собой во всех этих обстоятельствах. Сие занятие мне и самому доставляет удовольствие.
Все мои характеры, с какой бы тщательностью я их ни выписывал, оказываются в конце истории обычно совсем иными, нежели в начале. Однако не стоит сетовать на них, полагая, будто они не верны себе, нет! Одно дело изображать людей в романе, другое — в драме.
Всякая драма, построенная по правилам, охватывает лишь короткое время. За день или часа за три человеку не так-то легко перемениться — здесь характер может оставаться одним и тем же от первой до последней сцены; здесь от самих характеров зависят происшествия, поступки и важные события.
В романе же сами происшествия и события формируют и определяют характер, хотя и он на них влияет. Человеческая душа, прошедшая через множество обстоятельств, заимствует оттенок каждого из них, и оттенки эти в конце концов перемешиваются между собой, отчего характеры иных людей становятся пестрыми. Если, например, несчастный смертный пробивается через цепь черных событий, нет причин недоумевать, что настроение его становится в итоге мрачным и печальным. Пройди он сквозь одни розовые обстоятельства, кто удивился бы его веселости?
Но я не просто наблюдаю человеческие характеры с разных точек зрения и в разных обстоятельствах. Я всегда верен единственно возможному принципу всякой психологической эстетики, цели благородного искусства, каковая лишь одна может поднять его до высочайшей степени совершенства, этот принцип — неустанно говорить о добрых чувствах3.
И если я достигаю желанной цели, если смогу пробудить в своих читателях хотя бы от случая к случаю моральное чувство, то есть чистое удовольствие от великих добродетельных поступков и мыслей, если хоть одна грудь наполнится любовью, состраданием и дружеством, если хотя бы один-единственный читатель скажет себе: поступай в своих условиях, в зависимости от своего воспитания и своих познаний так же добродетельно и прекрасно, как тот или иной герой этого повествования, если я сумею внушить энтузиазм в отношении нравственности и добродетели хотя бы только одному сердцу, то тогда — тогда я победил, тогда я вправе воскликнуть: «Триумф! Даже те немногие мгновенья уединения и отдыха, что скупо были мне отпущены среди серьезных занятий, принесли благо собратьям моим!»
Итак, читатели мои, я облекаю естественность и правду в одежды повести, и если бы каждый сочинитель ставил перед собою эту замечательную задачу, то не пришлось бы нам слушать столь много отвратительного, глупого вранья, коим наслаждаются нынче слабые духом юноши и девицы, а наши критики и рецензенты обратились бы не к сюжету, а к его внутренней ценности, не к форме, а к содержанию. На поэта можно с этой точки зрения взглянуть как на живописца, что изображает нам идеальное и реальное — человеческие фигуры то с крыльями, то в сюртуках — не ради крыльев и сюртука, но чтобы пробудить в зрителе чувства добра, благородства и красоты.
Те, кто знаком со мной лично, упрекнут меня, пожалуй, и теперь: «Почему вы не напишете чего-либо более основательного, более полезного?»
Отвечаю: пока я способен говорить о новом, добром, полезном в других отраслях знания, я не устану делать это. Но и здесь памятую пословицу: всегда думайте, «quid valeant humeri, quid ferre recusent»*).
Кроме того, поэт, если он следует своему истинному предназначению, приносит обществу такую ж пользу, как государственный муж в министерстве или ученый на кафедре. Плохой поэт, напротив, есть такой же ноль в Божьем мире, как какой-нибудь дровосек в министерстве или же ослиная голова на кафедре.
Надеюсь с помощью благожелательных критиков достигнуть высокой цели поэта — а значит, не упрекайте меня в том, что я написал всего лишь роман!
Аmen**)