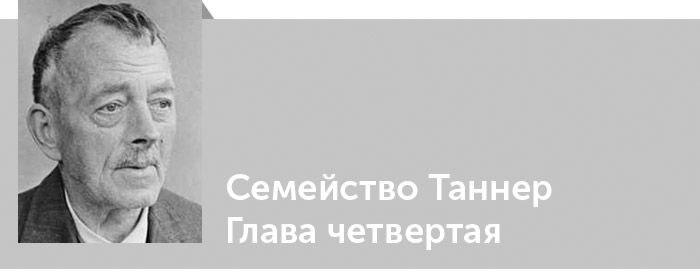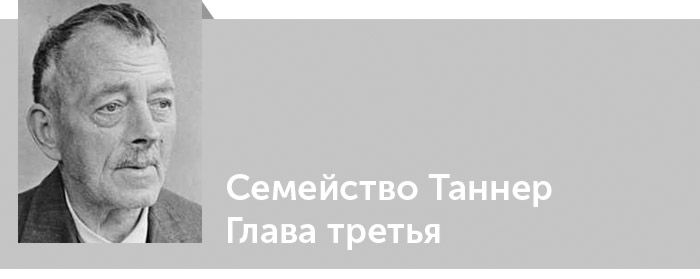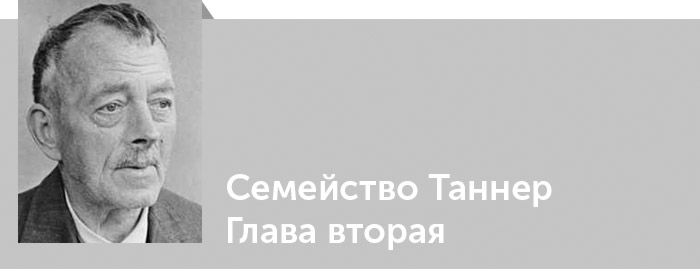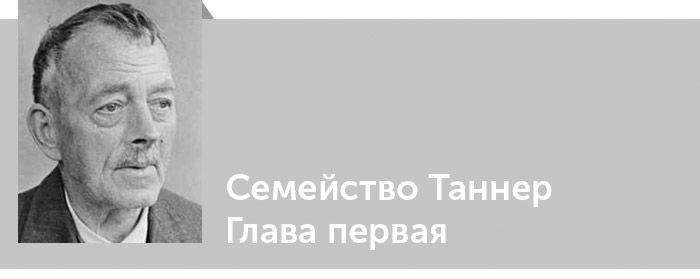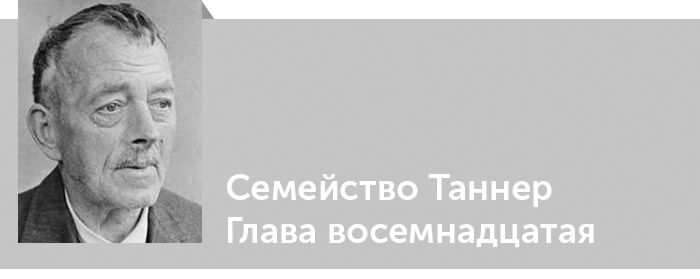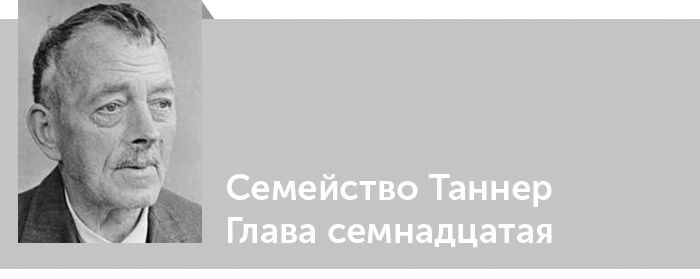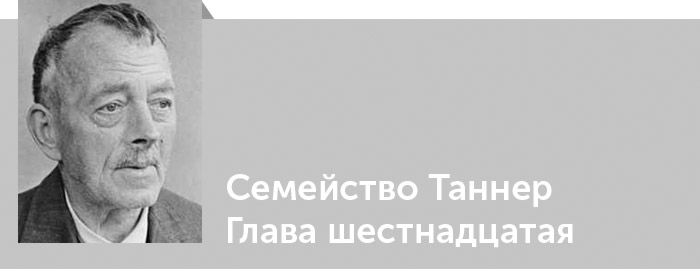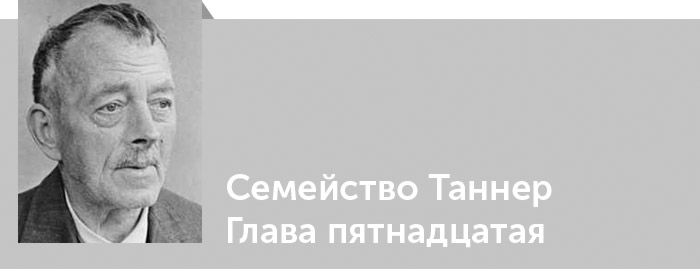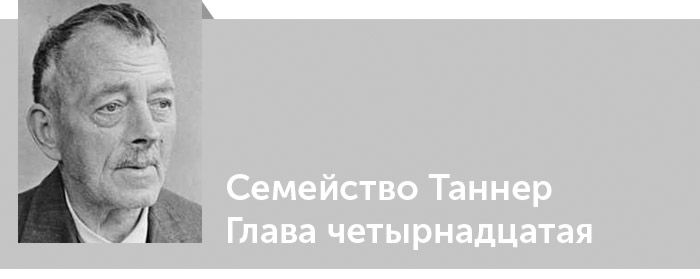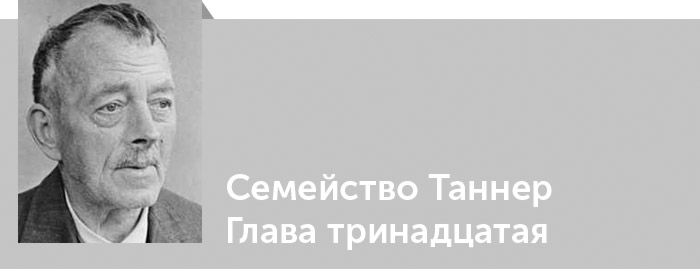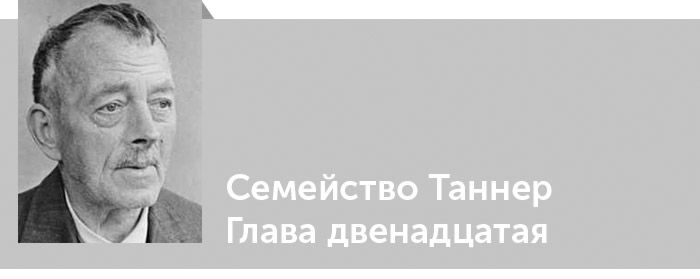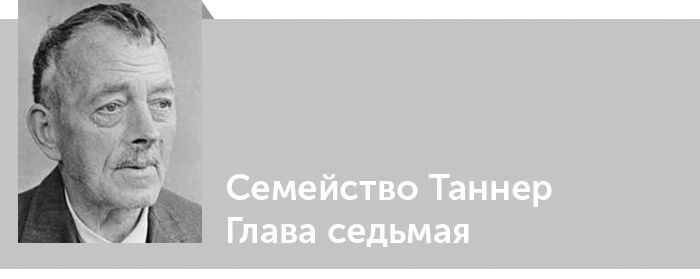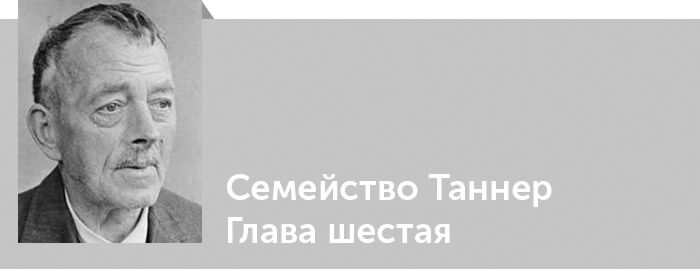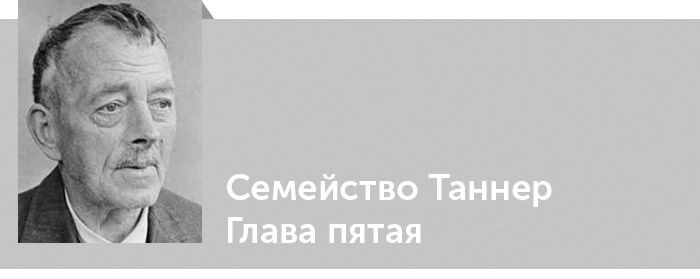Роберт Вальзер. Семейство Таннер. Глава 8
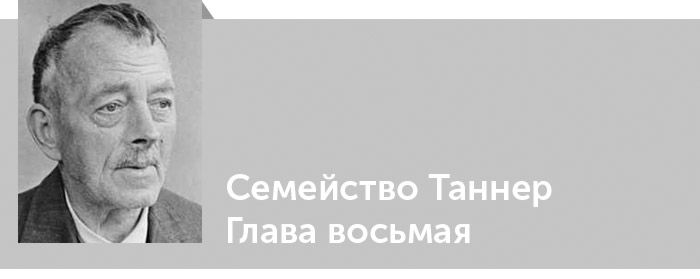
В деревушке с утра шел снег. Ребятишки явились в школу все в снегу, с вымокшими башмаками, штанами, куртками, волосами и капюшонами. Принесли в класс запах снега и мелкие камешки с грязных, раскисших дорог. Из-за снегопада детвора была рассеянна и приятно возбуждена, к внимательности не склонна, что слегка раздосадовало учительницу. Она хотела было начать урок Закона Божия, когда приметила за окном темное, гибкое, подвижное, идущее пятно, которое никак не могло быть кем-то из крестьян, – слишком уж грациозное да проворное. Оно прямо-таки пролетело мимо окон, и дети вдруг увидели, как их учительница, забывши обо всем, бросилась вон из класса. Хедвиг выбежала за порог и тотчас угодила в объятия брата, который стоял возле самой двери. Она плакала и целовала Симона, провела его в одну из двух комнат, предоставленных в ее распоряжение.
– Я тебя не ждала, но как же хорошо, что ты пришел, – сказала она, – раздевайся. Мне надо провести уроки, но сегодня я распущу детей по домам на час раньше. Ничего страшного. Все равно они нынче так невнимательны, что я вполне могу осерчать и спровадить их пораньше.
Она пригладила волосы, изрядно растрепанные после бурных объятий, сказала брату «до свидания» и вернулась на урок.
Симон начал устраиваться в деревне. Почтовая карета доставила его чемоданы, и он распаковал свои вещи. Вообще-то вещей было немного: несколько старых книг, которые он не захотел ни продавать, ни раздаривать, бельишко, черный костюм да узелок со всякой мелочью вроде бечевки, шелковых лоскутков, галстуков, шнурков, свечных огарков, пуговиц и ниток. У соседки-учительницы позаимствовали старую железную кровать с соломенным тюфяком – вполне сойдет для деревенского ночлега. Эту кровать ночью на широких санках привезли из соседней деревни. Хедвиг и Симон устроились на диковинном средстве передвижения, а сын подруги-учительницы, крепкий паренек, только что вернувшийся с армейской службы, спустил санки с горы в низину, где располагалась школа. При этом все трое смеялись. Кровать поставили во второй комнате, снабдили простыней, подушкой и одеялом – словом, приготовили для человека, который не предъявляет к спальному месту непомерных требований, а Симон был далек от подобных капризов. Поначалу Хедвиг думала: «Ко мне он приехал, оттого что ему больше негде жить в широком мире. Для этого я вполне гожусь. Будь у него где спать и есть, он нипочем бы не вспомнил о своей сестре». Но вскоре она прогнала эту мысль, которая возникла попросту в порыве строптивости, забрела в голову, однако ж не доставила ни малейшего удовольствия. Симон в свою очередь немного стыдился, что пользуется добротой сестры, но тоже недолго; привычка быстро стерла это ощущение, он привык, и все тут! Денег у него вправду не осталось ни гроша, и он тотчас, в первые же дни, разослал письма всем окрестным нотариусам с просьбой предоставлять ему, отличному каллиграфу-переписчику, работу. Да и зачем в деревне деньги? Во всяком случае, потребность в них невелика. Постепенно обидчивая настороженность меж обитателями школьного здания исчезла, они жили так, будто всегда жили сообща, и радостно делили лишения и удовольствия.
Стояла ранняя весна. Уже можно было без особых опасений открывать окно, да и печь только подтапливать. Дети приносили Хедвиг в класс большущие букеты подснежников, повергая ее в растерянность – куда бы их поставить, вазочек не хватало. В воздухе веяло дурманным предчувствием весны. На солнцепеке уже прогуливался народ. Симон стал знаком здешним простым людям, совершенно невзначай, они не очень расспрашивали, кто он такой, брат учительницы, вот и все, значит, достоин уважения. Наверно, в гости приехал, поживет тут немного, думал народ. Одежда у Симона изрядно обтрепалась, но держался он с легким, приятным изяществом, которое превосходно скрадывало непрезентабельность его платья. Рваные башмаки тут большого внимания не привлекали. Симону очень нравилось ходить в худых башмаках; для него в этом заключалась одна из замечательных приятностей деревенской жизни. Когда появятся деньги, тогда и подумает о починке обуви, опять же спокойно, без спешки! Может, повременит с этим недели две; много ли значат на селе две недели! В городе надобно все делать быстро, здесь же имеешь чудесную возможность откладывать все со дня на день, оно даже как бы откладывалось само собой, ведь дни текли незаметно, оглянуться не успеешь – уже опять вечер, а за ним уютная ночь, когда все вправду спит в объятиях Морфея, пробуждаясь лишь от осторожных, мягких и ласковых прикосновений нового дня. Полюбились Симону и большей частью грязные деревенские дороги, как малые ведущие через осыпи, так и большие, где, коли не уследишь, мигом увязнешь в слякотной жиже. Но в том-то и дело! Тут есть возможность уследить, тут сразу приметят горожанина, что привык ходить по улице осторожно и со слегка наигранным испугом перед грязью. Пожилые деревенские женщины, наверно, думают, что этот молодой человек чистоплотный да осмотрительный, а девушки могут посмеяться над большими прыжками, какими Симон преодолевал колдобины и лужи. Не раз небо хмурили клубящиеся темные тучи, становилось пасмурно, порой случались замечательные бури, сотрясали лес и мчались над мшарами, где трудились люди, резали торф, меж тем как рядом терпеливо стояли лошади. А нередко небо улыбалось, так что все, кто это видел, немедля тоже расплывались в улыбке. Лицо Хедвиг принимало торжествующее выражение, учитель, живший на верхнем этаже, надевал очки, с любопытством высовывался наружу и на свой лад наслаждался прелестью дружелюбного неба. Симон купил себе в лавочке дешевую трубку и табаку. Ему казалось замечательным и уместным курить в деревне только трубку, ведь трубку можно набивать, а это занятие вполне под стать открытому полю и лесу, где он проводил почти все светлое время суток. В теплый полдень он лежал в светло-желтой траве под чудесным ласковым небом на речном берегу и не только позволял себе, но просто не мог не мечтать. Однако мечтал не о чем-то большом, далеком и прекрасном, нет, совершенно счастливый, размышлял и грезил о том, что его окружало, ведь ничего прекраснее он представить себе не мог. Хедвиг, такая близкая, была предметом его мечтаний. Он позабыл обо всем остальном мире, а трубочный табак, который он курил, опять-таки приводил его в деревню, к школьному дому, к Хедвиг. «Она, – думал он, – плывет в челне со своим похитителем. Озеро маленькое, как парковый пруд. Она неотрывно смотрит в большие, черные, мрачные глаза мужчины, который недвижно сидит в челне, и думает: “Как он вперяет взор в воду. На меня и не смотрит. Но весь этот водный простор смотрит на меня его глазами!” У мужчины кудлатая борода, словно у разбойника. Этот человек, как никто, умеет быть галантным. Способен галантностью довести себя чуть не до смерти, глазом не моргнет, а уж тем паче не станет откровенно хвастать своим поступком. Он вообще никогда не хвастает. Голос у него теплый, чудесный, но любезностей он не говорит никогда. Никогда с его гордых губ не слетает комплимент, и голос свой он намеренно искажает, чтобы тот звучал резко и бессердечно. Однако девушка знает, что у него бесконечно доброе сердце, а все же не смеет обратиться к этому сердцу с просьбой. Протяжной нотой звенит над водою какая-то струна. Хедвиг мнится, будто она умрет в этом звенящем воздухе. Небо над водой такое же, как сейчас надо мною, – легкое, водянисто-голубое. Парящее, висячее озеро в вышине, вполне под стать всему. Деревья парка под стать здешним высоким, качающимся деревьям. В здешних есть что-то парковое, господское. Только на воображаемой картине всё компактнее и сложнее, и я вновь скольжу туда, более не задерживаясь на ее тайной связи со мною и здешней округой. Мужчина берет весло и решительно приводит челн в движение. Хедвиг чувствует, что таким манером он, вероятно, противодействует собственному теплу и любви. Ощущать в душе любовь и нежность для него унизительно, и он беспощадно карает себя за допущенное мягкосердечие. Прямо-таки неестественная гордыня. Не мужчина, а помесь мальчишки и великана. Мужчина не станет негодовать на бурю эмоций, не то что мальчишка, который хочет быть не просто искренне чувствующим мужчиной, нет, он хочет быть великаном, могучим великаном, никогда не впадающим в слабость. Мальчишка обладает добродетелями рыцарственности, каковые мужчина, мыслящий разумно и зрело, всегда отметает как никчемные довески к празднику любви. Мальчишка менее боязлив, нежели мужчина, оттого что менее зрел, ведь зрелость легко делает подлым и эгоистичным. Посмотрите только на твердый, злой рот мальчишки-подростка: очевидное своенравие и явное упорствование на когда-то втайне данном самому себе слове. Мальчишка держит слово, мужчина предпочитает его нарушать. Для мальчишки самое прекрасное – твердо держать слово (Средневековье), для мужчины же – заменять одно обещание другим, новым, которое он мужественно обещает сдержать. Он дает обещания, мальчишка держит слово до конца. Юное его чело обрамлено кудрями, на изогнутых губах – смертельное упорство. Глаза точно кинжалы. Хедвиг трепещет. Деревья парка так уютны, чуть ли не расплываются в нежно-голубом воздухе. Там, под деревьями, сидит мужчина, которого она презирает. Того, кто сидит рядом и в ком нет любви, она не любить не может, хотя он ничего не обещает. Он пока не давал обещаний, позволил себе похитить ее, не шепнув взамен на ушко ни единого ласкового слова. Шепот – дело другого, этот шептать не умеет. А если бы и умел, все равно нипочем бы не стал шептать, разве что в такой миг, когда другим даже в голову не придет что-то говорить. Однако ж она любит его, сама не зная почему. Ей нет от этого никакого проку, она не смеет питать надежды, какие охотно питают женщины, ее ждет только лишь безжалостное обращение, необузданные прихоти, ведь именно так господин обходится со своей собственностью. Но она чувствует себя счастливой, когда он обращается к ней резко, пренебрежительно, словно она уже его собственность. Да так оно и есть, и он это знает. На свою собственность он не обращает внимания. Волосы у нее распустились, чудесные волосы, падающие вдоль узких розовых щек будто текучий шелк. “Подбери их”, – велит он, и она спешит подчиниться приказу. Подчиняется с восторгом, и он, разумеется, это видит, а коли закроет глаза, услышит ее вздох, какой можно услышать лишь от людей счастливых или таких, кто торопится выполнить работу, которая, возможно, неудобна для рук, зато льстит сердцам. Оба вылезают из челна, ступают на берег. Земля мягкая и легонько пружинит под ногами, словно ковер или даже несколько ковров, уложенных друг на друга. Трава прошлогодняя, желтая, как и здесь, где я курю трубку. Внезапно на сцене появляется девушка, маленькая, бледная, хмурая. Наверно, принцесса, ведь наряд у нее роскошный, с пышной широкой юбкой; в таком обрамлении грудь ее похожа на тугой бутон. Платье темно-красное, цвета запекшейся крови. Лицо прозрачно-бледное, как небо зимним вечером в горах. “Ты меня знаешь! – С этими словами она обращается к пораженному мужчине, который просто оцепенел. – И ты еще смеешь смотреть на меня? Иди, убей себя. Я приказываю!” Так она говорит ему. И он как будто готов подчиниться. Откуда это видно? А по лицу. Именно такое выражение оно принимает, когда предстоит нечто неотвратимое. Обычно возникает гримаса. Лицо дергается, необходимо стиснуть зубы, чтобы с ним совладать. Оно грозит взорваться. Часть носа вот-вот отвалится. Во всяком случае, в этаких случаях происходит нечто подобное. Однако ж я отнюдь не готов идти вместе с этим безумцем на самоубийство, ведь ему понадобится длинный нож, а у меня с собой, кажется, только трубка, а ножа нет. Сперва мне нравилась эта моя фантазия, но, как я погляжу, она того и гляди выйдет из-под контроля, да и к Хедвиг не подходит; Хедвиг – девушка кроткая и если страдает, то страдает красивее и тише. Моего кудлатого бородача она бы высмеяла за наглость. А вот пейзаж, который я нарисовал, был очень недурен, правда, лишь потому, что я в общих чертах позаимствовал его из окружающей природы. Мечтая, ни в коем случае нельзя покидать почву естественности, в том числе и когда представляешь себе людей, иначе мигом угодишь туда, где один из твоих персонажей произносит: “Иди, убей себя”. И тогда кому-то придется гримасничать, а гримаса вызовет смех и непременно испортит самую красивую фантазию!..»
Симон отправился домой. Взял в привычку каждый день в определенное время, ближе к вечеру, не спеша, как правило опустив взгляд к черновато-бурой земле, идти домой, чтобы приготовить чай, и достиг в приготовлении чая истинного мастерства – всегда брал ровно столько мелких душистых листочков, сколько потребно на одну заварку, не больше и не меньше, посуду держал в чистоте и ставил ее на стол привлекательным и грациозным жестом, воду на спиртовке никогда не кипятил слишком долго и с чаем ее смешивал должным образом. Для Хедвиг это стало маленьким облегчением, потому что теперь она могла быстренько выбежать из класса, выпить чаю, а потом вернуться к работе. Утром, вставши с кровати, Симон приводил в порядок постель, а затем шел на кухню и готовил какао, к удовольствию Хедвиг очень вкусное, так как и в этом занятии знал надлежащую хитрость, которая и придает любому делу, даже самому незначительному, необходимое совершенство. Кроме того, он наловчился, причем как бы невзначай, без всякого обучения и без усилий, растапливать печь и поддерживать огонь, а также прибирать комнату Хедвиг, и тут сноровка, с какою он орудовал длинной метлой, оказалась весьма кстати. Он открывал окна, чтобы впустить свежий воздух, но аккуратно их закрывал, когда, по его мнению, в комнате было тепло и одновременно пахло свежестью. Повсюду в комнате стояли горшочки с цветущими растениями, взятыми у окрестной природы и распространявшими свои ароматы в тесноте этих четырех стен. На окнах висели простенькие, но изящные занавески, которые делали комнату еще светлее и уютнее. На полу лежали теплые лоскутные половики, по просьбе Хедвиг их связали горемычные тюремные узники, превосходно выполнявшие подобные работы. В одном углу стояла кровать, в другом – пианино, между ними – старый диван с цветастой обивкой, довольно большой стол и стулья; еще в комнате были умывальник, письменный столик с бюваром, заставленная книгами этажерка, перевернутый ящичек на полу, застланный мягкой тканью и служивший для сидения и чтения (ведь при чтении иной раз возникала потребность быть поближе к земле, на восточный манер), затем рукодельный столик со швейной корзинкой, полные удивительных мелочей, которые совершенно необходимы домовитой девушке, диковинный круглый камень с почтовым штемпелем и маркой, птичка, куча писем и почтовых открыток, а на стене – духовой рог, кружка для питья, трость с большим крюком, рюкзак с фляжкою и хвостовое соколиное перо. Вдобавок на стенах висели Каспаровы картины, в том числе вечерний пейзаж с лесом, вид на крыши из окна, туманный серый город (для Хедвиг особенно красивый), участок реки в сочных вечерних тонах, летнее поле, рыцарь Дон Кихот и дом, так прижатый к холму, что впору сказать вместе с поэтом: «Там, позади, лежит жилище». На пианино, крышка которого была застлана шелковым платком, стоял фарфоровый бюст Бетховена, имитирующий позеленевшую бронзу, несколько фотографий и маленькая красивая шкатулочка, пустая, просто память о матери. Портьера, похожая на театральный занавес, разделяла комнаты и обоих спящих. Комната учительницы выглядела особенно уютно вечером, когда зажигали лампу и закрывали ставни; а утром солнце будило спящую, которая не хотела вылезать из постели, но поневоле вставала.
Нотариусы оставили Симона в беде, ни один из них не откликнулся. Оттого он решил заработать немного денег иным способом, надеясь продемонстрировать сестре, что искренне желает внести хотя бы небольшой вклад в домашнее хозяйство. Взял лист бумаги и написал нижеследующее.
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Со снегом я пришел сюда, в сельский дом, и хотя я не хозяин его и не имею намерения стать им, я все же могу чувствовать себя таковым и в этом смысле, пожалуй, счастливее владельца городской квартиры. Комната, где я живу, и та принадлежит не мне, а кроткой, милой учительнице, которая приютила меня и кормит, коли проголодаюсь. Я из тех, кто зависит от дружеской милости других людей, потому что вообще охотно завишу от кого-нибудь, чтобы любить этого кого-нибудь и доглядывать, не потерял ли я его доброе расположение. Для этакого состояния благороднейшей из всех несвобод надобно избрать особенное поведение, держаться меж дерзостью и ласковым, тихим, естественным вниманием, и я умею это превосходно. Главное, ни в коем случае не дать хозяину почувствовать, что ты ему благодарен, иначе выкажешь робость и трусость, которые наверняка обидят дарующего. В душе поклоняешься доброму человеку, зовущему тебя под свой кров, однако не проявишь тонкости чувств, коли вздумаешь громогласно выразить ему благодарность, которой он вовсе не желает, ибо дарил и дарит не затем, чтобы получить взамен жалкую безделицу. Ведь в определенных обстоятельствах благодарность и есть жалкая безделица. Ни больше ни меньше. И еще одно: в деревне благодарность не болтлива, а скорее молчалива и тиха. У благодарного своя манера поведения, поскольку он видит, что и у противоположной стороны собственная особая манера. Деликатные дарители чуть ли не застенчивее получателей и рады, когда получатели принимают их дар просто и непринужденно, дабы они, дарители, могли даровать с достоинством и без лишних церемоний. Учительница, кстати, приходится мне сестрою, однако ж это обстоятельство не помешало бы ей при желании прогнать меня, бездельника. Она храбрая и искренняя. И приняла меня, конечно, и с любовью, и с недоверием, так как волей-неволей подумала, что оборванец-брат заявился к ней, солидной сестре, потому только, что не знал, куда ему податься в Божием мире! Наверно, в этом было что-то неприятное для нее и обидное, ведь, коли на то пошло, я месяцами, даже годами не писал ей ни строчки. И она определенно решила, что пришел я, просто чтобы обеспечить пропитанием собственное тело, которому на самом деле порой не повредила бы изрядная порка, а не оттого, что обеспокоился и надумал проведать сестру. Теперь-то все переменилось, напряженность развеялась, и мы живем рядом уже не как кровные родственники, но как товарищи, которые отлично друг с другом ладят. Ах, в деревне двум людям легко поладить друг с другом. Что-то там позволяет быстрее отделаться от скрытности и недоверия и любить друг друга светлее и веселее, нежели в тесном городе, полном множества людей и дневных забот. В деревне даже у самого бедного меньше забот, чем у куда менее бедного в городе; ведь там все измеряется речами и деяниями людей, тогда как здесь забота живет себе тихонько и живет, а боль естественно погибает в других болях. В городе все нацелено на то, чтобы разбогатеть, поэтому там столь много таких, что считают себя горькими бедняками, а вот на селе, по крайней мере большей частью, бедняка не оскорбляют вечным сравнением с богачом. Он может спокойно дышать своею бедностью, ведь над ним небо, которое позволяет ему перевести дух. А в городе что за небо! Я сам владею всего лишь мелкой серебряной монеткой, и ее, поди, хватит на бельишко. И сестра моя, у которой нет от меня секретов, кроме совсем уж невыразимых, признается, что у нее тоже нет денег. Однако нас это не тревожит. Мы получаем и свежий хлеб, и свежие яйца, и ароматные пироги – сколько душе угодно. Ребятишки приносят все это, родители велят им отнести учительнице. На селе еще умеют дарить так, что принять дар поистине почетно. В городе человек в конце концов уже боится дарить, ибо принимающий начинает стыдиться подарка, я вправду не знаю почему, может, потому, что в городе люди наглеют перед добрыми дарителями. Там остерегаются выказать благородное сочувствие нуждающемуся и подают украдкой или с некрасивой рекламой. Какая ужасная слабость – бояться бедняков и самому пожирать свое богатство, вместо того чтобы придать ему тот блеск, каким осеняет себя королева, протягивая руку скверной нищенке. Я полагаю несчастьем быть бедняком в городе, ведь там нельзя просить, поскольку чувствуешь, что о добром подаянии и речи нет. По крайней мере, истинно одно: лучше вовсе не давать и не чувствовать сострадания, чем делать это нехотя, с сознанием, что поддался слабости. На селе дающий не слаб, ему хочется давать, и подчас он прямо-таки почитает для себя за честь, что ему дозволено давать. Тот, кто остерегается давать, наверняка однажды, когда судьба повергнет его в нищету и ему придется просить, будет просить плохо и принимать подаяние неуклюже и смущенно, то бишь вправду как попрошайка. До чего отвратительно со стороны людей зажиточных игнорировать бедняков. Лучше уж мучить их, принуждать к барщине, угнетать и осыпать ударами, так возникают ярость и злоба, а это тоже своего рода связь. Но отсиживаться в красивых домах, за золочеными садовыми решетками и страшиться ощутить теплое дыхание людей, не сметь более сорить деньгами, из опасения, как бы этого не заметили обозлившиеся угнетенные, угнетать и не иметь мужества показать, что ты угнетатель, да еще и бояться угнетенных, не радоваться своему богатству и не способствовать благополучию других, применять прескверное оружие, которое не требует ни настоящего упорства, ни мужества, иметь деньги, только деньги, но притом не иметь блеска – вот каков образ нынешних городов, и, по-моему, он весьма дурен и нуждается в улучшении. На селе пока что не так. Здесь неимущий бедолага лучше знает, как с ним обстоит; он вправе со здоровой завистью смотреть снизу вверх на богатых и зажиточных, ему это дозволяют, ведь таким образом он умножает достоинство тех, на кого смотрит. На селе стремление иметь собственный дом укоренено очень глубоко и достигает Божиих высей. Здесь, под распахнутыми бескрайними небесами, вправду блаженство – владеть красивым просторным домом. Иначе в городе. Там нувориш может жить обок графа из древнего рода, деньги даже способны по своему произволу сносить жилища и старинные святыни. Кто в городе желает владеть домом? Ведь там это всего-навсего гешефт, а не гордость и не радость. Дома снизу доверху населены самыми разными людьми, которые проходят мимо друг друга, не знают друг друга и не желают знать. Разве это дом? А ведь именно такими домами заполнены длинные-предлинные улицы, которым, чтобы должным образом их обозначить, надобно измыслить какое-нибудь особенное новое имя. Вдобавок на селе, в сущности, и происходит больше, чем в городе; в городе о событиях читают в газетах, с безразличием и скукой, тогда как здесь новости сообщают из уст в уста, взахлеб и с восторгом. Возможно, в деревне что-нибудь происходит лишь раз в год, зато переживают такое событие поголовно все. Деревня во всех своих уголках и закоулках вообще почти всегда культурнее и интеллигентнее, чем обычно склонен считать горожанин. Сколько старушек, вполне подходящих в бабушки кому угодно, сидят там у окна за белой занавеской и могут рассказать поистине чудесные истории, а иной деревенский ребенок преуспевает в формировании характера и разума куда лучше, чем мы готовы предположить. Ведь частенько бывало, что такой деревенский ребенок, переведенный в городскую школу, повергал в удивление новых товарок и товарищей своим развитым, светлым умом. Однако я не хочу корить город и слишком превозносить село. Просто дни здесь так прекрасны, что город легко забывается. Они пробуждают в душе стремление в широкий мир, только идти никуда не хочется. Здесь во всем и уход, и приход. Уходящие дни уступают место чудесным вечерам, когда идешь на прогулку, по дорогам, которые вечер как бы открывает перед тобою и которые ты сам открываешь именно вечером. Дома подступают ближе, окна сверкают. Даже в дождь здесь красиво, ведь ты тогда думаешь: как хорошо, что идет дождь. С тех пор как я здесь, дело идет к весне, весна все больше вступает в свои права, можно оставлять окна и двери открытыми настежь, мы начинаем копать огород, все остальные уже это сделали. Мы – самые запоздалые, да оно и неудивительно. Целый воз черной, влажной, дорогой земли сгрузили у нас, и эту землю надобно перемешать с огородной. Придется мне попотеть, и я очень даже рад, сколь ни невероятно слышать от меня такое. Я не прирожденный лентяй, нет, я бездельничаю, оттого что разные конторы и нотариусы не хотят дать мне работу, они же понятия не имеют, сколько от меня было бы пользы. Каждую субботу я выбиваю половики, тоже какая-никакая работа, стараюсь научиться стряпать, ведь и это недурное желание. После еды я вытираю мытую посуду и разговариваю с учительницей; нам есть что сказать друг другу, есть что обсудить, и вообще я люблю поболтать с сестрой. По утрам я подметаю комнату, отношу посылки на почту, возвращаюсь домой и размышляю о том, что бы еще сделать. Обычно делать нечего, и я иду в лес, сижу под буками, пока не настает время или пока мне не кажется, что настало время воротиться домой. Глядя, как люди работают, я невольно стыжусь, что ничем не занят, но, по-моему, мне ничего другого и не остается, как только чувствовать стыд. День представляется мне подарком доброго божества, которое не прочь подбросить что-нибудь бездельнику. Я хочу работать и возьмусь за работу, как только она мне подвернется, – больше я от себя ничего не требую, так как вижу, что и без того все неплохо. Это очень под стать деревенской жизни. Здесь нельзя чересчур надрываться, иначе утратишь видение прекрасного целого, утратишь достоинство созерцателя, который тоже нужен миру. Единственную боль причиняет мне моя сестра, ведь я не могу вернуть ей долг, а вдобавок вижу, с каким трудом она исполняет свои унылые обязанности, пока я предаюсь мечтаниям. Позднейшие времена накажут меня за мое безделье, коли этого не случится раньше, но думаю, моему Богу я и так по нраву; Бог любит счастливых и ненавидит унылых. Моя сестра никогда не унывает подолгу; ведь я постоянно подбадриваю ее и смешу, выставляя себя перед нею на посмешище, к чему у меня особый талант. Правда, смеется надо мной одна только сестра, в ее глазах я обладаю дружелюбным комизмом, перед другими я веду себя с достоинством, хотя и не чопорно. Человек обязан внешне оправдывать свое бытие серьезным поведением, коли не хочет прослыть мошенником. Сельский народ очень восприимчив к поведению молодых людей, которых хочет видеть солидными, обходительными и скромными. Заканчиваю и надеюсь этим сочинением заработать сколько-нибудь денег, если же нет, то все равно я получил живое удовольствие, когда писал его, да и несколько часов прошли, пока я занимался сочинительством. Несколько часов? Да-да! Ведь в деревне пишешь медленно, часто отвлекаешься, пальцы уже не так послушны, и мысли текут неторопливо, по-деревенски. Прощайте, горожане!