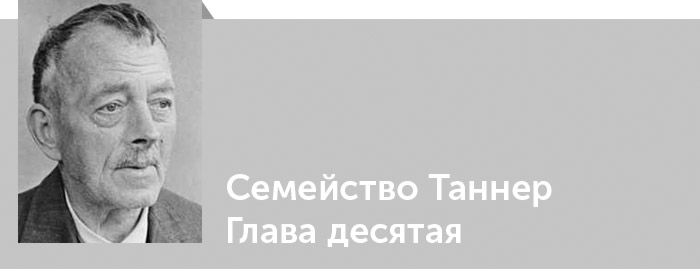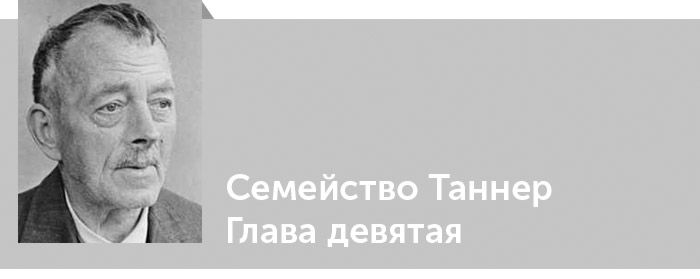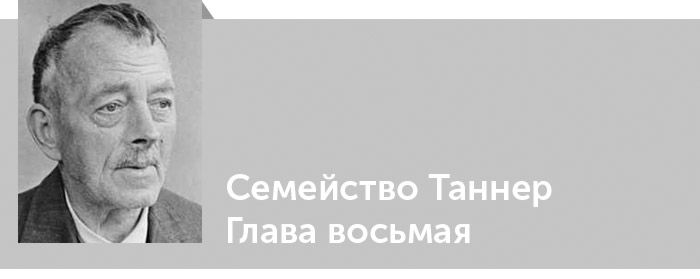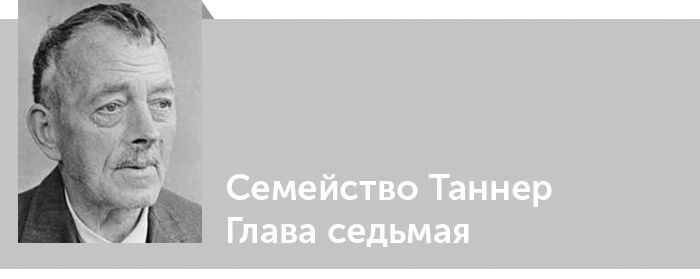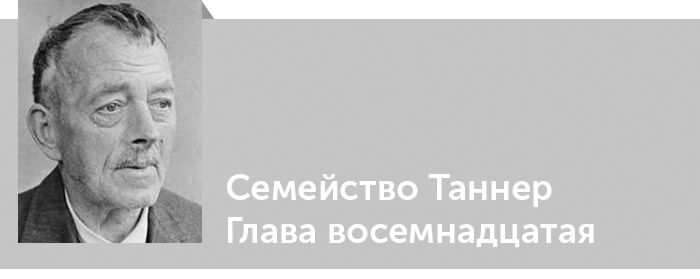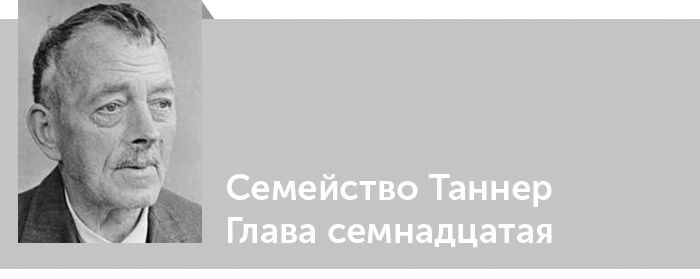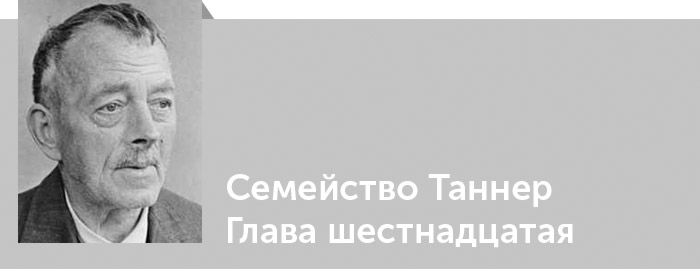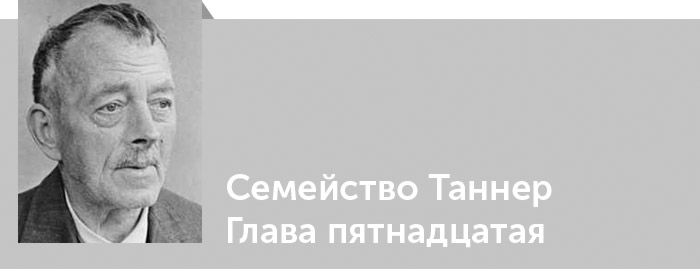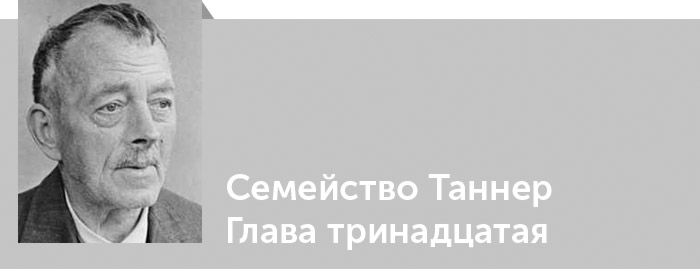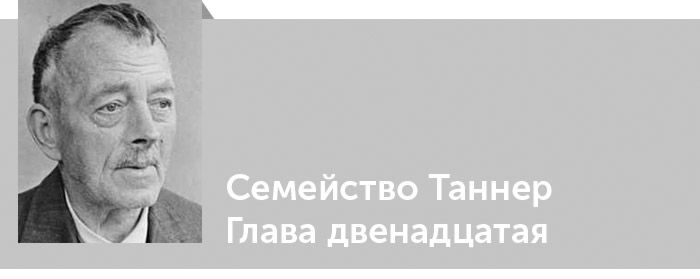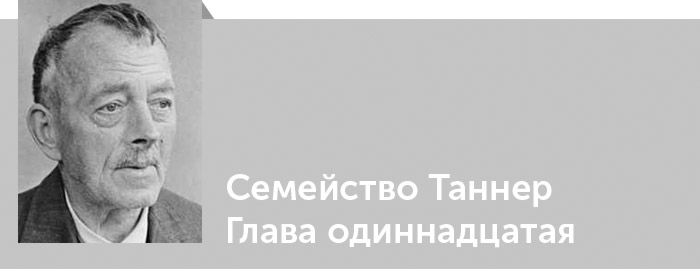Роберт Вальзер. Семейство Таннер. Глава 14
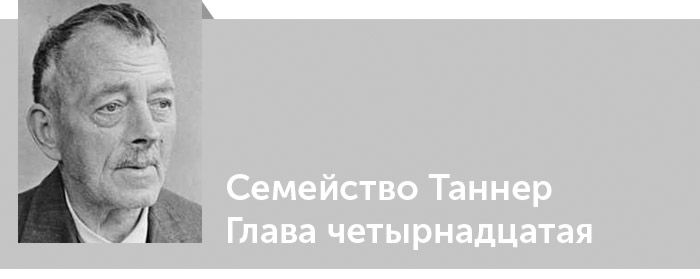
Часок почитав, Симон погасил лампу, отворил окно, вышел из комнаты, спустился вниз, в крутой переулок. Тяжелая, теплая тьма объяла его. Старый городской квартал изобиловал мелкими трактирчиками, так что на ходу сразу и не выберешь. Он прошел несколько шагов по оживленной людной улице и вошел в один из трактирчиков. За круглым столом сидела небольшая веселая компания, центром которой, видимо, был коротышка-острослов, потому что все смеялись, едва он открывал рот. Надо полагать, человек этот был из таких, кто невольно вызывает смех и ощущение комизма, что бы он ни сказал. Симон подсел за столик к двум молодым людям и невольно прислушался к их разговору. Беседовали они серьезно, используя в речи весьма умственные обороты. Предметом обсуждения, судя по всему, был некий несчастный юноша, которого оба как будто бы хорошо знали. Однако теперь один из них замолчал, а второй начал рассказ, и Симон услышал вот что:
– Н-да, отличный был парень! Еще маленьким мальчишкой, когда носил длинные локоны и короткие штаны и ходил по улицам городка, держась за руку няньки. Люди оглядывались на него, говорили: «Какой красивый парнишка!» Свои задания он выполнял с большим талантом, я имею в виду школьные уроки. Учителя любили его, нравом он был кроток и легко поддавался воспитанию. Ум позволял ему учиться в школе играючи. Он был превосходным гимнастом, отлично рисовал и считал. По крайней мере, я знаю, что учителя впоследствии ставили его в пример другим поколениям учеников, даже старшеклассникам. Мягкие черты лица и чудесные глаза, в которых угадывался мужчина, пленяли всех, кто общался с этим мальчуганом. Он достиг некоторой известности, когда родители послали его в среднюю школу. Избалованный матерью, что никого не удивляло, и вызывавший всеобщий восторг, он рано приобрел духовную мягкость людей привилегированных и пользующихся признанием, вольность, прекрасную беспечность, какая позволяет молодому человеку играючи пользоваться жизненными удовольствиями. На каникулы он приезжал домой с блестящими аттестатами и кучей приятелей и ублажал слух матери рассказами о разнообразных своих успехах. Но конечно же умалчивал об успехах, какие уже тогда начал иметь у легкомысленных девушек, которые находили его красивым и любезным. Каникулы он проводил в пеших походах; его манили огромные высокие горные кряжи, ведь они вздымались в такую высь и тянулись в необозримые дали, там он проводил даже не часы, а целые дни в непринужденной компании таких же мечтателей, как он сам. Он завораживал, околдовывал их всех… Здоровьем и ловкостью, как душевно, так и физически, он походил на божество, которому развлечения ради вздумалось немного поучиться в гимназии. Когда он шел, девушки смотрели ему вслед, словно их притягивали его брошенные назад взгляды. На красивых светлых волосах он кокетливо носил синюю студенческую фуражку. И был очаровательно безрассуден. Однажды – аккурат во время ярмарки, когда большая площадь, куда обычно сгоняют скот, полнилась лавками, ларьками, каруселями, горками для катания и манежами, – он пальнул в тире, где был завсегдатаем, поскольку ему нравилась девушка, подававшая там ружья, из длинного охотничьего ружья, а не из обычного, безвредного ружьишка. Пулька пробила парусину шатра, угодила в фургон, стоявший позади, и едва не попала в младенца, спавшего там в колыбели. Этакие фургоны бродячий ярмарочный люд использует как жилье. Озорство, конечно, вышло наружу, к нему добавились и иные проказы, и в следующий раз, когда опять начались каникулы, в аттестате юного школяра стояло сердитое замечание директора, а одновременно тот написал его родителям письмо, пространное и торжественное, где настоятельно просил их добровольно забрать сына из гимназии, ибо в противном случае придется его исключить ввиду безрассудного поведения, заразительности оного, дурного влияния на других, безответственности, тогда как на него, директора, возложена высокая ответственность и чувство долга обязывает его, поскольку есть угроза нравственности, оградить еще не испорченных и т. д.
Рассказчик немного помолчал.
Симон воспользовался заминкой, чтобы привлечь к себе внимание, и сказал:
– Ваш рассказ заинтересовал меня в некоторых отношениях. Прошу вас, позвольте мне послушать дальше. Я человек молодой, недавно оставшийся без места, быть может, ваш рассказ послужит мне уроком, ибо мне кажется, слушая правдивую историю, всегда можно чему-то научиться.
Собеседники внимательно посмотрели на Симона, однако он, видимо, произвел на них вполне хорошее впечатление, и тот, что вел рассказ, даже попросил его послушать, коль скоро ему это доставляет удовольствие, и продолжил:
– Родители юноши, конечно, пришли из-за упомянутого исключения в огромное замешательство, а уж огорчению их вообще не было предела; да и где сыщешь родителей, которые в столь прискорбных обстоятельствах, как эти, остались бы спокойны и вели себя как ни в чем не бывало. Поначалу они подумали, что лучше всего совершенно забрать сорванца с ученой стези и приставить к суровому рукомеслу, пусть сделается механиком или слесарем. Возникла у них и мысль об Америке, она напрашивалась сама собой, если учесть положение их сына. Но вышло иначе. И на сей раз вновь, как часто бывает, победила материнская любовь, хотя отец склонялся к энергичным мерам. Молодого человека отослали в отдаленную, уединенную семинарию, чтобы он приобрел там учительскую профессию. Семинария была французская, и юноше, хочешь не хочешь, пришлось вести себя там как подобает. Во всяком случае, со временем он вышел оттуда дельным молодым учителем. Место ему на первых порах предоставили неподалеку от родного города. Он со всем старанием учил детей, дома, когда позволяло время, читал французских и английских классиков в оригинале, так как имел поистине замечательные способности к языкам, втайне подумывал об иной карьере, писал письма в Америку, надеясь получить место домашнего учителя, но пока безрезультатно и жил меж долгом и робкой свободой. Летом нередко водил учеников купаться в глубокой бурной протоке. Купался и сам, показывая ребятишкам, как действовать, чтобы выучиться плавать. Но однажды он угодил в такой водоворот, что, казалось, вот-вот утонет. Ученики помчались в городок, закричали: «Наш учитель утонул!» А сильный молодой парень выбрался из коварного течения и воротился домой. Немного спустя его перевели в другое место, в маленькую, но богатую горную деревушку, где он нашел симпатичных людей, которые уважали его не просто как учителя, а как человека. Он превосходно играл на фортепиано да и вообще был веселым парнем, который в компании умел закрутить волшебную нить беседы целиком вокруг себя. Очень милая, хотя и не юная уже барышня влюбилась в учителя, окружила его всяческим уютом и комфортом, познакомила с первыми людьми в деревне. Сама она происходила из старинного офицерского рода, и предки ее некогда служили в чужих краях. И вот однажды она подарила ему на память изящную щегольскую шпажку, которая все же могла быть небезопасным оружием и в свое время, наверно, обагрялась кровью. Изысканная вещица, и милая добрая барышня вручила ему эту игрушку, потупив взор, а то и подавив вздох. Она слушала, когда он в романтически благородной позе сидел за фортепиано и играл, и не могла отвести от него глаз. Зимой они частенько вместе катались на коньках по высокогорному озерцу, радуясь прекрасному развлечению. Но молодому человеку хотелось поскорее уехать оттуда, тем более что он живо чувствовал теплые манящие узы, которые навсегда привязали бы его к этой деревне и от которых ему необходимо бежать, коль скоро в нем еще не угасло желание достичь в жизни чего-то большего. И он уехал, причем на деньги барышни, ведь она была богата и со смиренной и меланхоличной радостью, не раздумывая, дала их ему. Он отправился в Мюнхен, где вел довольно разгульную жизнь, по примеру тамошних студентов, потом воротился домой, поискал себе место и нашел таковое в частном институте, расположенном у подножия поросшего ельником горного кряжа. Там ему пришлось обучать юных отроков со всех концов света, отпрысков богатых семейств, и некоторое время он работал с большой любовью и интересом, потом повздорил с начальником, владельцем института, и уехал. На сей раз домашним учителем в Италию, потом в Англию, где в неком поместье обучал двух девочек-подростков, правда больше сумасбродничал с ними заодно. Затем опять вернулся домой, безумные идеи витали в его голове, а в опустевшем сердце горели одни только беспомощные фантазии, не имевшие права на реальность. Его мать, к груди которой ему хотелось припасть, к тому времени умерла. Он был опустошен и безутешен. Вообразил, что теперь ему надобно удариться в политику, однако не обладал для этого ни достаточным кругозором, ни спокойствием, ни необходимым лоском и тактом. Писал биржевые бюллетени, опять же без всякого смысла, ведь он попросту сочинял их уже поврежденным рассудком. Сочинял стихи, драмы и музыкальные композиции, рисовал, писал маслом, но по-дилетантски и по-детски. Нашел себе новое место, правда лишь на короткое время, потом другое, третье, снова и снова! Полдюжины мест сменил, причем всюду видел себя обманутым и обиженным, потерял уважение учеников, занимал у них деньги, денег-то он никогда не имел. Он был все еще статен и красив, кроток и благороден с виду и аристократичен в манерах, пока держал голову высоко. Но так бывало редко. Нигде на свете он подолгу не задерживался, его тотчас прогоняли, как только узнавали его натуру, или он сам уходил по весьма диковинным, надуманным причинам. Все это, разумеется, вконец вымотало его и сковало. Из Италии он еще слал брату восторженные, романтические письма. В Лондоне, где мыкал нужду, однажды зашел в контору очень богатого шелкоторговца, своего дядюшки, с просьбой оказать помощь в столь бедственном положении, попросил денег, возможно и не словами, но было вполне понятно, чего он хочет, однако ж там только плечами пожали и выпроводили его вон, не давши ни гроша. Как же, наверно, страдала его прекрасная, кроткая человеческая гордость, когда он собрался с духом и пошел попрошайничать у недостойных. Но чего не сделаешь, коли нужда берет за горло! Можно, конечно, рассуждать о гордости, однако не следует забывать, сколь много в жизни случаев, когда требовать от человека гордости поистине бесчеловечно. А тот, кто просил, был мягок и слаб! Сердце у него всегда отличалось детской мягкостью, и боль и раскаяние по поводу потерянной жизни легко могли это сердце погубить. Однажды, после всех скитаний, он вновь явился домой, бледный, изможденный, усталый, оборванный. Отец, вероятно, встретил его холодно, сестра – по-доброму, насколько могла на глазах у негодующего отца. Он рассчитывал получить небольшую редакторскую должность, а пока что шатался по городу, где дарил всем девицам колечки и говорил, что намерен на них жениться. Явно впал в детство. Народ, конечно, шушукался да смеялся. Потом он опять уехал учительствовать, однако на месте выяснилось, что для окружающих он стал совершенно невозможным. Как-то явился на урок с одной босой ногою, без башмака и чулка. Сам уже не ведал, что творит, или делал как раз то, что велел ему другой, больной рассудок. В это же время он стер в своем военном билете запись о разжаловании, каковое случилось ранее, по причине тяжкого проступка. Потому-то, когда дерзкое исправление вышло наружу, его посадили за решетку. Разобравшись, что рассудок у него помутился, из тюрьмы его препроводили в сумасшедший дом, где он и находится по сей день. Мне все это известно, поскольку я часто с ним встречался, много лет, и в гражданской жизни, и на военной службе, да и помогал водворить его туда, где он сейчас и куда его, увы, нельзя было не отправить.
– Печальная история! – вздохнул его товарищ.
– Ну что ж, допьем и пойдем отсюда, – сказал рассказчик и добавил: – Иные утверждают, будто его сгубили распутные бабенки, с которыми он связался, но я не верю, по-моему, люди зачастую переоценивают дурное влияние, какое эти бабенки могут оказать на мужчину. Все это еще бы полбеды, наверно, дело-то в семье.
Симон вскочил, взволнованный, раскрасневшийся от негодования:
– Как-как? В семье? Тут вы ошибаетесь, любезный господин рассказчик! Посмотрите-ка на меня повнимательней. Может, и во мне приметите что-то идущее от семьи? Мне тоже дорога в сумасшедший дом? Наверняка так бы оно и было, будь все дело в семье, ведь я из той же семьи. Этот молодой человек – мой брат. И я отнюдь не стыжусь открыто назвать братом человека только несчастного, но никак не испорченного. Его ведь зовут Эмиль, Эмиль Таннер? Разве я мог бы это знать, если б он не был моим родным, милым братом? А его отец, и мой тоже, разве не торговец мукой, ведущий также солидную торговлю бургундскими винами и прованским маслом?
– В самом деле, все верно, – сказал тот, что вел рассказ.
А Симон продолжал:
– Нет, дело вовсе не в семье. Я никогда с этим не соглашусь. Просто несчастливое стечение обстоятельств. Бабенки тут ни при чем. Вы правы, говоря, что дело не в бабенках. Разве в несчастьях мужчин непременно надобно винить бедных женщин? Почему бы не поискать объяснение попроще? Может быть, все дело в характере, в частичке души? Так, всегда только так, а почему? Смотрите, вот я делаю жест рукой: так, так! В этом все дело. Человек чувствует вот так, и затем действует вот так, и следом натыкается на всяческие стены и препятствия. Людям всегда сразу приходит на ум ужасная наследственность и все такое прочее. На мой взгляд, это смехотворно. И какая трусость и какое неуважение – винить в своем несчастье родителей и дедов. Нехватка порядочности и мужества и кое-что еще: неподобающая изнеженность – вот что это такое! Коли человека постигает несчастье, стало быть, в нем изначально есть предпосылки, позволяющие судьбе наслать несчастье на его голову. Знаете ли вы, чем этот мой брат был для меня? Для меня и для Каспара, его младших братьев? На прогулках он учил нас чувствовать прекрасное и возвышенное, в ту пору, когда мы еще были ужасными озорниками, которые то и знай учиняли скверные проказы. Из его глаз мы впитывали пламя восторга перед искусством. Вы можете себе представить, до чего прекрасно было это время, ищущее понимания, полное чудесных, поистине дерзновенных устремлений? Давайте разопьем еще бутылочку вина, я заплачу, да-да, я, хоть и нищий безработный. Эй, хозяин, бутылочку водуазского! Причем наилучшего, какое у вас есть… Я человек вовсе бесчувственный. Бедного Эмиля я давно позабыл. Недосуг мне думать о нем, ведь положение мое в мире, видите ли, таково, что стоять прямо, с поднятой головой я могу, лишь отбиваясь руками и ногами. Упаду я, только если забуду о необходимости стоять. И ставши сам достоин жалости, я, наверно, найду время думать о несчастных и сострадать им. Но покуда до этого не дошло, и я намерен смеяться и шутить еще и перед лицом смерти. Во мне вы видите довольно-таки несокрушимого человека, умеющего сносить всяческие невзгоды. Жизни вовсе не обязательно слишком уж блистать, она и без того выглядит в моих глазах блистательно. Большей частью она для меня прекрасна, и я не понимаю людей, которые зовут ее скверной и клянут. Ну, вот и вино. Я всегда кажусь себе весьма благородным, когда пью вино. Мой бедный брат еще жив! Благодарю вас, сударь, что вы нынче пробудили во мне память о несчастном. А теперь, без всякой мягкосердечности, давайте чокнемся, господа: да здравствует несчастье!
– Почему, позвольте спросить?
– Вы преувеличиваете!
– Несчастье просвещает, поэтому я прошу вас осушить за него бокалы с искристым вином. Еще раз! Вот так. Благодарю вас. Позвольте вам сказать, что я друг несчастья, притом весьма близкий, ибо оно заслуживает близости и дружбы. Оно делает нас лучше и оказывает нам таким образом большую услугу. Притом услугу подлинно дружескую, и на нее должно ответить, коли хочешь зваться порядочным человеком. Несчастье – слегка хмурый, но предельно честный друг нашей жизни. С нашей стороны было бы изрядной дерзостью и бесчестностью не замечать его. В первую минуту мы никогда не понимаем несчастье, оттого и ненавидим его в миг прихода. Оно – гость утонченный, скромный, нежданный, его приход неизменно застает нас врасплох, будто мы этакие остолопы, которых всегда можно застать врасплох. Тот, кто способен заставать врасплох, кто бы он ни был и откуда бы ни явился, наверняка должен быть необычайно утонченным. Совершенно не давать о себе знать и вдруг прийти, не предупреждать о себе заранее ни вкусом, ни запахом, а потом вдруг фамильярно хлопнуть по плечу, обратиться на «ты», улыбнуться и предстать перед глазами, показывая бледное, мягкое, всеведущее, прекрасное лицо, – для этого надобно много чего уметь, тут потребны иные аппараты, нежели летательные, кое-как придумав которые мы, люди, уже загодя хвастаем в высокопарных, судьбоносных речах. Да, несчастье прекрасно. Оно доброе, поскольку содержит в себе и счастье, свою противоположность. Мне представляется, что оно вооружено двояким оружием. Голос у него гневный и губительный, но вместе мягкий и ласковый. Оно пробуждает новую жизнь, разбивши старую, которая ему не нравилась. Призывает к лучшей жизни. Всей красотой, коль скоро мы еще надеемся пережить прекрасное, мы обязаны ему. Оно заставляет нас наскучить одними красотами и своим перстом указывает нам другие! Разве несчастная любовь не самая прочувствованная, а потому самая нежная, тонкая и прекрасная? Разве не звучит толика одиночества в мягких, ласкающих, благостных звуках? Разве ново все то, что я вам говорю, господа? Впрочем, ново здесь само высказывание, ведь это редко говорят вслух. Большинству не хватает духу приветствовать несчастье как нечто, в чем можно омыть душу, будто члены в воде. Посмотрите на себя, когда разденетесь донага. Какая роскошь – нагой, здоровый человек! Какое счастье – остаться без одежды, стоять нагим! Уже счастье – родиться на свет, а не иметь иного счастья, как быть здоровым, – тоже счастье, которое блеском своим затмевает драгоценнейшие каменья, прекраснейшие ковры и цветы, дворцы и чудеса. Самое чудесное – это здоровье, вот счастье, к нему невозможно прибавить ничего другого, сходного, разве что человек с течением времени настолько огрубеет, что пожелает захворать, но зато иметь мошну, набитую деньгами. Такому изобилию роскоши и счастья, коли ты вправду склонен полагать изобилием нагое, крепкое, подвижное, горячее тело, дарованное для земной жизни, необходим своего рода противовес: несчастье! Оно не дает нам выплеснуться пеною через край, оно дарует нам душу. Учит наше ухо внимать прекрасному звуку, который раздается, когда душа и тело, смешавшись, слившись воедино, дышат в гармонии. Оно делает из нашего тела нечто телесно-душевное, обеспечивает нашей душе постоянное пребывание в нас, так что мы при желании ощущаем все свое тело как душу – ноги как душу бегущую, руки как несущую, ухо как внемлющую, стопы как благородно ступающую, рот как целующую. Оно только и побуждает нас любить, ведь где любовь, там и малая толика несчастья, верно? Во снах оно еще прекраснее, нежели наяву, ибо в сновидениях мы разом постигаем сладость и восхитительную доброту несчастья. В иных случаях это для нас затруднительно, а именно когда оно является к нам в форме денежной потери. Но может ли она быть несчастьем? Потерявши кассовый чек, что мы теряем? Конечно, это неприятно, однако ж не причина для долгой безутешности, ведь не требуется много времени, чтобы уразуметь: это ненастоящее несчастье. И так далее! Рассуждать можно еще долго. Но в конце концов надоедает…
– Вы говорите как поэт, сударь, – с улыбкой заметил один из мужчин.
– Возможно. Вино всегда настраивает меня на поэтический лад, – отвечал Симон, – хотя обычно я отнюдь не поэт. Обыкновенно я даю себе инструкции и в целом не склонен увлекаться фантазиями и идеалами, так как считаю это весьма неразумным и дерзким. Поверьте, я могу быть сущим сухарем. Да и негоже сразу полагать каждого, кто рассуждает о красоте, мечтательным поэтом, как, сдается, поступаете вы; даже совершенно холодному и расчетливому ростовщику или банковскому кассиру иной раз случается думать о вещах, далеких от их деньгостяжательских занятий. Как правило, многих людей полагают бесчувственными и малоспособными к размышлениям, поскольку не умеют наблюдать их по-другому. Я ставлю перед собою задачу вести с каждым человеком смелый, сердечный разговор, чтобы как можно скорее увидеть, с кем имею дело. С таким жизненным приниципом частенько срамишься, а порой получаешь и оплеуху, к примеру от нежной дамы, но что за беда! Я рад осрамиться и смею всегда быть уверен, что уважение тех, в чьих глазах с первым же вольным словцом роняешь свое достоинство, стоит не больно-то много, а потому нет и причин огорчаться. Уважение к человеку всегда поневоле страдает от человеколюбия. Вот что я хотел сказать на ваше слегка насмешливое замечание, которым вы намеревались меня уязвить.
– Я отнюдь не хотел вас обидеть.
– Что ж, очень мило с вашей стороны, – рассмеялся Симон. И, помолчав, вдруг добавил: – Кстати, что до вашего рассказа о моем брате, то вот он меня уязвил. Мой брат еще жив, а никто почти о нем не вспоминает; ведь того, кто скрывается, вдобавок в столь печальном месте, как он, вычеркивают из памяти. Бедняга! Знаете, можно сказать, что ему потребовалось бы крохотное изменение в сердце, лишняя крапинка в душе, чтобы стать творцом, художником, чьи произведения приводили бы людей в восторг. Так мало нужно, чтобы обрести силу, и опять же так мало – чтобы довершить свое несчастье. Да что тут говорить. Он болен и находится на той стороне, где солнца больше нет. Теперь я буду чаще думать о нем, ведь его несчастье слишком уж жестоко. Этакой беды даже десяток преступников не заслуживает, а тем паче он, обладавший прекрасным сердцем. Да, несчастье порой некрасиво, теперь я охотно соглашусь. Надо вам знать, сударь, я упрям и горазд утверждать вовсе несусветное. Сердце мое временами весьма сурово, в особенности когда я вижу других людей исполненными сострадания. Мне так и хочется метать в это горячее сострадание громы и молнии, подвергать его осмеянию. Скверно с моей стороны, куда как скверно! Я вообще далеко не добрый человек, но надеюсь стать таковым. Был очень рад возможности побеседовать с вами. Случайное всегда самое ценное. Кажется, я многовато выпил, да и очень уж здесь, в трактире, жарко, пора на воздух. Будьте здоровы, господа. Нет! Не до свидания. Нет-нет. Этого у меня и в мыслях нет. Ни малейшего желания. Мне еще предстоит познакомиться с множеством людей, а оттого я не могу легкомысленно сказать «до свидания». Ибо это ложь, я вовсе не жажду увидеть вас вновь, разве только случайно, а тогда буду рад, хотя и умеренно. Я не любитель разводить церемонии, предпочитаю быть искренним, возможно, это моя отличительная черта. Надеюсь, это отличает меня и в ваших глазах, хотя вы сейчас смотрите на меня несколько озадаченно и раздосадованно, словно я вас обидел. Как вам будет угодно. Черт подери, чем я вас обидел, а?
Подошедший хозяин призвал Симона к порядку:
– Идемте-ка, вам пора.
И Симон позволил ему тихонько выпроводить себя в темный переулок.
Вокруг была глубокая, черная, душная ночь. Казалось, она ползет-крадется вдоль стен. Временами один высокий дом стоял совсем темный, тогда как другой светился белыми и желтоватыми огнями, словно владел особенным волшебством, позволявшим ему сиять в ночной тьме. Стены домов источали странный запах. Струили что-то сырое, затхлое. Порой редкие фонари озаряли кусочек переулка. Вверху дерзкие крыши выступали над гладкой, высокой стеною построек. Вся необъятная ночь словно улеглась в этот уличный лабиринт, чтобы поспать или помечтать. Подчас еще попадались запоздалые прохожие. Один шел пошатываясь и распевал песню, другой бранился на чем свет стоит, третий уже валялся на земле, а из-за угла выглядывала фуражка полицейского. Каждый шаг гулко отдавался вокруг. Навстречу Симону попался старый пьяница, которого так и швыряло по всей ширине переулка. Жалкое и одновременно забавное зрелище: неуклюжая, темная фигура металась из стороны в сторону, словно от толчков ловкой незримой руки. Потом седобородый старикан выронил трость, хотел поднять ее, что для пьяного задача почти невыполнимая, и в результате сам чуть не упал. Но Симон, в порыве веселой жалости, поспешил к бедолаге, поднял трость и сунул ему в руку, пьяный пробормотал слова благодарности, едва ворочая языком, но таким тоном, будто имел повод еще и оскорбиться. Симона сей инцидент мгновенно отрезвил, и он свернул из старого квартала на улицы поновее, пофешенебельнее. Проходя по мосту, разделявшему Старый и Новый город, он вдохнул диковинный аромат текучей речной воды. Шагая по той улице, где три недели назад у витрины с ним заговорила дама, он увидел свет в доме своей бывшей хозяйки, подумал о том, что еще вчера она была его госпожою, и под сенью деревьев направился дальше, пока не вышел к привольно раскинувшемуся темному озеру, которое казалось погруженным в сон. Вот это сон! Такое вот спящее озеро со всеми его омутами производит впечатление. Н-да, так странно, почти непостижимо. Несколько времени Симон созерцал водную гладь, а потом и сам ощутил тягу ко сну. О, теперь он крепко уснет. Сон его будет безмятежным, а утром он долго останется в постели, ведь завтра воскресенье. Симон пошел домой.