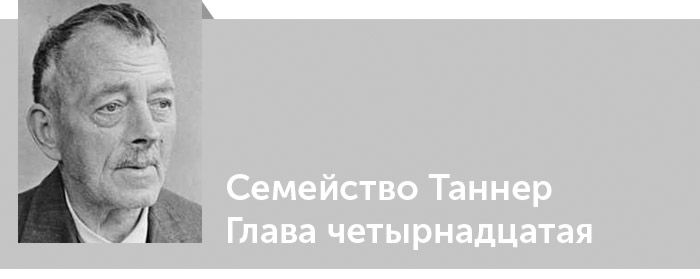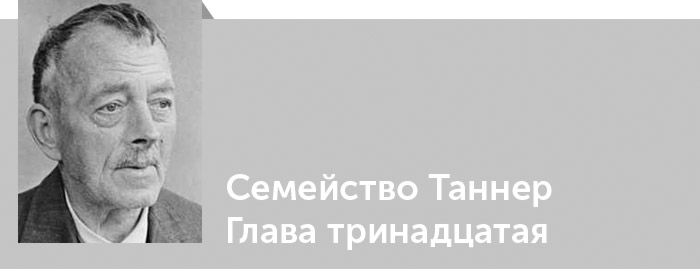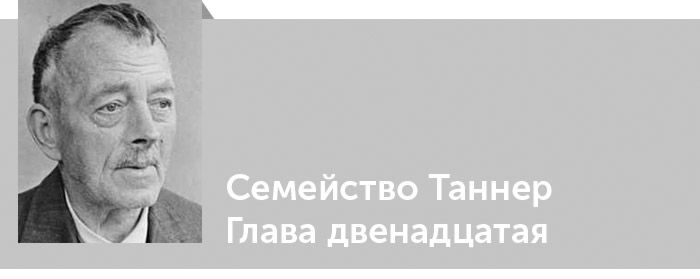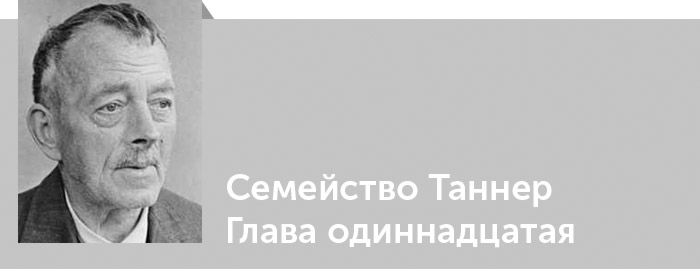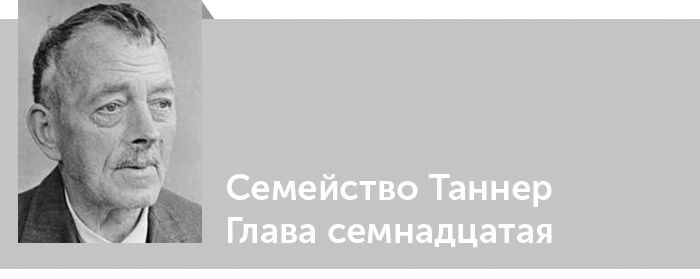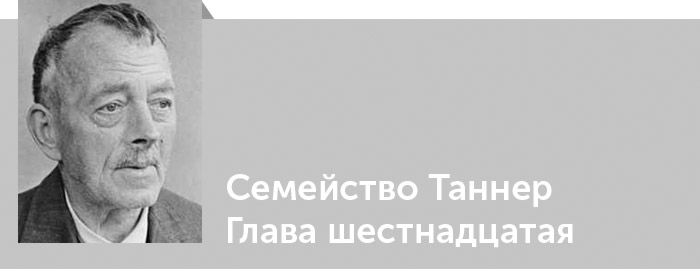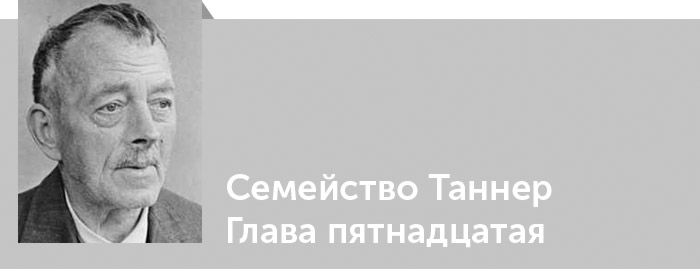Роберт Вальзер. Семейство Таннер. Глава 18
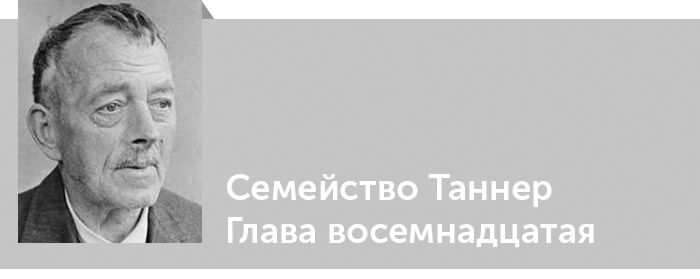
Настала осень. Симон еще часто ходил по жаркому ночному переулку, и сейчас тоже, только время года стало менее приятным. Деревья в лугах роняли листву, и, чтобы знать об этом, незачем ходить и смотреть, как облетают листья. Осень чувствовалась и в переулке. В один из солнечных осенних дней заглянул Клаус, научная работа и намерение привели его на денек в эти края. Братья вместе отправились за город, на возвышенное холмистое поле, привлеченные ярким солнцем, довольно молчаливые, осторожно избегающие чересчур задушевной беседы. Дорога вела через лес, затем вновь по просторным лугам, где Клаус восхищался поздними сочными травами и пятнистыми бурыми коровами, которые там паслись. Симону было приятно, грустновато, но очень приятно вот так, без особых разговоров и шума, бродить с Клаусом по осенней низине, слышать перезвон коровьих колокольцев, временами ронять несколько слов, но больше глядеть вдаль, чем говорить. Потом они поднялись на лесистый холм, не спеша, со всей приятностью, ведь Клаус любовно рассматривал все, каждую веточку и каждую ягодку, а добравшись до вершины, очутились на красивой опушке, где их встретило мягкое и ласковое вечернее солнце и вновь открылся привольный вид, панорама долины внизу, где, белесо поблескивая, между желтыми кронами деревьев и узкими языками леса змеилась река, а средь побуревших виноградников лежала прелестная деревушка с красными крышами – сущая отрада для глаз. Тут они бросились в траву, надолго притихли, не говоря ни слова, глядя на широко раскинувшийся ландшафт и внимая звону колокольцев, и оба сочли, что всегда и во всех ландшафтах слышатся звуки, даже если не слышишь колокольцев, а потом завели между собой один из тех спокойных, скорее прочувствованных, нежели словесных разговоров, которые невозможно записать, у которых нет иной цели, кроме доброжелательства, которые ничего не говорят, но их аромат, и тон, и намерение остаются в памяти навсегда.
– Конечно, – сказал Клаус, – коль скоро я вправе думать, что с тобою все может уладиться, то вправе опять воспрянуть духом. Мысль, что ты станешь полезным, целеустремленным человеком, всегда отзывалась в моем сердце особенно приятным напевом. Ты ведь не меньше, чем любой другой, рассчитываешь на уважение окружающих, более того, у тебя есть к этому все задатки, только ты, не в пример другим, слишком уж взыскателен и слишком пылок. Ты не должен желать слишком многого и предъявлять к себе слишком уж высокие требования. Это вредит, портит характер и в конце концов приводит к равнодушию, поверь. Конечно, далеко не все на свете таково, как тебе хочется, однако ж причин для злости здесь нет. Ведь существуют иные суждения и склонности, а чересчур благие намерения отравляют сердце человека, но не окрыляют его, вот что скверно. Как мне кажется, ты слишком скоропалителен. Тебе доставляет удовольствие мчаться к цели во весь дух. Но какой в этом прок? Позволь каждому дню просто существовать в его спокойной, естественной цельности и побольше гордись тем, что сделал свою жизнь удобной, как, собственно, и подобает в конечном счете каждому человеку. Перед людьми мы обязаны вести свою жизнь легко, порядочно и с известным достоинством; ведь живем мы средь обилия тихих, задумчивых культурных забот, которые не имеют ничего общего со злобным, жарким пыхтением драчунов. Должен тебе сказать, есть в тебе какая-то необузданность, причем она в мгновение ока сменяется нежностью, которая опять же требует взамен чересчур много нежности и оттого неспособна существовать. Многое, что должно бы тебя обижать, нисколько тебя не обижает, зато обижают совершенно естественные, житейские вещи. Попробуй стать человеком среди людей, тогда все у тебя наладится, я уверен; ты без устали выполняешь всевозможные требования, и, если завоюешь любовь окружающих, тебе непременно захочется показать им, что ты в самом деле ее заслужил. Теперь же ты просто гибнешь, тонешь в стремлениях, не вполне достойных гражданина, человека, а прежде всего мужчины. Как много всего, думал я, ты мог бы сделать и предпринять, чтобы укрепить свое положение, но в конце концов я должен предоставить тебе самому работать над устройством твоей жизни, потому что советы редко чего-то стоят.
– Отчего, – сказал в ответ Симон, – ты так озабочен в этот прекрасный день, когда человек, глядя вдаль, тает от счастья?..
Они завели разговор о природе и позабыли о тяжелых мыслях.
На следующий день Клаус уехал.
Наступила зима. Время упорно не замечало ни благих намерений, ни скверных качеств, с которыми никак не удавалось совладать. Что-то прекрасное, беспечное и прощающее сквозило в этом ходе времени. Оно шло, не обращая внимания ни на попрошайку, ни на президента республики, ни на грешницу, ни на добропорядочную даму. Оно позволяло воспринимать многое как незначительный пустяк, ибо лишь оно одно было возвышенным и великим. Ведь что такое вся суета жизни, все усилия, все порывы по сравнению с вершиной, которой совершенно безразлично, станешь ли ты достойным мужем или простаком, желаешь ли правильного и благого или нет? Симон любил этот шум времен года над головой и, когда однажды днем в темный, закопченный переулок посыпались снежинки, радостно встретил движение вечной, греющей душу природы. «Она сыплет снег, пришла зима, а я-то, глупец, воображал, что до зимы не доживу», – думал он. Ему чудилось, будто он попал в сказку: «Жили-были снежинки, а поскольку не нашли себе занятия получше, полетели они вниз, на землю. Многие оказались в поле и остались там, многие упали на крыши и остались там, иные же попали на шляпы и капюшоны спешащих по улицам людей и оставались там, пока их не стряхнули, иные слетели на добрую морду верного коня, запряженного в телегу, и повисли на длинных его ресницах, а одна снежинка угодила в открытое окно, но о ее участи рассказ умалчивает, наверно, там она и осталась. В переулке идет снег, и в лесу на горе – о, как же сейчас, наверно, красиво в лесу. Вот бы пойти туда. Надеюсь, снег будет идти до вечера, когда зажгут фонари. Жил-был человек, черный-пречерный, и решил он помыться, только вот мыла да воды под рукой не нашлось. Увидавши, что идет снег, он вышел на улицу и умылся снеговой водою, отчего лицо его сделалось белоснежным. Впору похвастать, так он и сделал. Однако ж на него напал кашель, и кашлял он все время, целый год бедолага кашлял, до следующей зимы. Тогда он бегом побежал на гору, аж вспотел, но все равно кашлял. Никак кашель не унимался. И тут подошел к нему ребенок, маленький попрошайка, на ладошке у него лежала снежинка, похожая на нежный цветочек. «Съешь снежинку», – молвил ребенок. Мужчина послушался, съел снежинку – и кашель сей же час как рукой сняло. Солнце закатилось, кругом стемнело. Маленький попрошайка сидел в снегу и все-таки не мерз. Дома его побили, за что – он и сам не знал. Совсем ведь маленький, где ж ему что-то знать. Ножки у него не мерзли, хоть и босые. В глазах ребенка блестели слезы, только он не разумел пока, что плачет. Наверно, ночью ребенок замерз, но ничего не почувствовал, совершенно ничего, был слишком мал, чтобы почувствовать что-то. Господь видел ребенка, но тот Его не растрогал, Он был слишком велик, чтобы что-то почувствовать…»
В эту пору Симон, несмотря на зимний холод, царивший в комнате, заставлял себя спозаранку вскакивать с постели, даже если дел у него никаких не было. Он тогда просто стоял, покусывал губы, а уж стимул непременно приходил сам собою. Дело-то всегда найдется. Можно для времяпрепровождения растереть руки или спину, а не то попробовать ходить на руках. Какие-нибудь упражнения воли, пусть и самые смехотворные, он устраивал себе постоянно, они прогоняли мысли, закаляли и бодрили тело. Каждое утро он обливался холодной водой, с головы до ног, пока ему не делалось жарко, и не надевал пальто, выходя на улицу. Хотел в эту пору года научиться смирению! Своим пальто он укутывал ноги, когда читал, сидя за столом. Чтобы в любое время взбираться по глубокому снегу на гору, он обзавелся парой широких, прочных башмаков, какие носят рекруты на военной службе. Рассчитывал, что научится правильно смотреть на элегантную обувь. В этаких-то башмаках можно очень твердо стать на ноги. Главное сейчас – остаться на поверхности и обрести почву. Если он не склонит головы, то наверняка, даже как бы само собой, появится что-нибудь, что он сумеет ухватить. Начать сначала, снова, да хоть полсотни раз – что за беда! Надобно только поднапрячься всем существом – и то, что ему необходимо, непременно придет.
В это время он походил на человека, который потерял деньги и отчаянно напрягает волю, чтобы снова их добыть, но, помимо напряжения воли, ничего больше для этого не предпринимает.
Под Рождество он отправился на гору, вверх по широкому склону. Близился вечер, и было до ужаса холодно. Колючий ветер обжигал людям носы и уши, покрасневшие и горящие от мороза. Симон невольно выбрал ту самую дорогу, которая некогда вела к лесному дому Клары и теперь стала куда удобнее. Повсюду виднелись следы преобразующих человеческих рук. Он увидел большой, однако не лишенный изыска дом, построенный там, где некогда стояло деревянное шале, куда он так часто приходил, еще когда Каспар писал здесь свои картины, к милой чудаковатой женщине, жившей в этом доме. Теперь здесь поставили курзал для народа, и, судя по всему, посетителей хватало, потому что он видел, как входят и выходят разные хорошо одетые люди. Секунду-другую Симон прикидывал, не зайти ли туда и ему, ведь жестокий холод склонил его к мысли, как приятно будет очутиться в натопленной, людной зале. И он вошел. Навстречу пахнуло теплым, крепким ароматом еловой хвои – вся просторная, светлая комната, вернее зала, была разукрашена еловыми лапами, словно зеленым ковром. Только изречения, написанные на белых стенах, остались свободны, и можно было их прочитать. Повсюду сидели веселые и серьезные люди, множество женщин, мужчин и детей, поодиночке за круглыми столиками или компаниями за длинными столами. Запах напитков и еды смешивался с еловым рождественским благоуханием. Нарядные девушки ходили вокруг, обслуживали посетителей приветливо и одновременно вполне спокойно, будто они вовсе не официантки. Казалось, эти изящные девушки просто играют в какую-то улыбчивую игру или обслуживают только своих родителей, родню, братьев, сестер и их детей: так по-семейному все это выглядело. В другом конце залы располагалась маленькая сцена, тоже обрамленная еловыми ветками и предназначенная, наверно, для исполнения какого-нибудь рождественского спектакля или иной пьесы приятного содержания. Словом, помещение было теплое, уютное, радушное, и Симон сел за свободный круглый столик, ожидая, что одна из девушек подойдет и спросит, чего он желает. Но пока никто не подходил. Он довольно долго сидел, подперев голову рукой, по обыкновению молодых людей, как вдруг к его столику подошла высокая статная дама, приветливо кивнула ему, а затем, окликнув одну из девушек, громко спросила, можно ли так долго заставлять молодого человека ждать. Укор прозвучал не сердито, скорее весело и любезно, однако ж эта дама была здесь директрисой, начальницей или как там можно ее назвать.
– Извините, что к вам не подошли, – обратилась она к Симону.
– Ну что вы, вам незачем извиняться. Скорее уж извиняться надо мне, ведь из-за меня вам пришлось укорить одну из ваших девушек. Кстати, мне приятно сидеть здесь, хотя никто не обращает на меня внимания; ведь, по правде говоря, потратить на заказ я могу сущие гроши.
– Ешьте-пейте сколько вам угодно. Бесплатно, – сказала дама.
– Это относится только ко мне или ко всем?
– Разумеется, только к вам и только потому, что я распоряжусь не брать с вас денег. – Она присела с ним рядом за коричневый столик. – У меня есть немного времени поболтать с вами, и я не вижу, почему бы мне так не сделать. Вы кажетесь одиноким, об этом говорят ваши глаза, а еще они говорят, причем вполне отчетливо, что тот, кому они принадлежат, стремится к общению с людьми. Не знаю, по какой причине, но мне думается, вы человек хорошо образованный. Когда я вас увидела, мне сразу же захотелось с вами поговорить. Коли бы пригляделась к вам в лорнет, я бы, пожалуй, обнаружила, что вид у вас довольно запущенный, но кто же станет, желая узнать человека, изучать его в лорнет? Как заведующая этим домом я заинтересована в точности узнать, что за люди мои посетители. Я приучила себя оценивать людей не по обтрепанным фетровым шляпам, а по движениям, которые лучше раскрывают их натуру, чем добротное или плохонькое платье, и со временем обнаружила, что выбрала правильный способ. Коли Господь желает мне добра, Он не позволит мне стать заносчивой и высокомерной. Деловая женщина, которая не разбирается в людях, успеха в делах иметь не будет, а чему же учит растущее знание людей? Самой простой вещи на свете: обходиться со всеми приветливо! Разве все мы, все люди, живущие на этой уединенной, затерянной планете, не одна семья? Не братья и сестры? Братья сестер, сестры сестер и сестры братьев? Дело это, пожалуй, весьма деликатное, и так должно быть всегда: прежде всего в мыслях! Но затем накопленное в мыслях должно вылиться в поступки. Столкнувшись с неотесанным мужланом или с простосердечной бабенкой – что я могу сделать? Сразу чувствовать испуг и неприязнь? О, вовсе нет. В таких случаях я думаю: да, этот человек мне не очень приятен, он отталкивает меня, он необразован и дерзок, но слишком уж подчеркивать это ему и себе не стоит. Мне надо чуточку притвориться, может, и он тогда чуточку притворится, хотя бы от медлительности или от глупости. Как хорошо проявлять предупредительность. В глубине души я горячо и свято убеждена, что это хорошо, больше мне тут сказать нечего. Разве только вот что: брату не обязательно принадлежать к утонченнейшим и изысканнейшим людям, и тем не менее, скажем держась на расстоянии, он может оставаться братом. Таков мой закон, и я на том стою. Многим людям, которые прежде пожимали плечами и кривились, я в конце концов начинаю нравиться. И почему бы мне, стороннице столь прекрасного учения, как упражнение в любящем и наблюдающем терпении, не быть чуточку христианкой? Пожалуй, христианство нам всем теперь необходимо, как никогда; нет, это глупо сказано. Вы улыбнулись, и я прекрасно понимаю почему. Вы правы, с какой стати я твержу о христианстве, когда важна-то простая, разумная дружелюбность. Знаете что? Иной раз я думаю: христианский долг в наши дни тихонько, почти незаметно преображается в долг человеческий, а его исполнить куда проще и легче. Но мне пора идти. Меня зовут. Сидите-сидите, я скоро вернусь.
С этими словами она ушла.
Спустя несколько минут она вернулась и еще в нескольких шагах от столика возобновила разговор, воскликнула:
– Здесь все прямо-таки окутано новизной! Вы гляньте-ка по сторонам: все новое, свежее, только что народившееся. Ни единого воспоминания о старом! Вообще, в каждом доме и в каждой семье, наверно, есть какая-нибудь старая мебель, намек, частичка давних времен, ее по-прежнему любят и чтут, поскольку считают прекрасной, как считают прекрасной сцену расставания или меланхоличный солнечный закат. Вы замечаете здесь нечто подобное, пусть самую малость? Мне это кажется головокружительной, легкой аркой мостика в еще неисповедимое будущее. О, смотреть в будущее куда лучше, чем грезить о прошлом. Конечно, думая о будущем, тоже грезишь. Разве в нем не присутствует нечто чудесное? Не стоит ли людям тонко мыслящим дарить свое тепло и упования грядущим, а не минувшим дням? Грядущие времена для нас как дети, которые куда больше нуждаются во внимании, нежели могилы усопших, какие мы украшаем, пожалуй, с несколько преувеличенной любовью, – минувшие времена! Живописцу не мешало бы теперь придумывать костюмы людей грядущего, которым достанет изящества носить их благоприлично и свободно, а поэт пусть отыщет добродетели для сильных, не снедаемых тоскою людей, зодчий пусть постарается найти формы, которые придадут камню и строительству восхитительный порыв, пусть отправится в лес и приметит, как высоко и благородно вырастают из земли ели, и возьмет их за образец будущих построек, а человеку вообще должно, размышляя о грядущем, отбросить много низкого, неблагородного и негодного и шепнуть, как умеет, свои мысли на ухо жене, когда она подставляет ему губы для поцелуя, а она пусть улыбнется в ответ. Мы умеем улыбкой поощрять вас, мужчин, к делам и воображаем, будто выполнили свою задачу, коли сумели весьма живо и прелестно донести до вас вашу. Мы больше радуемся сделанному вами, нежели тому, что свершаем сами. Читаем книги, которые пишете вы, и думаем: ну что бы им чуть больше делать и чуть меньше писать. Вообще, мы не ведаем ничего более плодотворного, как подчинение вам. Что еще мы умеем? И с какою охотой мы подчиняемся. Но если говорить о будущем, то я, конечно, забыла об этой смелой дуге над темной водой, о лесе, полном деревьев, о ребенке с лучистыми глазами, о несказанном, которое все время хочется поймать в слова, будто в сети. Нет, по-моему, настоящее и есть будущее. Вы не находите, что здесь все вокруг дышит лишь настоящим?
– Да, нахожу, – отвечал Симон.
– На дворе теперь ужасно суровая зима, здесь же так тепло, в самый раз, чтобы вести разговоры, и я сижу подле вас, подле совсем молодого, как будто слегка опустившегося человека, и в конечном счете забываю о своих обязанностях. В вашем облике есть что-то завораживающее, вы знаете? Так и хочется сию же минуту влепить вам пощечину, от тайной злости, что вы этак глупо сидите тут и странным образом умудряетесь соблазнить другого терять с вами, случайным гостем, драгоценное время. Знаете что: вы все-таки можете еще побыть здесь. Ведь вам это определенно ничего не стоит. Тогда я совершу еще один набег на ваши уши. А сейчас меня ждут обязанности.
И она опять ушла.
Оставшись один, Симон смотрел по сторонам. Лампы струили яркий теплый свет. Люди непринужденно разговаривали между собой. Поскольку настала ночь, кое-кто уже уходил, так как, чтобы воротиться в город, надо было еще спуститься с горы. Два старика, уютно сидевшие за одним из столиков, привлекли внимание Симона своей безмятежностью. Оба седобородые, с довольно свежими лицами, оба курили трубки и оттого выглядели этакими патриархами. Друг с другом они не разговаривали – видать, не было нужды. Время от времени их взгляды встречались, и тогда трубки в уголках рта подрагивали, но совершенно спокойно и, вероятно, совершенно машинально. Судя по всему, бездельники, однако ж бездельники расчетливые, изощренные и чванливые, бездельничающие по причине достатка. Конечно же вместе их свели всего-навсего одинаковые привычки: оба курили трубку, ходили прогуляться, любили ветер, ненастье, природу и доброе здравие, предпочитали молчание болтовне, да и возраст роднил их и связанные с ним особые мелочи. Симону тот и другой показались не лишенными достоинства. Их завершенный приятный вид невольно вызывал улыбку, но не исключал и благоговения, какого требует уже сам возраст. Спокойные лица излучали целеустремленность, законченность и бестревожность. Этих стариков в их деле уже не смутишь, хотя, возможно, дело их было ошибочно. Но, собственно, что такое ошибка? Коли в шестьдесят-семьдесят лет человек избрал себе путеводной звездою заблуждение, то это вещь неприкосновенная, к которой юноше должно питать почтение. Оба эти чудака – а в них действительно было что-то чудаковатое – имеют, наверно, какой-то метод, какую-то систему, в соответствии с коими дали клятву жить до конца своих дней; вот так они выглядели – как двое, отыскавшие для себя что-то такое, что им служило и побуждало безмятежно смотреть навстречу концу. «Мы двое разгадали ваш секрет» – говорили их лица и позы. Забавно, трогательно и, пожалуй, достойно размышлений – смотреть на них и стараться угадать их мысли. В частности, понаблюдав за ними немножко, ты сразу угадывал, что этих стариков всегда увидишь только вдвоем, не поодиночке, а исключительно вдвоем! Всегда! Такова была главная мысль, какую ты улавливал в их седых головах. Вдвоем по жизни, а то и вдвоем в бездну смерти: видать, таков их принцип. В самом деле, они и с виду казались двумя живыми, состарившимися, но по-прежнему веселыми и бодрыми принципами. Когда настанет лето, они будут сидеть под открытым небом, на тенистой террасе, все так же загадочно набивая трубки и предпочитая молчание разговору. Уходили они опять же всегда вдвоем, а не один за другим – последнее просто немыслимо. Да, вид у них уютный, этого Симон отнять у них не мог. Уютный и упрямый, подумал он, отводя от них взгляд.
Он скользил взглядом по разным людям, обнаружил английское семейство со странными физиономиями, мужчин, похожих на ученых, и других, которых трудно было связать с какой-либо должностью или профессией, видел убеленных сединами женщин, девушек с женихами, примечал людей, по которым было видно, что они чувствовали себя здесь не вполне в своей тарелке, и других, сидевших тут как дома, в кругу семьи. Однако же зал изрядно опустел. Снаружи свистел зимний ветер, было слышно, как кряхтят, отираясь друг о друга, стволы елей. Лес находился всего в десятке шагов от дома, это Симон точно помнил по давним временам.
Пока он предавался раздумьям, снова появилась заведующая.
Она села за его столик.
С нею произошла тихая перемена. Она взяла Симона за руку – совершенно неожиданно. А потом заговорила, никто ее не подслушивал, никто не смотрел:
– Теперь мне вряд ли помешают посидеть с вами, народ мало-помалу расходится. Скажите-ка мне, кто вы, как ваше имя, откуда вы. Глядя на вас, думаешь, что надо непременно спросить об этом. От вас веет вопросами и удивлением, но удивление исходит не от вас, а от того, кто сидит напротив вас и удивляется вам. Спрашиваешь себя и удивляешься вам, а потом возникает желание услышать, как вы говорите, и представляешь себе, будто есть в вас что-то такое, что захочет высказаться. Невольно огорчаешься из-за вас. Уходишь от вас, выполняешь свою работу и вдруг, думая о вас, проникаешься к вам жалостью. Это не сострадание, ведь его вы отнюдь не вызываете, да и не просто жалость. Не знаю, что это может быть – любопытство, пожалуй? Дайте-ка подумать. Любопытство? Жажда узнать кое-что о вас, лишь кое-что, нотку, звук. Думаешь, будто уже знаешь вас, находишь не очень-то интересным и все же слушаешь, не сказали ли вы чего-то, что бы стоило услышать из ваших уст еще раз. Когда глядишь на вас, невольно испытываешь жалость, слегка, поверхностно, свысока. В вас чувствуется глубина, а этого никто вроде как не замечает, потому что вы не даете себе труда подчеркивать ее, высвечивать. Мне хочется послушать ваш рассказ. У вас есть родители? Братья и сестры? При одном взгляде на вас предполагаешь, что ваши братья и сестры – люди незаурядные. А вот вас самого считаешь, не можешь не считать незначительным. Как же так? Почему-то с легкостью смотришь на вас свысока. И все же, побыв с вами, видишь, что допустил ошибку, одну из тех, которые возникают оттого, что в вашем лице имеешь дело с чрезвычайно безмятежным человеком, который попросту пренебрег карьерой и не хотел выглядеть лучше и опаснее, чем он есть. Вы кажетесь малоинтересным и еще меньше – опасным, а женщины – это смесь потребности в ласке и упоения дерзкой опасностью, каковая якобы постоянно им грозит. Вы конечно же не обиделись на то, что я сию минуту сказала, вы ведь ни на что не обижаетесь. Совершенно не понять, что у вас на уме. Расскажите мне, я просто жду не дождусь! Знаете, мне бы хотелось стать вашей наперсницей, хотя бы и на час, хотя бы и в воображении. Когда я была наверху, вот только что, мне ужасно хотелось поспешить вниз, к вам, будто вы очень важная персона, которую никак нельзя заставлять ждать и перед которой будь рад, что она к тебе милостива и относится с неким спесивым уважением. А тут сидит человек, чьи щеки вспыхивают ярче, когда я прибегаю! Какое недоразумение, не странно ли? Так, я умолкаю, хочу послушать вас.
И Симон рассказал:
– Мое имя Таннер, Симон Таннер, у меня трое братьев и сестра, я – самый младший, причем не подающий особенно больших надежд. Один мой брат – художник, он живет в Париже, живет тише и уединеннее, чем в деревне, – пишет картины. Сейчас он, наверно, уже чуточку изменился, ведь последний раз я видел его год с лишним назад, но думаю, встреться вы с ним, у вас бы составилось впечатление, что он человек значительный и вполне сложившийся. Иметь с ним дело небезопасно, он пленяет, да так, что ради него можно наделать глупостей. Он до мозга костей художник, и коли я, его брат, немного разбираюсь в искусстве, то обязан я этим ему, а не своему вкусу, ведь только через него мой вкус и смог более-менее развиться. По-моему, он носит сейчас длинные локоны, но они столь же ему к лицу, сколь офицеру – ежик, не выглядят сколько-нибудь вызывающе. Он растворяется среди людей и желает раствориться, чтобы спокойно работать. Когда-то он написал мне в письме про орла, который раскидывает крылья над скалистыми кручами и лучше всего чувствует себя над безднами, а в другой раз написал, что человек и художник должен работать как лошадь, упадет – ну и что? Падение необходимо, только надобно тотчас подняться и вновь взяться за работу. В ту пору он был еще подростком, а теперь вот пишет картины. Если он больше не сможет писать, то вряд ли будет жить. Зовут его Каспар, и в школе и дома его вечно считали лодырем, поверьте, причем потому только, что натура у него спокойная и мягкая. Из школы его забрали рано, поскольку он там не успевал, приставили таскать коробки да ящики, потом он покинул родину и за рубежом научился внушать людям заслуженное уважение. Это один брат, второй – Клаус. Он самый старший, и я считаю его лучшим и рассудительнейшим человеком на свете. Снисходительность, сомнение и раздумчивость сразу читаются в его глазах. Он человек усердный, до такой степени усердный, что никто никогда не постигнет его скромного, сокровенного усердия. Мы, младшие, росли у него на глазах, предавались своим желаниям и страстям, он молчал и ждал, порой ронял словечко заботы и совета, но всегда понимал, что каждый должен идти своим путем, он лишь старался предотвратить дурное, а хорошее в нас мигом примечал, на удивление зорко. Этот брат втайне тревожится обо мне, я точно знаю, ведь он любит меня, вообще любит людей и питает к ним до странности робкое уважение, каким мы, младшие, не обладаем. Хотя он занимает в научном мире значительное положение, я все-таки убежден, что лишь его добросовестность, всегда связанная с робостью, виной тому, что он не поднялся еще выше, так как вполне заслуживает самого высокого и самого ответственного поста. Есть у меня и третий брат, он всего-навсего несчастен, и только, и осталось от него лишь то, что рассказывает воспоминание о прежних его днях. Он в лечебнице для душевнобольных… Возможно, мне не стоило быть с вами столь откровенным? Вам, коль скоро вы сидите здесь и слушаете меня со всем вниманием, определенно интересно узнать чистую правду, а иначе лучше уж не узнать ничего, верно? Вы киваете и, стало быть, говорите, что я уже довольно хорошо вас знаю, коли дерзнул предположить, что вы женщина храбрая и вместе добросердечная. Слушайте дальше. Этот несчастный брат, пожалуй, я спокойно могу так сказать, был идеалом молодого красавца и наделен талантами, подходящими, скорее, галантному, изящному восемнадцатому веку, а не нашему времени с его куда более жесткими и сухими притязаниями. Позвольте мне умолчать о его несчастье, ведь, во-первых, я бы испортил вам настроение, а во-вторых, и в-третьих, а если угодно, и в-шестых, негоже расправлять складки беды, стирать всю торжественность, всю прекрасную, смутную печаль, которая существует, только когда молчишь о подобных вещах. Я лишь тихонько набросал вам портреты своих братьев, и теперь пришел черед девушки, одинокой школьной учительницы, заброшенной в деревушку с соломенными крышами, – моей сестры Хедвиг. Хотите с нею познакомиться? Вы бы доставили радость всем своим чувствам. На свете не сыскать более гордого существа, чем она. Я целых три месяца прожил бездельником у нее в деревне, она плакала, когда я пришел, и смеялась, когда я с дорожным чемоданчиком в руке хотел нежно с нею проститься. Она меня прогнала и одновременно поцеловала. Сказала, что питает ко мне легкое, но неизбывное презрение, но сказала так, словно приласкала. Представьте себе, она терпела меня у себя, когда я заявился к ней, беднее и наглее настырного бродяги, который вспомнил о сестре только оттого, что подумал: «Можешь пойти туда, пока вновь не станешь на ноги». Однако ж все три месяца мы прожили словно в веселом саду, полном крытых аллей. Такое забыть невозможно. Когда я шел в лес прогуляться и от вялости не знал, почесать ли подбородок или за ухом, я мечтал о ней, только о ней, как о самом близком и одновременно самом далеком. Благоговение отдаляло ее от меня, любовь приближала. Она такая гордая, знаете ли, что никогда не давала мне почувствовать, каким оборванцем я выгляжу в ее глазах. Только радовалась, что мне было у нее хорошо и уютно. Так продолжалось до последнего часа, разлука прямо-таки отрезала ее от меня, одним махом, в предчувствии, что я стану говорить лишь обидные глупости. Когда я, уже вышедши из деревни, глянул с вершины холма вниз, то увидел, как она машет рукой мне вослед, так приветливо и просто, словно я всего-навсего отлучился к ближайшему деревенскому сапожнику и через час вернусь. А ведь она знала, что остается одна в этой глуши и что ей придется отвыкать от компаньона, задача, требующая как-никак внутренней работы. Вечерами мы рассказывали друг другу о жизни и снова слышали шорох крыльев детства, вроде как шорох платья маменьки, когда она шла нам, детям, навстречу. Маменька и сестра Хедвиг неизменно сливаются для меня в один-единственный задушевный образ. Когда маменька захворала, Хедвиг ухаживала за нею, будто за малым ребенком. Вы только подумайте: дочь видит, как мать впадает в детство, и становится матери матерью. Какое странное смещение чувств. Маменька была женщина почтенная, и глубокое уважение, какое все к ней питали, было искренним и шло от души. Она всегда оставляла впечатление деревенскости и одновременно аристократизма. Смиренная и вместе с тем неприступная, она умела подавить всякое непослушание и бессердечность. Выражение ее лица просило и одновременно приказывало. Дамы нашего города прямо-таки толпились вокруг нее, а когда она прогуливалась, множество мужских шляп приподнималось в знак приветствия. Когда же захворала, она была предана забвению и стала предметом тревог и стыда. Больных членов семьи стыдятся и едва ли не сердятся, вспоминая дни, когда видели их здоровыми и окруженными всеобщим уважением. Незадолго до смерти – мне тогда сравнялось четырнадцать – она взялась писать письмо: «Милый сынок!» Думаете, она вывела своим красивым почерком что-то помимо обращения? Нет, устало и бессмысленно улыбнулась, что-то пробормотала и поневоле отложила перо. Она сидела в кресле, на столе лежало начатое письмо к сыну, рядом перо, за окном светило солнце, а я наблюдал эту сцену. А потом однажды ночью Хедвиг постучала в дверь моей комнаты: вставай, маменька умерла! Тонкий луч света проникал ко мне сквозь щелку, когда я вскочил с постели. Девушкой маменька была несчастлива и плохо обеспечена. Из дальней горной деревушки она приехала к своей сестре, моей тетке, в город, где ей пришлось работать чуть ли не служанкой. Ребенком она ходила в школу длинной заснеженной дорогой, уроки делала в крохотной комнатушке, при свете жалкого свечного огарка, до боли в глазах, оттого что почти не могла разобрать написанное в книге. Родители не были к ней добры, она рано узнала уныние и однажды в юности, стоя у перил моста, задумалась о том, не лучше ли броситься в реку. Ею определенно пренебрегали да помыкали, добра она не видела. Когда я подростком услышал о ее злополучной юности, гнев бросился мне в голову, я дрожал от негодования и с той поры возненавидел незнакомых бабку и деда. Нам, детям, маменька, когда еще была в добром здравии, казалась чуть ли не царственной, мы опасливо робели перед нею; когда же она повредилась рассудком, мы ей сочувствовали. Головокружительный скачок – от пугливого, таинственного благоговения к сочувствию. То, что находилось в промежутке – нежность к ней и непринужденность, – осталось нам неведомо. В результате к нашему сочувствию примешалось много несказанного сожаления о неизведанном, и от этого наше сочувствие к ней еще возросло. Мне вспоминались все проказы и все непочтительное поведение, а затем голос маменьки, уже издалека карающий, так что последующее физическое наказание в сравнении с ним представлялось попросту милым пустячком. Она умела говорить таким тоном, который мгновенно заставлял раскаяться в совершённом проступке и желать, чтобы возмущенная маменька как можно скорее смягчилась. Мягкость ее мы воспринимали как чудо, как подарок, ведь эту мягкость мы видели редко. Маменька всегда отличалась раздражительностью и обидчивостью. Отца мы боялись куда меньше, чем маменьку, боялись только одного: как бы он не сказал или не сделал чего-нибудь, что прогневит маменьку. Перед нею он был бессилен, одна из тех натур, что любят не столько энергичность, сколько собственное спокойствие. Его ценили как бодрого, веселого собеседника, однако ж для сложных дел он не годился. Сейчас ему восемьдесят, и с его смертью умрет толика городской истории, старики задумчиво и устало покачают головой, когда не увидят более, как он шагает по своим делам, а он до сих пор ходит по делам, и весьма твердой походкой. В молодости он отличался довольно необузданным нравом, но городская жизнь мало-помалу усмирила его, однако ж и соблазнила к уютной жизни. Оба родителя, и маменька, и отец, выросли в уединенных и суровых горных краях и приехали в город, который уже тогда в силу своей щедрости и веселья пользовался в стране смешанной славой. Промышленность расцвела в ту пору словно огненный цветок и позволяла жить легко, не задумываясь, люди много зарабатывали и много тратили. Если на неделе работали пять-шесть дней, то это считалось изрядным усердием. Работяга целыми днями прохлаждался на солнечном речном берегу, удил рыбу, коли не занимался чем похуже. Как только ему требовались деньги, чтобы жить дальше, он несколько дней работал и зарабатывал столько, что опять мог бездельничать. Ремесленник зарабатывал на работяге, ведь если у бедняков есть деньги, то уж у людей состоятельных тем паче. В городе разом прибавилось тысяч десять населения, все и вся устремились туда из окрестных деревень, в дома, которые заселялись и обживались, как только приобретали внешне готовый вид, внутри-то могли сколько угодно царить сырость и грязь. Золотое времечко для дельцов от строительства – знай себе строй, и они строили, небрежно, кое-как. Фабриканты ездили верхом, их дамы катались в каретах, а давняя городская знать, глядя на них, морщила нос. В праздничные дни этот город, как никакой другой, норовил себя показать, выставлял все, что имел в своем распоряжении, только бы прославиться повсюду как город наилучших торжеств. Коммерсантам в таких обстоятельствах жаловаться не приходилось, школьникам тоже, разве что иным разумникам недоставало духу ступить на нетвердую, усыпанную розами почву удовольствий и легкомыслия, но их было очень немного. Вот в такие обстоятельства попали мои родители, маменька с ее ранимой раздражительностью и любовью к простоте и благоприличию и отец с его умением приспособиться к всему. Для детей любое место приятно и привлекательно, но то, где мы росли, по своему расположению было просто создано для ребятни, обожающей играть в скалах, пещерах, на речном берегу, на пастбищах, в низинах, оврагах и на крутых горных склонах. Так мы и играли в тех местах, выдумывая все новые игры, пока не распрощались со школой. Когда умерла маменька, меня определили в ученье, в банк. Первый год я продержался превосходно, ведь новизна этого мира внушала мне страх и робость. На втором году я тоже был образцовым учеником, но на третьем директор хотел выгнать меня, оставил только из-за отца, с которым много лет водил доброе знакомство. Я потерял всякую охоту к работе, дерзил начальникам, коих считал недостойными командовать мною. Со мной происходило что-то, чего я теперь понять не могу. Помнится, всё, любая мебель, любая вещь, любое слово ранили меня. Я до того оробел, что впору было выставить меня вон, так и сделали. Нашли мне место в отдаленном городке, лишь бы от меня отвязаться, ведь проку от меня не было никакого… Однако ж сейчас я не хочу больше ни думать, ни говорить о прошлом. Так замечательно – выйти из ранней юности, ведь она отнюдь не только прекрасна, мила и легка, зачастую, напротив, тягостнее и тревожнее жизни иного старика. Чем дальше, тем жизнь мягче и скромнее. Тот, кто в юности жил бурно, впоследствии буянит очень редко, а то и не буянит вовсе. Размышляя, как мы, дети, один за другим проходили через заблуждения и сильные, быстротечные чувства и что такова участь всех детей на свете, ибо они сталкиваются в юности со множеством опасностей, я бы не стал поспешно восхвалять детство как сладостное время, но все же похвалил бы, ведь это бесценное воспоминание. Родителям зачастую очень трудно быть добрыми и осмотрительными, а уж быть примерным, послушным ребенком – для большинства детей это лишь дешевая, расхожая фраза. Вам ли не знать, ведь вы женщина. Что до меня, я по сей день остался самым нерадивым из людей. Даже костюма не имею, который бы свидетельствовал, что я более-менее наладил свою жизнь. Во мне вы не увидите ничего, что бы указывало на определенный выбор в жизни. Я все еще у ее порога, стучу и стучу в дверь, впрочем не поднимая большого шума, только прислушиваюсь, не придет ли кто отодвинуть передо мною засов. Этакий засов тяжеловат, и никто не спешит отворять, предчувствуя, что стучит попрошайка. Я лишь слушаю и жду, причем тут я достиг совершенства, так как выучился мечтать в ожидании. Мечты и ожидание идут рука об руку, ублаготворяют, оберегают порядочность. Не промахнулся ли я с профессией, я себя уже не спрашиваю, этот вопрос задает себе юнец, но не мужчина. При любой профессии я бы оказался там же, где сейчас. Что мне за дело! Я сознаю свои добродетели и слабости и остерегаюсь хвастать как добродетелью, так и слабостью. Предлагаю любому мои знания, мою силу, мои мысли, мои умения и мою любовь, коли он найдет им применение. Помани он меня пальцем, то, не в пример другому, который в подобном случае не спеша бы подковылял, я лечу, знаете ли, во весь дух, отбрасывая-отшвыривая все воспоминания, чтобы мчаться без помех. Весь мир мчится со мной, вся жизнь! Как это замечательно. Только так и надо! Ничто на свете мне не принадлежит, да я больше ничего и не жажду. Я более не ведаю стремлений. Когда я их имел, люди были мне безразличны и мешали, порой я их презирал, а теперь люблю, потому что нуждаюсь в них и предлагаю мною воспользоваться. Ведь затем только и живешь. Вот кто-то приходит и говорит мне: «Эй ты! Поди-ка сюда! Ты мне нужен. Могу дать тебе работу!» Он делает меня счастливым. Тогда я понимаю, что такое счастье! Счастье и боль совершенно переменились, стали мне яснее и понятнее, раскрывают мне себя, позволяют соперничать с ними в любви и страдании, позволяют ухаживать за собою. Когда мне надобно подать кому-нибудь предложение услуг, я всегда ссылаюсь на моих братьев и указываю, что коль скоро они выказали себя людьми полезными, увлеченными, творческими, то, может, и я на что-нибудь сгожусь, и каждый раз мне смешно. Я вовсе не боюсь, что из меня ничего не сформируется, но окончательно сформироваться хотел бы как можно позже. И лучше, чтобы это произошло само собой, без всякого намерения. А до поры до времени обзавелся парой грубых, широких башмаков, чтобы ступать тверже и уже походкою показывать людям, что я человек, который чего-то желает и, вероятно, что-то может. Огромное удовольствие – проходить испытание! Вряд ли есть что-то превыше него! Сейчас я беден – ну и что? Это ничего не значит, маленькая погрешность во внешней композиции, которую легко устранить несколькими энергичными штрихами. Она разве что слегка смутит здорового человека, может, слегка огорчит, но никак не взбудоражит. Вам смешно. Нет? Вы не засмеялись? Жаль, у вас такой чудесный смех. Несколько времени я подумывал пойти в солдаты, но уже не слишком доверяю этой романтической идее. Отчего не остаться там, где находишься? Неужто здесь мне не представится оказия, коли я захочу погибнуть? Я могу тут найти более достойный повод рискнуть здоровьем, силой и радостью жизни. Пока я наслаждаюсь здоровьем, удовольствием, что могу использовать свои руки-ноги, как заблагорассудится, наслаждаюсь своим разумом, по-моему еще весьма быстрым, и, наконец, волнующим сознанием, что я в большом долгу перед миром и имею все причины собраться с духом и подняться ввысь на крыльях любви. Мне нравится быть должником! Случись мне поневоле сказать, что люди меня обидели, я был бы безутешен. И глядишь, закоснел бы в тупости, неприязни и горечи. Нет, все обстоит иначе, обстоит блестяще, для будущего мужчины лучше и быть не может: я, именно я обидел мир. И он стоит передо мною как сердитая, обиженная маменька – чудное лицо, в которое я безоглядно влюблен, лицо матери-земли, требующей искупления! Я выплачу все, что упустил, проиграл, промечтал, прозевал и в чем проштрафился. Заглажу обиду и когда-нибудь потом, в прекрасный уютный вечерний час расскажу братьям и сестре, как я поступил, как вышло, что я хожу с высоко поднятой головою. Быть может, пройдут годы, но работа для меня тем восхитительнее, чем большего и тяжкого напряжения сил она требует. Ну вот, теперь вы немножко меня узнали.
Дама поцеловала его.
– Нет, – сказала она, – вы не погибнете. А если бы так случилось, было бы жаль, очень жаль. Вы не должны никогда больше судить о себе так преступно, так грешно. Слишком мало вы уважаете себя и слишком большое уважение питаете к другим. Хочу уберечь вас от слишком сурового отношения к себе. Знаете, чего вам недостает? Вам необходимо некоторое время снова пожить в довольстве. Научиться шептать кому-нибудь на ушко и отвечать на ласки. Иначе вы станете слишком чувствительны. Я вас научу, научу всему, чего вам недостает. Идемте. Выйдем в зимнюю ночь. В шумящий лес. Мне надо многое вам сказать. Вы знаете, что я ваша бедная, счастливая пленница? Ни слова больше, ни слова. Идемте…