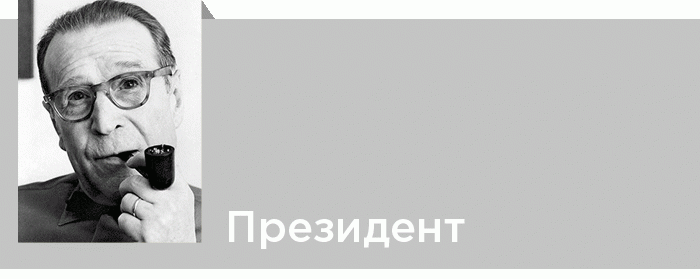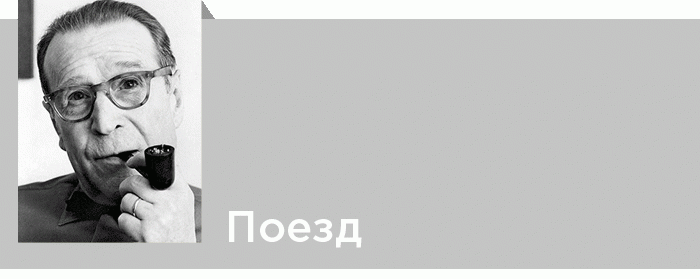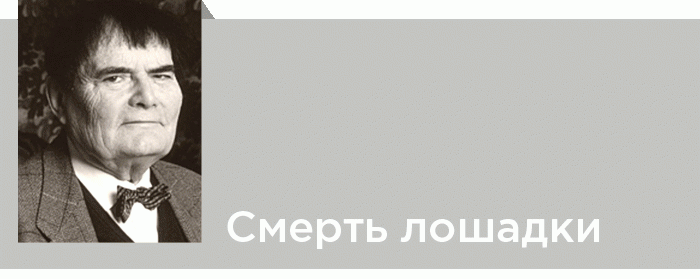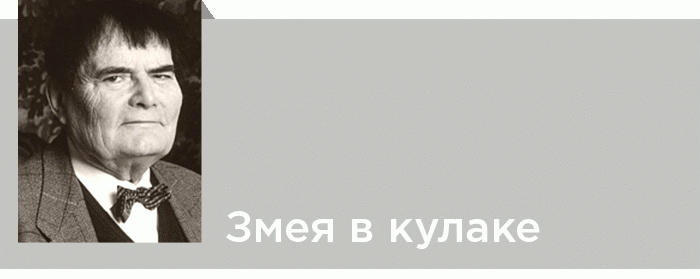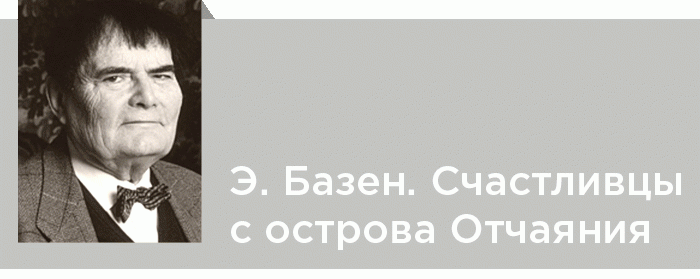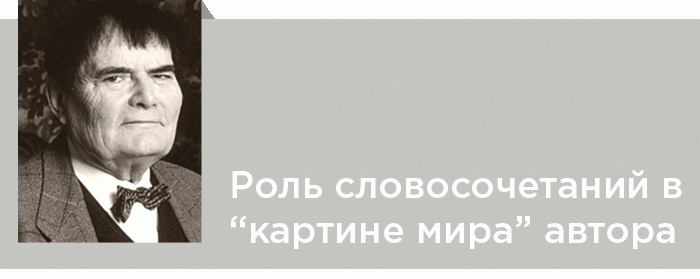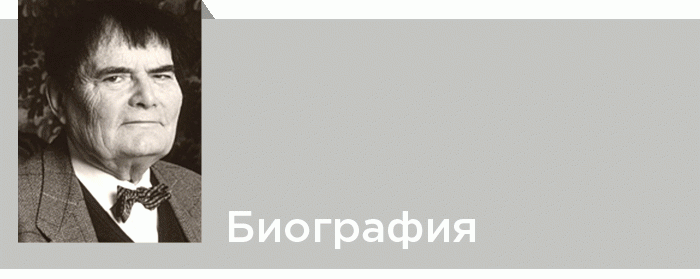Эрве Базен. Крик совы

(Отрывок)
1
Пронзительный ноябрьский ветер завывает за круглым зарешеченным окошком ванной, запотевшие выпуклые стекла которого непрозрачны, как церковные витражи. Водопроводные трубы дрожат на стыках; когда в кухне закрывают кран и вода вдруг устремляется к ванной, они резко чихают, и тоненькая струйка, льющаяся на меня сквозь сетку душа, забитую накипью, превращается в горячее водяное копье, больно колющее мою уже лысеющую голову.
— Ты кончил? — кричит через дверь Саломея. — Теперь можно мне?
Хотя встал я поздно, потому что вчера поздно засиделся за работой, я все-таки слышал шум душа: она принимает его каждое утро, чтобы придать еще больше упругости своему маленькому телу, с нежными бедрами и трепетной грудью, которые угадываются под платьем. Сейчас, должно быть, ей осталось только причесаться, и можно бежать к лодке.
— Пять минут — и я готов, детка!
Интересно, почему это я, не стыдясь, представляю себе Саломею в костюме Евы? Ведь не осмелился бы я вообразить в таком виде Бландину, ее сестру! Ну ладно! Закроем кран, возьмем мохнатое полотенце, разотрем гусиную кожу, на груди волосы кое-где уже тронуты сединой. Потом встанем на весы с увеличительным стеклом над шкалой — они всегда здесь, под окошком; на них уже многие годы проверяется вес всех членов семейства, точно так же, как антропометром, в форме жирафы, прибитым напротив к выкрашенной эмалью стенке, измеряется их рост. Хотя я щелкнул по регулятору, чтобы стрелка перескочила на ноль или даже чуть левее, потому что весы эти склонны к преувеличению, я тяну неполных семьдесят пять. Для мужчины ростом в метр семьдесят два это не катастрофа. Правда, если память мне не изменяет, в пятьдесят девятом я запретил себе весить больше семидесяти четырех, а в пятьдесят четвертом — больше семидесяти трех. Но вот о чем я сейчас подумал: у меня мокрые волосы и на руке часы, это тоже надо учесть. Другая мысль, промелькнувшая без видимой причины: Бертиль, которая так старалась изгнать из дома все, что напоминало о ее «предшественнице», конечно, вышвырнула бы и эти весы, если бы знала, что когда-то на них легко вскакивала Моника с нашим сынишкой на руках.
— Мой вес никогда не меняется, ни на один грамм, — говорила она. Чтобы узнать, сколько прибавил Жаннэ, достаточно произвести вычитание.
Тыльной стороной руки я протираю запотевшее стекло. В те годы, когда Моника, малыш и я, тесно прижавшись друг к другу, на мгновение удерживались на узкой площадке весов и, проявляя чудеса эквилибристики, чуть не сворачивая себе шею, еще умудрялись прочесть у самых своих ног приговор стрелки, — в те годы мы втроем тянули не более ста. Протираю другое стекло. Опасаться мне нечего: окно слишком высоко, снизу можно увидеть только мою голую грудь. Впрочем, я уже одеваюсь, глядя на разлившуюся Марну: ее илистые воды, поднявшиеся от проливного дождя, текут широким потоком с востока на запад под низкими, тяжелыми облаками, бегущими в обратном направлении. Вода затопила подвал, и там теперь танцуют всплывшие винные бочки; она затопила гараж — позавчера я едва успел вывести оттуда «ситроен». Сегодня утром она уже хлынула через садовую ограду, и теперь там, у стены, скапливаются пустые бидоны и пластмассовые бутылки. Ей тесно под арками моста Гурнэ, она откатывается назад, добирается до деревьев на набережной, так что теперь кажется, будто они растут прямо из Марны. Вода, продвигаясь все вперед, штурмует параллельные улицы, впадая в люки канализационных труб, затапливая сточные канавки, потом мостовую, тротуар, и в конце концов подступает к самым дверям, она врывается в парки; по тому, насколько погружен в воду бордюр из самшита, сразу заметно, где повышается уровень почвы. Саломея ждет… Ничего, успеет! Я не могу отказать себе в удовольствии открыть окно и потянуть носом воздух. Для меня, почти всю жизнь прожившего у реки, это одно из самых цепких воспоминаний: терпкий запах тины, перегнивших листьев в сочетании с мощным шумом воды, взбаламученной ливнем и бьющейся о тысячи преград, кипенье водоворотов, извергающих из глубины клочья грязной пены, которая повисает на изгородях из бересклета, на остриях кольев. В «Хвалебном» раз или два в год, обычно после сильных мартовских дождей (в ноябре половодье бывает реже), Омэ, спущенная где-то в верховьях, около Верна, каким-нибудь неведомым смотрителем шлюзов, когда уровень воды поднимался настолько, что это было опасным для рудников, внезапно подкатывала к нам, меньше чем за час выходила из берегов и, широко разливаясь по лугам, размывала свежие коровьи лепешки, топила кузнечиков и кротов, заставляла ворон и сорок уподобляться чайкам и на лету хватать плывущую падаль, а нас, мальчишек, убираться со своими флотилиями поближе к поросшим травой склонам, на которых стояли фермы.
Но вот слышится скрип, грохот железа, призывные удары багра. Это лодка пожарников, выполняя спасательную службу, объезжает затопленную половодьем набережную, развозит детей в школу и доставляет хозяек на рынок; она высаживает их на холме у моста, а потом снова забирает — точного расписания у нее нет. Глядя поверх кустов бирючины, я вижу в ней полдюжины мокрых зонтиков. На носу здоровенный парень с выбивающейся из-под каски рыжей гривой тянет за веревки, привязанные к садовой решетке, чтобы быстрее подогнать лодку к берегу, а главное, чтобы ее не повело к середине реки, не понесло по течению и не разбило об устои моста. На корме стоит новоиспеченный паромщик. Хотя у него наивная румяная физиономия, он ловко орудует багром и во всю мочь свистит в лоцманский свисток, оповещая прибрежных жителей.
— Дом двадцать девять! Двадцать девять! — кричит рыжий.
Он дает два свистка, потом еще девять, и в окне второго этажа, к которому приставлена лестница, появляется мадам Сотраль, наша соседка. Первый этаж ее дома, почти на уровне земли, затоплен. Похоже, что там плавает буфет, со страшным грохотом перевернувшийся среди ночи вместе со всей посудой. Какой-то мальчуган взбирается по лестнице, чтобы передать мадам Сотраль почту, и я узнаю… своего собственного сына — это Обэн, которого мать уже час назад послала в булочную: сегодня четверг свободный от занятий день, и она не хочет, чтобы он болтался без дела. Добравшись до предпоследней перекладины, он передает соседке также сумку с провизией. Мадам Сотраль проверяет ее содержимое, берет сдачу и пересчитывает мелочь. Потом Обэн, никогда не упускающий случая немного подработать, ловит на лету брошенную ему монету, соскальзывает вниз и, подхваченный соседом из дома 35, мсье Галюшем, пенсионером, которого нетрудно узнать по совершенно лысому черепу, исчезает среди зонтиков. Перегруженная лодка снова пускается в плаванье.
— Тридцать один! — визжит рыжий.
— Ну вот и лодка. Ничего не поделаешь! Придется бежать непричесанной, кричит Саломея, и я уже слышу, как она, стуча высокими каблучками, сбегает с лестницы.
Закроем окно. Обэн наверняка сообразит, как доставить нам почту, а Саломее, которая, конечно, бежит на свидание со своим дружком Гонзаго, вовсе не обязательно поправлять у зеркала прическу, ведь он все равно ее растреплет. Уже открывая дверь ванной, все же бросаю последний взгляд в окно, прежде чем направиться к себе в кабинет. Лодка сворачивает в наши широко распахнутые ворота (иначе их снесло бы напором воды), за три взмаха багром пересекает лужайку, скрытую под метровым слоем желтой жижи, и стукается о пятую ступеньку крыльца, еще не совсем затопленную. Обэн, прыгнув на нее из лодки, видимо, забрызгал пассажиров, о чем можно судить по негодующим восклицаниям дамы в черном (кто она, определить трудно, потому что я смотрю сверху, а она все еще держит над собой огромный черный зонт). Но голос, голос ее меня тревожит:
— Ах ты бесенок! Не можешь поосторожнее, что ли? — И сразу же: Подождите, я тоже здесь выйду.
Тут я снова поспешно открываю окно, нагибаюсь, чтобы лучше видеть, лучше слышать, лучше осознать невероятное. Нет, мне не почудилось. Этот голос, перешедший на верхнюю октаву, как у всех старых дам, немного тугих на ухо и потому говорящих по-актерски, громче обычного, — голос сохранил тот же тембр, тот же повелительный тон, и Саломее, которая как раз появилась на террасе и бежит, на ходу застегивая свой прозрачный плащ, не придется сесть в лодку:
— Нет, девочка, нечего убегать, раз я высаживаюсь. Ведь это случается не каждый день.
* * *
Это Она! Я сразу узнал кольцо на безымянном пальце морщинистой руки, которая держит Саломею за плечо, — на этот самый бриллиант в лапках мой отец раскошелился еще с полвека назад… Это наша старая Психимора, иначе говоря, наша матушка, еще иначе — мадам Резо, тиран моей юности! Я чувствую, как у меня сводит желудок. Потом быстро прикидываю про себя: шесть лет с Моникой, восемнадцать с Бертиль — значит, прошло двадцать четыре года, половина моей жизни, с тех пор как я ее видел в последний раз, эту милую даму, которой давно перевалило за семьдесят… Применив способ, строжайше запрещенный детям, я в несколько прыжков с грохотом сбежал по ступенькам, отделявшим меня от первого этажа. И вот я уже внизу. Тут я сталкиваюсь нос к носу с моей женой, выходящей из кухни, и с Бландиной, которая поднимается из затопленного подвала, держа в руке складной метр, в то время как Обэн, с двумя батонами под мышкой, выбегает из столовой.
— На два сантиметра меньше — вода понемножку спадает, — объявляет Бландина; она явно не в курсе того, что произошло.
— Ты опять обгрыз! — возмущается Бертиль, беря у Обэна батоны, оба обкусанные.
— Тебя спрашивает какая-то старуха, она в гостиной, — бросает мне Обэн.
— Визит поутру, во время половодья! — восклицает Бландина.
— Это ваша бабушка Резо.
Мой ответ произвел впечатление. Все они недоверчиво смотрят на меня. Для них реальна только бабушка Дару, владелица кондитерской, реальна, как сто килограммов ее веса. Она монополизировала здесь роль прародительницы. Существование другой — во всем ей противоположной, как черное и белое, как уксус и сахар, — представлялось до сих пор чем-то не вполне реальным. Судя по слухам, она царила одна в тридцати ледяных комнатах обветшалого дома мои дети никогда в нем не были, но однажды видели его издали, с дороги, во время каникул, когда я по их просьбе сделал крюк и, прежде чем направиться в Порник, проехал на малой скорости вдоль парка. Но бабушка Резо существовала всегда — просто она невидима в силу своей сущности. Потому что отказалась от своего потомства. Для моих детей это какая-то провинциальная Гофолия, хотя Гофолия обычно не покидает Ветхого завета, чтобы посетить Новый, разве что в театре. Мне приходится повторить:
— Уверяю вас, это моя мать. Я видел в окно, как она приехала.
— Долго же она собиралась! — говорит Бертиль.
Из приличия она снимает передник — не будем возражать! — и ворчит:
— Явиться вдруг, без предупреждения! Значит, она уже признает, что я существую.
Но глаза Бертиль блестят от любопытства. Она взмахивает правой рукой, а это у нее означает: «Ну, давай же приосанимся, нечего робеть». Она, решительно открывает дверь и входит в гостиную, выставив вперед грудь. Гостья, очевидно, уже представилась Саломее, и та успела усадить ее в кресло. Невозмутимая — впрочем, это относится и к нашей дочери, — госпожа матушка сидит совершенно прямо; когда мы входим, она вытягивает шею, чтобы взглянуть на нас. Можно подумать, что она здесь хозяйка. Деланная улыбка не в состоянии скрыть за наплывом морщинистых век зеленый блеск ее глаз, которые смотрят скорее весело и заинтересованно, нежели агрессивно. Дряблые складки кожи висят у нее под подбородком, лицо все в мелких трещинах, словно старый глиняный горшок, она сильно постарела, но не изменилась. Напротив! Торчащее, словно гриб среди белесого мха редких волос, ухо, нос крючком, резко выступающий подбородок, выделенный двумя глубокими складками, идущими от уголков рта, все вместе — карикатура на прежнюю мадам Резо, что еще больше подчеркивается надменной небрежностью в одежде: позеленевшее, когда-то черное пальто, кое-как починенная ручка у сумки и бриллиант, сверкающий хоть и на грязной руке, но способный тем не менее внушить иным насмешникам уважение к семьям, где скупость неотделима от респектабельной строгости.
— Вот так сюрприз, матушка! — восклицает Бертиль, напирая на слово «матушка», и, не стесняясь, косится в сторону огромного черного зонта, вокруг которого у стены уже образовалась небольшая лужица.
— Мне очень жаль, дочь моя, — отвечает мадам Резо, напирая на слово «дочь». — Я вижу, что своим зонтиком испортила вам паркет… Но я счастлива, что нашла детей в таком прекрасном виде.
Добрая старая бабуля, которая говорит о здоровье внучат так, словно только и делает, что печется об этих дорогих крошках, а ведь она их еще и не знает, несмотря на то что старшенький уже совсем взрослый, вот-вот вернется с военной службы.
— А как твоя печень? — продолжает мадам Резо, обращаясь ко мне. Приступы больше не повторяются? Заметь: их можно было предвидеть — ведь желчный пузырь ты унаследовал от меня.
Намек на недавно перенесенную мною операцию совершенно ясен: он сразу погружает меня в атмосферу клана, где всегда считалось хорошим тоном выражаться недомолвками. Понимать же надо так: «Я всегда была в курсе всех твоих дел». А из этого вытекает по меньшей мере три следствия: 1) «у меня есть свои осведомители»; 2) «значит, я не переставала интересоваться тобой»; 3) «ты один виноват в том, что мы так долго не виделись». Я улыбаюсь — этого она и добивалась, и, уверенная в том, что ее поняли, мадам Резо может теперь добавить:
— Ну и погода! Я уж думала, что никогда не доберусь.
Это в свою очередь означает: «Доказательством того, что все произошло по твоей вине, мой мальчик, служит тот факт, что я явилась сюда наперекор стихиям, что я взяла на себя инициативу и всего через каких-нибудь два десятилетия принесла тебе прощение и весть об окончании той давнишней распри, которую я всячески старалась замять, тогда как ты ее скандально раздувал». Еще час назад я думал, что никогда ее не увижу. Еще час назад, если бы кто-нибудь описал мне эту сцену завуалированного примирения, я утверждал бы, что такого не может быть. Впрочем, найдено было простейшее решение: достаточно сделать вид, будто ничего не произошло, будто все всегда шло нормально. И представьте, это подействовало! Все уже смотрят на меня удивленными глазами: «Да неужто она и впрямь фея Карабос, злая богиня-разрушительница? Уж не выдумка ли все, что о ней рассказывают?» Вы наверняка на это рассчитывали, матушка, а вдобавок еще и надеялись, что здесь, в самом сердце вражеской крепости, у вас найдется сообщник. Ну конечно же, в моем лице! Окруженный своими детьми, разве я не окажусь в одном с вами лагере, разве могу я быть непричастным к чему-либо, к чему причастны вы? Не потому ли я сейчас так ощущаю свой пуп, через который уж это несомненно — я был с вами связан? Трудно остаться равнодушным, вновь оказавшись перед существом, жизнь которого — источник твоей собственной жизни — не интересовала тебя четверть века, и гордиться этим тебе не приходится. Но почему вы так поздно спрятали в карман вашу гордость? Почему покинули ваш заросший терновником Кранэ?
Тем временем мадам Резо встала, чтобы приложиться к невестке, потом поочередно к каждому из внуков, потом ко мне.
— Четверо! — посмеивается она. — А у брата твоего — десять! Как же вы кляли свое детство! А теперь, глядишь, у самих столько отпрысков…
Одна только Саломея поцеловала ее в ответ — сперва в правую щеку, потом в левую, как любят целоваться в семье Дару. Саломея ведет себя всегда неожиданно. Впрочем, и Бертиль тоже. Я-то думал, она надуется, будет держаться натянуто. А она покоряет, рассыпаясь в любезностях:
— Вы останетесь завтракать, матушка?
— К сожалению, нет, мне нужно быть в Париже к двум часам. У меня сейчас много хлопот с прабабушкой ваших детей — мадам Плювиньек. Я приехала только предупредить вашего мужа…
Последняя фраза адресована мне. Прежде, если кто-нибудь умирал, меня никогда не предупреждали. В чем же тут дело? Я ловлю себя на том, что считаю по пальцам, прежде чем проговорить:
— Ей около ста, не так ли?
— В нашей семье живут долго, — продолжает матушка. — Твой дед умер восьмидесяти восьми лет. Бабушке девяносто четыре. Они намного пережили своего зятя.
Я хотел было пояснить, но матушка комментирует сама:
— Твой бедный отец женился на мне ради состояния, которым так и не смог воспользоваться. Это поучительная история.
Она заводит какую-то новую песню. Однако что-то за всем этим скрывается. Как это я сразу не догадался, что мы приближаемся к истинной цели ее визита? Сейчас меня поставят в известность, вот, уже начинается:
— С твоей бабушкой на днях случился удар. Я только что приехала из Сегре, но в Париже я одна. Твой брат Марсель с женой путешествуют по Карибскому морю, я даже не уверена, получили ли они мою телеграмму.
Она придвигается ко мне совсем близко. Я вновь ощущаю тот запах, который папа называл «ароматом полей»: мадам, должно быть, провела какое-то время в хлеву, беседуя с фермершей, прежде чем сесть в автобус и поехать на станцию. Еще одна подробность: у нее уже не один, а три золотых зуба во рту; преодолевая одышку, она произносит:
— К тому же, если говорить начистоту, я сейчас не в ладах с Марселем. Твоя бабушка, по его настоянию, сделала такие распоряжения, которые сильно ущемляют меня… да, впрочем, и тебя тоже. Я тебе объясню.
Она вздыхает. По правде говоря, мне уже не нужно никаких объяснений. То, что Марсель присвоил себе право на все наследство семьи Резо, — это ее вполне устраивало! Но он, видно, вошел во вкус и теперь норовит зацапать еще и наследство Плювиньеков — иными словами, состояние нашей матери, вот тут уже — стоп! Этого она не допустит. Появиться в обличье жертвы — весьма ловкий способ проникнуть сюда: мадам Резо приехала просто-напросто для того, чтобы предложить мне, своему бывшему врагу, союз против моего брата.
2
Звоню по телефону Батисту Форю, кузену Бертиль, а главное, другу — по профессии он художник, — и слышу, как он смеется в бороду.
— Да это просто история с привидениями, — говорит он. — Привидений я никогда не рисовал. Если она снова появится, позволь мне написать ее портрет.
Звоню Арно Макслону, моему коллеге и соседу, с которым мы дружны уже двадцать лет. Как и я, он женат во второй раз и окружен детьми от обеих жен. Он любит добродушным тоном пророчить самое худшее.
— Ну что ж, — говорит он, — она ждала, чтобы истек срок давности. Берегись: это пахнет рецидивом.
Звоню Поль, которая была моей приятельницей еще до появления Моники; она старше меня и относится ко мне немного по-матерински. Мы не виделись со времени ее отъезда в Испанию. Но с тех пор, как она вернулась, раз в месяц мы болтаем по телефону: Поль говорит, что стала совсем седая и, если я ее увижу, она много потеряет в моих глазах. Слух у нее прекрасный, и голос, который я слышу, не видя ее, заявляет с царственным равнодушием:
— Вот видишь! Клятвы в любви, клятвы в вечной ненависти — цена им одна. Приглядись к мадам Резо: только имя прежнее, а человек, конечно, уже не тот.
* * *
В отсутствие Жаннэ, который, возможно, занял бы враждебную позицию, семейный совет высказался за завтраком вполне единодушно. Мнение Бертиль: «У меня не было сомнений. Восстановить в правах бабушку — значит восстановить в правах детей». Мнение Саломеи: «Твои прежние ссоры с ней нас не касаются — лишь бы она не затевала новых». Мнение Бландины: «Поживем — увидим». Мнение Обэна: «Будем держать ухо востро». А я размышлял: для такого шага матушке понадобился серьезный стимул… Но будем справедливы: для этого ей понадобилось и некоторое мужество, а возможно, и нечто большее. И своего рода высокомерие («Чего только обо мне ни болтали, а мне наплевать»), и хитрый расчет («Мой сын? Да, он ни за что не устоит — до смерти рад будет оказать мне услугу»), тут и умение все взвесить. А может быть, это усталость? Или одиночество? Ведь мы все похожи друг на друга. С годами мы очень меняемся. Взять, к примеру, меня, Жана Резо: остался ли я таким же, каким лазил по ветвям тиса, или позже, когда покоился в объятиях другой женщины? Конечно, я не забыл свою молодость. Но с тех пор я знавал времена и похуже. Если новое горе и не вытесняет прежнего, оно заслоняет его, как одно дерево заслоняет другое, стоящее вдали, — и последнее из посаженных в моей жизни деревьев давало куда больше тени.
Согласившись лишь на рюмку портвейна, мамаша поспешно удалилась, не оставив даже адреса своей гостиницы и только потребовав, чтобы мы приехали к ней по первому зову:
— А главное, приезжай на машине! Говорят, у тебя «ситроен». Я-то, знаешь ли, думала, что ты любишь машины, которые могут обогнать ветер. «Без блеска, без треска, зато полный комфорт», — говаривал твой отец. «Ситроен», в общем, меня устраивает. Надеюсь, ты не подведешь.
Я ничего не обещал. Уткнувшись носом в бювар, я размышлял за своим письменным столом, растревоженный возобновлением старых козней. Меня разбирали противоречивые чувства: я опасался, что матушка одурачит меня, и в то же время боялся одурачить сам себя, я хотел сохранить душевное равновесие, и в то же время меня одолевало желание вновь окунуться в свою молодость. Надвигающиеся события всегда пробуждают во мне давнишнюю страсть к анализу. Передо мной на бюваре лежал листок бумаги, который я вынул из ящика стола, — небольшая генеалогическая таблица (Фред говорил: «Местами она генеа-нелогическая»), изображенная рукой моего отца… Семьи обычно собираются вместе в одних и тех же местах: в церкви, в мэрии, на кладбище; для некоторых существует еще и дом, где воспоминания укоренились так же глубоко, как вязы в фамильном парке. Но и в таком доме семья никогда не собирается в полном составе, и местом общей встречи поневоле оказывается генеалогия, представленная либо в виде дерева, чьи весенние листики символизируют наших детей, либо в виде многоступенчатой пирамиды, где квадратики, подвешенные друг к другу черточками, напоминают «мобили» Колдера.
Генеалогическое древо, лежавшее у меня перед глазами, относилось как раз к этому второму типу, и не знаю почему («Не знаю почему»? Так ли? Ведь я происхожу от тех, кто шел передо мной, те, что идут следом за мной, получили жизнь от меня), но после смерти отца я аккуратно его дополнял. Хотя между мной и другими членами семьи не было никакой связи, сведений для этого мне хватало. У меня тоже были свои семейные осведомители троюродные братья, вечно твердившие мне: «В конце концов, право же, тут все должно быть в порядке», перебежчики, воодушевленные противоположными чувствами; а главное, были жившие по соседству кумушки, которых нисколько не обескураживало мое молчание. Диву даешься, до чего их будоражат подобные ситуации! В течение восемнадцати лет некая мадам Ломбер, владелица книжной лавки в Сегре, которая подписывалась своим именем и не скрывала своего адреса, вменила себе в обязанность каждые три месяца посылать мне краткий отчет. Выглядело это так:
«Печальная новость, мсье! Ваш тис лежит на земле, как и все прочие деревья ценных пород. Здесь стараются выколотить побольше денег».
Или так: «Ваша матушка прочла в „Курье де л'Уэст“ о рождении Обэна. Поначалу она отреагировала так же, как много лет назад, когда узнала о смерти вашей первой жены: „Мог бы все же меня известить“. Потом проворчала: „Назвать ребенка Обэном… Надо же придумать! Хотя, правда, это анжуйское имя“».
Или: «Мне понравилось последнее речение вашей матушки: „А этот неудачник в конце концов все-таки преуспел!“ Я прекрасно поняла, что, по ее мнению, можно и преуспевая оставаться неудачником; но, поскольку всякое преуспеяние по сути своей буржуазно, она попытается воспользоваться случаем и примкнуть к вам на каком-нибудь повороте».
Или: «Было ли это сказано для красного словца? Или с искренним чувством? Когда Жобо, ее фермерша, подарила ей иммортели, мадам Резо, говорят, заметила: „Я тоже высыхаю“».
С некоторых пор она перестала мне писать, эта мадам Ломбер, не преминув объяснить свое молчание на цветной открытке, изображавшей лимонные деревья Мантона:
«Мой муж продал наше дело, и мы переехали сюда. Так что я теперь в изгнании, в теплых краях. И больше я уже не смогу быть вашим глазом и вашим ухом у вас на родине. Вы скажете, что никогда не просили меня об этом. Но вы мне этого и не запрещали — ведь вы же ни разу не отослали обратно мое письмо. Разве это не было молчаливым согласием?»
Но вернемся к лежавшему передо мной листку бумаги. Он разделен по горизонтали на три части. Самая верхняя из них погружена во тьму веков: там указаны имена тех, кого я никогда не знал. Ниже, за четкой линией она обозначает рубежи смерти к моменту моего рождения, — в легком сумраке воспоминаний находятся исчезнувшие недавно; население этой второй зоны многочисленно, и она словно давит на пространство, отведенное для живых, напирая на неустойчивую черту, проведенную карандашом (ибо время от времени приходится стирать ее резинкой и перемещать ниже). Линия эта не что иное, как новые рубежи смерти, отсекающие стариков, иногда опускающиеся стрелой вниз, чтобы собрать свою жатву у юности — отнять у Марселя маленького сынишку, у меня молодую жену.
За спиной у нас уже осталось только трое: умирающая бабушка Плювиньек, восьмидесятилетний папский протонотарий, который доживает свои дни в монастыре, где в меру сил исполняет обязанности настоятеля, и моя матушка — на пересечении трех ветвей, ведущих к трем ее сыновьям.
Представители старшей ветви — ветви Фердинана, или Фреда, которого мы прежде звали Рохлей, насколько мне известно от друзей, а также из пространных (и горестных) сообщений мадам Ломбер, — вызывают одновременно и смех и слезы. О мой отец! Вы, который так гордились своим «чисто буржуазным родом, насчитывающим уже три века», своей фамилией, «почитаемой даже на набережной Конти и в известном смысле ни в чем не уступающей дворянским фамилиям, украшенным частицей де…», интересно, стали бы вы сегодня утверждать, что «цветная раса прерывает родословную»? Ведь мой старший брат Фред, который долго бедствовал, стараясь пристроиться в разных местах, в конце концов каким-то образом очутился на острове Реюньон, откуда через несколько лет вернулся с мулаткой Амандиной Гомес и маленьким квартероном… Ну а сын Фреда, никому не известного мелкого служащего какого-то банка в Монлери, снимающего жалкую лачугу в Лонпоне, его старший отпрыск, «главный наследник имени и герба», которого зовут Жак, как и его покойного деда, окончательно скатится в низы общества.
Марсель, помеченный от меня слева, наоборот, позаботился о том, чтобы в жилах его детей текла голубая кровь: наш Кропетт, ставший студентом Политехнического института, потом артиллерийским офицером, женился на Соланж де Кервадек, племяннице кардинала. Откупившись от службы в государственном учреждении он стал инженером, а потом генеральным президент-директором brain-trust (раз уж теперь выражаются так), находящегося в Пеке и специализирующегося в области engineering. Единственный и безусловный наследник своей крестной матери, баронессы Сель д'Озель, наследующий игорный дом от еще трех благочестивых теток, завещавших ему свое состояние (за вычетом 15 %, предназначенных на благотворительные цели — в качестве пропуска, который они предъявят у райских врат апостолу Петру), Марсель, что называется, хороший муж, хороший отец, хороший христианин с хорошими доходами, еще округлившимися благодаря доходам его жены, которая вознаграждает его тем, что, в лучших традициях героического материнства, сама округляется в среднем каждые два года. «Да это не дом, а какой-то крольчатник!» — говорят, воскликнула матушка после появления девятого отпрыска. У меня там есть и племянницы, и племянники, но тут уж моя генеалогия не полна. Я знаю только Луи, Розу, Эмэ, остальные — безымянное скопище, но скопище детей воспитанных, крещеных, которым читают нравоучения, которые обращаются к родителям на «вы»… Словом, настоящие Резо! Фирма внушает доверие.
* * *
Между этими двумя ветвями — я со своим семейством. Я нахожусь в серединке, но по чистой случайности: о чем бы ни шла речь, я никогда не мог и не старался где бы то ни было устраиваться. Сбежав из Общества («о» заглавное), из того общества, которое уже не осмеливается назвать себя «хорошим», продолжая, однако, считать себя таковым, я не примкнул ни к какому другому. Я человек деклассированный: всем этим браминам, этим крупным буржуа, я предпочел неприкасаемых; однако же последние мечтают о бесклассовом обществе и смотрят на меня как на перебежчика, не способного смыть с себя первородный грех. К счастью, с некоторых пор нас стало много: те, кто поднимается по социальной лестнице, и те, кто спускается по ней, все оказываются в одном мешке… И тут за отсутствием классового критерия мгновенно появляются другие классификации: теперь смотрят, у кого сколько денег, кто какую занимает должность, какая у кого ванна, какой марки машина — ведь в этих приметах благополучия и заключено очарование нашей эпохи… Но пойдем дальше. И пойдем быстро, потому что путь от случайной удачи к привилегированному положению не долог, а когда ты ублажен по всем статьям, пусть даже и не слишком, ты уже можешь спокойно смотреться в зеркало своей спокойной совести, говоря при этом, что тебе неудобно перед приятелями!
Впрочем, когда я просто смотрюсь в зеркало, я тоже кажусь себе хитрецом, вспоминая о том юноше, каким я был в молодости, — правда, все мое удовлетворение тут же улетучивается. Этого почтенного гражданина я хорошо знаю, я брею его каждое утро. Он, слава богу, еще не сдал! Еще полон жизни, хотя жить с ним не стало легче; в глазах живые огоньки, а одна бровь по-прежнему выше другой. Не изменился? Нет, на этот счет не будем заблуждаться. Волосы выглядят прилично благодаря красящему шампуню, которым я пользуюсь раз в три месяца. Но если голова у меня по-прежнему такая же квадратная и широкие скулы, если зубами я все еще могу разгрызать косточки от персиков и подбородок так же воинственно выдается вперед, то время, увы, не пощадило моей кожи. Все это называется зрелым возрастом, пришла пора пожинать плоды.
Плоды моего труда стоят того, чего они стоят. Я не распространяюсь о них в семье. Я полагаю — эту точку зрения я унаследовал от отца, — что о значимости или незначительности того, что ты делаешь, и о том, сколько ты зарабатываешь, дома нужно говорить поменьше, дабы твои неудачи, равно как и успехи, не сказывались на родственных отношениях, которые не должны от этого зависеть. Когда занимаешься тем ремеслом, которым занимаюсь я, когда знаешь, как трудно выплыть на поверхность чернильного моря, тогда легко оцениваешь преимущества такого принципа и довольно скоро отдаешь себе отчет в том, что не стоит особенно уточнять источник своих доходов. В тех семьях, где думают только о карьере и никогда — о призвании, писательство, судя по всем этим родственным излияниям, вызывает легкое отвращение, вроде как стриптиз. Гораздо благоразумнее заставить наших родных забыть, что и впрямь, как у дам, подвизающихся на этом поприще (которые, правда, обнажают только себя), профессия наша состоит в том, чтобы ходить обнаженными и попутно раздевать наших близких и наших друзей, которые нам доверились, стараясь захватить их врасплох в интимной жизни.
«Когда я узнаю в твоих героях какую-то свою черту, — говорила мне Моника, — мне начинает казаться, будто ты проделал отверстие в стене ванной комнаты и выставил меня напоказ перед тысячью зрителей».
* * *
Невидимая теперь, кто знает, может, она и опечалилась бы оттого, что мы окружаем ее молчанием? Портрет ее висит не у меня в кабинете, а в комнате Жаннэ (уменьшительное имя, родившееся в ее устах, чтобы отличить сына от отца). Мы с ним никогда не говорим о ней. Только обмениваемся взглядами, если случайный намек, вырвавшийся у Бертиль, вызывает в нашей памяти образ той, что исчезла навсегда. Мы даже не каждый год навещаем ее могилу в Тиэ. А между тем множество предметов, населяющих наш дом, было выбрано ею. Я ни за что не расстанусь с бумажником, совсем уже потрепанным, ее последним подарком. Жаннэ было шесть лет, когда произошла катастрофа, и он почти не помнит свою мать, но тоже никогда не расстается с тоненькой цепочкой, которую она носила на шее, иногда покусывая брелок с образком, как другие кусают ногти.
Однако вырастила его — порою делая над собой усилие — Бертиль, которую он зовет мамой, так же как Саломея называет меня папой. В их устах эти слова звучат так же естественно, как у Бландины или Обэна; и посторонние с любопытством смотрят на нашу семью, где гены явно распределились с самой необузданной фантазией. Дети мсье, описанного мною выше; дети мадам (которая на десять лет моложе мсье), урожденной Дару, появившейся на свет в Перре, от родителей, выходцев из Буржа, типичной жительницы пригорода, с кармином на губах и ногтях, которую — ввиду ее происхождения — я называю иногда «берришонкой»… Так вот, дети мсье, непоседливого человека, с неменяющейся, но забавной внешностью, и дети мадам, убежденной домоседки, которой достаточно перекрасить волосы, чтобы удовлетворить свою склонность к переменам, — дети их, все четверо, мальчики и девочки, совершенно друг на друга не похожи.
Двадцатичетырехлетний Жаннэ — плотный, голубоглазый блондин, рост 1 метр 85 сантиметров, вес 80 килограммов, грива точно у Авессалома, сына Давидова. Впрочем, он отнюдь не мягок, не нежен. Скорее непреклонен. Бескорыстием пошел в свою покойную мать. Независим, хотя таким не кажется. Отнюдь не простак, хотя и кажется таким. В настоящее время, после длительной отсрочки, служит сержантом и благодаря своему диплому программиста работает на армейском компьютере. Чемпион Иль-де-Франс в беге на тысячу метров.
Восемнадцатилетняя Саломея, сокращенно Смэ (так называет ее младший брат, ее любимец), напротив, типичная южанка с рассыпанными по плечам черными кудрями. Она — вот ведь ухитрилась! — до такой степени похожа на Бертиль, что иной раз фотографию ее матери в молодости можно принять за недавний портрет дочери. Саломея невелика ростом и потому носит высокие каблуки. При виде ее маленькой, но пухленькой фигурки глаза у мужчин плотоядно поблескивают. Очень решительная, она весело командует братьями, когда ей случается выступать в роли Бертиль. Окончила лицей, однако учиться дальше не хочет. Влюблена в Гонзаго, сына врача из Ланьи, и ни в грош не ставит все остальное, кроме своей скрипки.
Бландина — шестнадцатилетняя девушка, словно сошедшая с полотен Рубенса, тем более что она еще и рыжая. Томная, пылкая, но при этом живая и лукавая. Она меньше, чем ее сестра, склонна заниматься хозяйством и командовать в доме, зато весьма популярна в лицее — отлично успевает по всем предметам, кроме математики. Ее хобби — фотография, и поэтому она историограф нашего клана.
Наконец, Обэн — Хватай-Глотай в двенадцатилетнем возрасте, но только Обэну ни от кого не приходится защищаться. Весельчак, немного клоун. Если на него перестают обращать внимание, замыкается в себе — смотрит на вас, полуприкрыв глаза торчащими во все стороны ресницами, и кажется, будто это щель в лопнувшей скорлупе каштана. Нужно ли добавлять, что этот непоседливый, как белка, мальчуган в штанах с кожаными заплатами на заду, чья квадратная мордашка забавно вытягивается, если перед ним ставят тарелку с сельдереем, имеет надо мной известную власть?
3
У края освободившейся от воды набережной кипела Марна, снова входившая в свои берега, мы увидели, как по ней проплыл мимо на дубовом бревне живой и невредимый петух. Все жители домов, стоявших на набережной, шлепали по тине, вдыхая вонь от всплывшего на поверхность содержимого помоек, и граблями счищали отбросы со своих лужаек. Жена моя мыла подвал, выливая туда целые ведра жавелевой воды, а я обдавал струей из шланга загаженный гравий двора, как вдруг около десяти часов зазвонил телефон. Я бросился в дом, оставив грязные сапоги у входа, и в одних носках вбежал в кабинет, а следом за мной поспешила Бертиль в чулках. Я думал, что звонят из газеты насчет статьи. Оказалось, что звонит матушка — вернее, ее привратница, поскольку матушка туга на ухо. Без всякого предисловия визгливый голос произнес:
— Прошу вас принять мои соболезнования, мсье Жан. Ваша бабушка скончалась. Мадам Резо сидит у меня в привратницкой на улице Вано, дом шестнадцать, и ждет, чтобы вы срочно свезли ее в Рюэйль.
Ну, конечно же, в Рюэйль, в дом покойницы, урожденной Вароль (появившейся на свет еще при Второй империи!), единственной дочери уже не молодых в ту пору родителей: толстого краснолицего полковника национальной гвардии Эрика Вароля д'Эндук, по прозвищу Индюк, взятого вместе с императором в плен при Седане, и его домоправительницы Леони, на которой он женился вовсе не по необходимости, а на следующий день после того, как она получила наследство, которое позволило ему счесть ее достойной себя (папа очень любил рассказывать нам по секрету эту историю). Я знал, что вилла в Рюэйле, куда, оставив политику и квартиру на улице Пуссена в Париже, Плювиньеки удалились еще в 1930 году, заботясь о своем долголетии, довольно обширна и что на нее зарится Марсель. Но почему же матушка до сих пор не там? Разве она не присутствовала при кончине бабушки? В общем, я знал об этом далеко не все, вернее, я почти ничего не знал.
— У нее есть где остановиться в Париже? — спросила Бергиль, вешая трубку.
— Возможно… Так или иначе, поехали!
Детей не было дома, в том числе и Саломеи — она сдавала экзамен, чтобы получить водительские права. Мы второпях оделись, нацарапали записку, оставили ключ соседке и помчались в гараж, где наш «ситроен» ожидал конца наводнения. Бертиль — почти всегда машину ведет она — уступила мне руль и за весь путь, вместо того чтобы по обыкновению придираться к водителю, не проронила ни слова. Я же, искоса на нее поглядывая, думал: вчера ей было интересно разыгрывать из себя невестку; сегодня эта роль внушает ей беспокойство. День стоял серый, рестораны были полны, движение на дорогах — умеренное. В полдень я входил в привратницкую на улице Вано.
* * *
Матушка, которая ела бутерброд, наполовину торчавший из жирного бумажного пакета, сунула все это в карман своего пальто и встала.
— Счастливо оставаться, Мелани, — сказала она, обратившись на «ты» к монументальной привратнице, не сводившей с меня глаз. — Если я к вечеру не приеду, то позвоню тебе.
Она устроилась на заднем сиденье машины и вновь принялась жевать бутерброд, со смиренной прожорливостью вонзая в него свои золотые зубы.
— Пари держу, что вы не успели поесть, — сказала она, не переставая жевать. Потом, без всякого перехода: — Ты узнал Мелани?
Я отрицательно покачал головой.
— Дочь наших бывших фермеров из «Ивняков»… — объяснила она. — Сестра Мадлен, которая недавно умерла на ферме «Красная соль» от рака. У Мелани есть мансарда на восьмом этаже. С тех пор как дочка вышла замуж, она уступает ее мне, когда я приезжаю в Париж. Это в центре. Я могу пользоваться телефоном в привратницкой. Могу сварить себе там яйцо… А что ты думаешь? Гостиница мне не по карману: я небогата, приходится экономить.
Мадлен, моя пастушка, с которой я, когда ей было пятнадцать лет, баловался под кедром, где гнездились коршуны, и которая в двадцать пять стала дородной хозяйкой соседний фермы… Неужели умерла? Нет, этого я не знал. Что касается Мелани, то, конечно, она, уроженка Кранэ, почитает «мадам» и из любви к местам своего детства готова ей помогать. Разве не назвала она меня по телефону «мсье Жан», как называла тридцать лет назад, когда ходила в сабо на босу ногу? Значит, еще не исчезло раболепное стремление услужить? Заметив выражение враждебности на моем лице, матушка на сей раз ничего не может понять. Ей и невдомек, что меня коробят эти следы былых привилегий, которые столь для нее лестны. Полагая, очевидно, что мне не нравится, как она управляла имением, она подождала, пока я проехал еще три улицы, и лишь тогда решилась прокомментировать:
— У твоего отца уже после первой мировой войны начались трудности. Можешь себе представить, как тяжело приходится мне! И как я хочу, чтобы меня обобрали в пользу Марселя под тем предлогом, что ты и Фред тоже мои наследники и что если наследство сначала попадет ко мне, то состояние Плювиньеков может оказаться у вас…
Ах, вот оно что! Не здесь ли зарыта собака? Она хочет поживиться, а я должен ей посодействовать. Хороший урок для Бертиль — она же иногда мне не верила! Между тем матушка сочла уместным изобразить скорбь.
— Бедная мама! — продолжала она. — Она была слишком стара, чтобы отрешиться от своих предубеждений. Впрочем, и Марсель не зевал…
Потом я уже слышал только шум мотора и скоро увидел в зеркальце весьма назидательное зрелище — мадам Резо, сунув за щеку мятную конфетку, вытащила свои четки и, решительно перебирая их большими пальцами, молча шевелила губами: воздавая добром за зло, она молилась за покойницу.
* * *
Площадь Этуаль, бульвар Майо, Дефанс, Мальмезон. Еще полчаса — и приехали. Несмотря на то, что здесь как грибы растут небоскребы (которые до тридцатого этажа будут набиты мелкими служащими), несмотря на доступную цену за квадратный метр, — район этот все еще сопротивляется нашествию, цепляясь за XIX век. Большинство особняков построено здесь еще в ту пору, когда не любили показной роскоши и фасады домов, обращенные в сторону парков, не должны были вызывать зависти прохожих, которым внушала уважение высокая ограда, ощерившаяся битым стеклом, с плотной стеной деревьев за ней. Дверь с глазком в той стене, у которой я остановился, была отворена, и из нее выходила молодая женщина с большим чемоданом.
— Это что такое? Что она уносит? — встрепенувшись, спросила матушка.
Я осведомился: то была сиделка, спешившая по другим адресам, туда, где витала смерть. Но мадам Резо уже переступила порог. Она бросила, казалось, чуть смягчившийся взгляд на лужайку, на тенистые деревья, на узенькие аллеи, усыпанные мелким песком, по которым, верно, когда-то прогуливалась в своих высоких зашнурованных ботинках мадемуазель Плювиньек, и тотчас же, устремившись к вилле, натолкнулась на первое препятствие. Скрытый густыми кустами аукубы, я немного отстал вместе с Бертиль, которая, глядя на слишком пышный фасад в викторианском стиле, выдохнула: «Ну и ну!» Я услышал:
— Мсье Марсель приехал с вами? Мадам Плювиньек очень просила меня…
И тут же вместо ответа грозное рычание:
— Да вы что!..
Я сразу понял, что как шофер и одновременно внушающее уважение лицо я могу оказаться полезен матушке. Чувствуя за собой поддержку, она легко привела в замешательство ту, что вышла ей навстречу. Пока завещание не прочитано, дочь умершей по естественному праву была здесь, бесспорно, у себя дома, и компаньонка, которую облекла своими полномочиями ее бездыханная хозяйка, оказалась в трудном положении. Благословенное путешествие, благодаря которому не поспел вовремя привилегированный наследник! Я выступил вперед. Бертиль тоже. Мы были в большинстве, и матушка, казалось, приободрилась, получив наконец возможность пойти наперекор последней воле покойницы — единственного на моей памяти человека на свете, которого она так и не смогла заставить плясать под свою дудку. Компаньонка же чуть не лишилась чувств.
— Но, мадам, — отважилась она пролепетать, — я получила распоряжения…
Репутация — какое это верное средство для устрашения глупцов! Сам дьявол в моем обличье прошел мимо этой девицы, жесткой, сухой, с морщинистой шеей и руками. А потом и жена дьявола, которая проворчала:
— Вы как знаете, а я хочу есть.
Теперь достаточно было отправить этого цербера в бельевую, но матушка, которая сначала чуть не растерялась, возвысила голос:
— Теперь, мадемуазель, распоряжаюсь здесь я, и прежде всего я требую, чтобы вы немедленно покинули этот дом. Вам тут больше нечего делать. Нотариус заплатит вам все, что вам причитается.
Когда глубоко оскорбленная старая дева ретировалась, теребя свой нагрудный крестик, матушка остановила взгляд на служанке Анне — в чепце, какие носят уроженки Орэ, та не отступала ни на шаг от компаньонки. Но второй стычки не последовало: Анна, рабыня Плювиньеков, служившая им еще в старом поместье сенатора в Морбиане, быстро приняла сторону дочери покойной. Впрочем, улыбка ее красноречиво говорила о ее отношениях с побежденной.
— Бедная мадам лежит там, в голубой спальне, — пролепетала она. — Через час ее должны положить в гроб. Я не провожаю вас, мадам Поль, сами знаете, как пройти.
Пусть же настежь распахнутся застекленные двери передней и да проследует наше траурное шествие по толстому ковру, прикрепленному к лестнице медными прутьями! Рядом я слышу шепот:
— Если бы тебя увидел здесь твой брат, у него разлилась бы желчь!
Нечего и сомневаться, мое присутствие будет расценено как знак благоволения ко мне, а вовсе не как оказанная мною услуга. Но вот и лестничная площадка, освещенная мягким светом стеклянных горок, набитых разными безделушками, весьма типичными для буржуазного дома девятисотых годов: бронзовые статуэтки, вещицы из металла, саксонский бисквит. И вот наконец широко раскрытая дверь голубой спальни.
Вокруг кровати с колоннами и пологом громоздятся остатки былого великолепия — правда, по-настоящему уцелели только прочные материалы: стекло, дерево, металл, а плюшевая обивка в цветочек на мебели и тяжелые занавеси с шишечкой на конце шнура пришли в ветхость. Сама кровать кажется почти пустой: там лежит нечто среднее между миниатюрной амазонкой и яблоком ранет в конце сезона. Заметнее всего руки…
— Как! — воскликнула сирота. — У нее в руках оставили четки с ангелами!
И в самом деле, пальцы покойной обвиты четками из слоновой кости в золотой оправе, каждая бусина которых — крошечная головка ангелочка, а вместо взрослого Христа ювелир с наивным садизмом пригвоздил к кресту младенца Иисуса. Это редкая вещица, и мадам Резо не колеблется. Одну за другой она высвобождает бусины из уже окостеневших пальцев покойницы, сует их к себе в сумку, откуда достает в качестве замены собственные четки, добротные, будничные четки из оливковых косточек, напоминающих благочестивым душам о муках в Оливковой роще в Гефсиманском саду. Вдобавок они освящены (четки с ангелочками — вряд ли), да к тому же еще не успели остыть от жарких молитв мадам Резо.
— Ну и ну! — вздыхает Бертиль за моей спиной.
Мадам Резо, которая не слышала ее вздоха, хватает веточку розмарина, плавающую в блюдце на ночном столике, и с напускной торжественностью трижды взмахивает ею: несколько капель воды падают на отороченную кружевами простыню. Матушка поворачивается ко мне, потом спохватывается, наверняка вспомнив о моих отношениях с бабушкой, если не о моих отношениях с небом, и кладет розмарин обратно.
Потом она вдруг задергивает полог кровати и, ради приличия изолировав таким образом покойницу, пикирует прямо на шкаф. Она распахивает его настежь, перетряхивает две стопки белья и под третьей находит то, что искала: конверт с надписью: «Здесь находится мое завещание», причем даже не запечатанный. Матушка тем не менее лихорадочно вскрывает его. Она встряхивает этим завещанием, довольно коротким, целиком написанным синими чернилами на гербовой бумаге рукой покойницы, ее аккуратнейшим почерком воспитанницы монастырского пансиона. Она читает, вся передергивается, кричит:
— Ну и подлецы!
И — раз, два! — рвет завещание пополам, потом на четыре части, на восемь частей.
* * *
Такого я не ожидал даже от нее! Ее душит бешенство, она топчет ногами обрывки завещания. Перед нами воскресла Психимора. Но на этот раз я не участвую в игре, я всего лишь зритель. Я, словно с другой планеты, вижу и слышу, как наследница задыхается от злости.
— Марсель — единственный наследник! Ему завещан дом и все, что в нем есть. Еще до раздела имущества! Никакого раздела! У меня право только на то, что по закону положено дочери. А как вам нравится приписка: «Не ищите моих драгоценностей: я ими распорядилась»?
— Остались только самые пустяки, — произносит чей-то голос.
Это Анна, которая потихоньку вновь вошла в спальню; вид у нее такой, будто ей очень весело. Она объясняет:
— Мсье Марсель приезжал на несколько дней перед своим путешествием. Я видела, как он спускался с большой коробкой. Я была в передней, а тут как раз мадам Плювиньек позвала его обратно и сказала что-то, уж не знаю что. Он вернулся, оставил коробку на стуле… Стал выносить пакеты, да не один, а десять, может, двадцать. Я подумала, ну, это все-таки слишком, он вывозит все, пользуется тем, что у мадам с головой плохо… Я решила посмотреть — коробка была набита футлярами. Открываю один, оказывается, там камень, ей-богу, не вру, такой большой, с мой ноготь…
— Солитер в десять карат! — простонала мадам Резо.
— В другом — ожерелье, браслет, брошь с синими камнями…
— Бальный гарнитур с сапфирами!
Я чуть не прыснул. Однако окончательно ли из меня изгнан дьявол? Живя на заработанные, а не на полученные в наследство деньги, зная, что, кроме побрякушек, дома и обстановки (хотя уже одно это могло бы осчастливить два десятка супружеских пар, которые из кожи вон лезут, чтобы заплатить по чекам за свои двухкомнатные квартиры), не много останется от огромного состояния, сколоченного в начале столетия благодаря спекуляциям банкира Плювиньека… я начинаю все же досадовать, сознавая, что в конце концов играю дурацкую роль во всех этих спорах и что, если у него, у брата, десять детей и это в какой-то мере извиняет его грабеж, то и у меня тоже четыре рта.
— Компаньонка поехала прямо к нотариусу предупредить его о том, что происходит, — заметила бретонка. И, глядя на разбросанные по полу клочки бумаги, добавила: — Знаете, у них есть еще другой экземпляр завещания, у нотариуса.
* * *
Но нам уже не остановить мамашу, которая словно сорвалась с цепи. Она шарит в комоде, потом в шифоньере. Находит забытый медальон, сует его в карман, находит камею и пихает ее туда же, находит золотую коробочку для пилюль и ее тоже сует в карман, приговаривая:
— Раз уж он захапал все, мы будем просто дураками, если не соберем хотя бы последние крохи!
Нет никакой надежды на то, что мы зайдем на кухню перекусить. Она будет таскать нас за собой из комнаты в комнату, она будет хватать своей крючковатой рукой все, что попадет на глаза, и, не переставая, возмущаться подлой неблагодарностью человеческого рода. Она охрипла от крика. Пусть даже все это сплошное притворство, она не перестает повторять, что у нее ничего не останется на память о ее отце: ни единой его вещицы, ни портрета, а ведь точно в таком же положении по ее вине оказался и я, но она, и глазом не моргнув, изливает мне свои обиды. Она вне себя от бешенства, ее злит не столько то, что ее обобрали, сколько то, что ее одурачили. Она хватается за какую-нибудь безделушку, потом бросает ее, переворачивает все вокруг, и, глядя на нее, становится ясно, что хотя, при ее алчности, ей и очень тяжело отказаться от мысли завладеть желаемым, но всего непереносимее для нее — утрата своей власти.
Самой невероятной будет финальная сцена. В два часа позвонит нотариус. Услышав в трубке мой голос, он выразит удивление и в то же время радость, что в этих прискорбных обстоятельствах я нахожусь рядом с мадам Резо, которую постигло такое несчастье, и вежливо попросит меня сообщить своей клиентке и другу, если ей это неизвестно, что дом завещан ее сыну Марселю. В три часа мы все вернемся в спальню, чтобы присутствовать при положении во гроб, затем гроб снесут вниз и поставят в передней у подножия серебряного распятия, поблескивающего в сумеречном свете четырех канделябров. В четыре часа над нами наконец смилуются, дадут чаю с сухим печеньем, а затем возобновятся поиски, и тут мы обнаружим стенной шкаф, набитый облигациями русского займа, по ценности равными стоимости бумаги, на которой они напечатаны, хотя на всех шестистах облигациях и раскинули крылья шестьсот двуглавых императорских орлов. Наконец, около пяти, снова раздастся телефонный звонок: Марсель позвонит из Тринидада; он примет меня за служащего похоронного бюро, сообщит, что завтра прибудет на самолете, и попросит передать всем в доме, чтобы до его приезда никто не смел ни к чему прикасаться.
Охваченная новым приступом злобы, матушка кидается на столовое серебро и, как попало, швыряет его в чемодан. Потом хлопает себя по лбу с возгласом: «А кружева-то!», протискивается позади гроба, наполовину загораживающего дверь в гостиную, и хватает там бретонские кружева и ирландские кружева — как считают, просто чудо.
А мы дожидаемся в передней. Мы сыты всем этим по горло. Нам хочется домой. Бертиль, убедившись наконец в моей правоте, хрустит пальцами… Но вот мадам Резо возвращается с тюком, второпях завязанным в какую-то занавеску. Тюк такой огромный, что она не может его пронести. Она вытягивает шею. В раздражении щелкает языком.
— Отодвиньте же крест! — кричит она. — Он мешает…
И так как, пораженные, мы не трогаемся с места, она вздымает свой тюк на вытянутой руке и перебрасывает его через гроб к нашим ногам.
Произведения
Критика