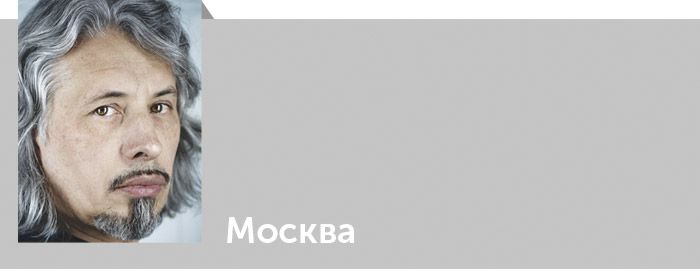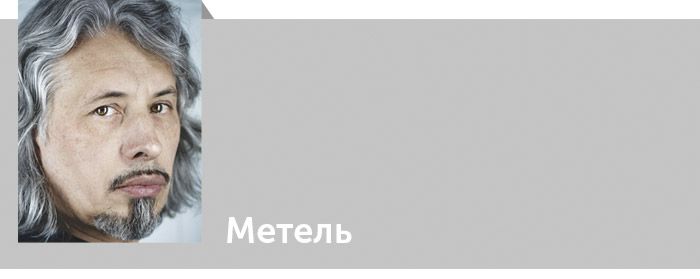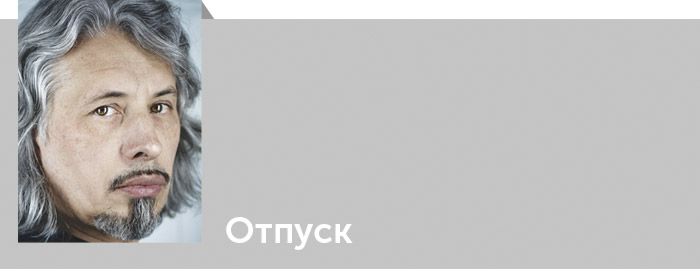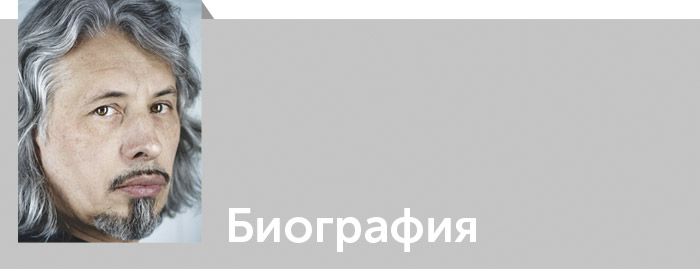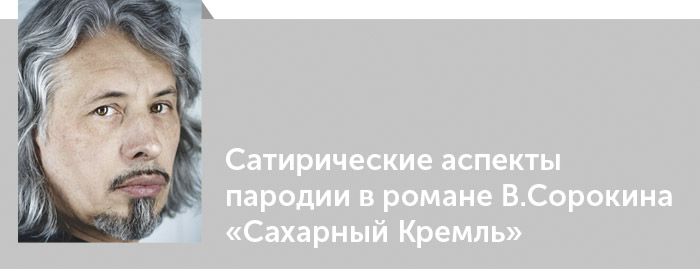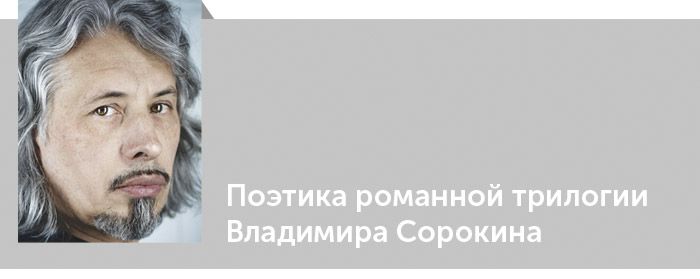Историзм, метафизика, персонология в неклассической эпопее В. Сорокина «Теллурия»

УДК 821.161.1 — 1Сорокин
П. Н. Бабай
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
В статье обозреваются темпоральные модели художественной системы В. Сорокина 2000-х – 2010-х годов. Роман «Теллурия» в этом контексте анализируется с точки зрения эпопейной поэтики неклассического типа. Эпическая структура нарратива взаимодействует с медиальним проектом автора, который интегрирует в романное повествование дополнительные проекции метаэстетической рефлексии. Центральный в романе образ-символ теллурового гвоздя выступает художественным адекватом гибридной структуре эпопейного повествования и интермедиального проекта.
Ключевые слова: историзм, эпопейность, концепция времени, метафизика, персонология, образсимвол.
Бабай П. М. Історизм, метафізика, персонологія у некласичній епопеї В. Сорокіна «Телурія». В статті розглядаються темпоральні моделі художньої системи Володимира Сорокіна 2000-х – 2010-х років. Роман «Теллурія» в цьому контексті проаналізовано з точки зору епопейної поетики некласичного типу. Епічна структура наративу взаємодіє із медійним проектом автора, що інтегрує до романної оповіді додаткові проекції метаестетичної рефлексії. Центральний в романі образ-символ телурового гвіздка своєю антиномічністю постає художньо відповідним до гібридної структури епопейної оповіді та інтермедіального проекту.
Ключові слова: історизм, епопейність, концеція часу, метафізика, персонологія, образ-символ.
Babay P. N. Historicism, metaphysics, personology in non-classical epic “Telluria” by V. Sorokin. The article surveyed the temporal pattern of Sorokin’s art system in 2000s - 2010s. The novel “Telluria” in this context is analyzed in terms of the type of non-classical epic poetics. Epic narrative structure interacts with the medial author's project, which integrates to novelistic narrative additional projection of metha-aesthetic reflection. Central to the novel image-symbol of tellurium nail appears as the art adequate to hybrid structure of epic narrative and intermedia project.
Keywords: historicism, epics, concept of time, metaphysics, personology, image-symbol.
Вопрос о специфике сорокинского историзма и авторских концепций исторического времени особенно актуализировался применительно к сравнительно недавним текстам автора – 2000-х и 2010-х годов, – прежде всего, ледовой трилогии, «Дню опричника»-«Сахарному кремлю» и «Метели». 4
Мотивации и целеполагание исторического компонента в сорокинском творчестве толковались исследователями в постсоветском контексте модернизационной проблематики, актуальных перипетий национальной идентификации, альтернативно-исторических художественных концепций [1; 4; 5].
При всей многовекторности апелляций историцистских опытов Сорокина – от злободневно публицистических аллюзий до трансисторических мифологем национального бессознательного, – можно выделить несколько моделей околоисторического нарратива и хронотопа в текстах, предшествовавших «Теллурии» и создавших необходимый фундамент для эпопейного проекта.
В Трилогии писатель пролагает напряжение мифогенного времени между первособытиями ошибочного творения Земли лучами божественного света, спасительным падением тунгусского льда и, с другой стороны, окончательного события преображения, пресекающего всякую историю. Темпорально протяженный, но семиотически интенсифицированный обнаженной провиденциальностью нарратив от первособытий к концу истории налагает довольно жесткую мотивационную печать на маневры автора с версиями альтернативных исторических сценариев и перипетий. Это позволило А. Эткинду назвать такой тип историзма магическим и рассматривать его в контексте альтернативного исторического семиозиса В. Шарова или В. Пелевина [5].
В «Дне опричника», а также в более чистом виде, без публицистических апелляций, – в «Метели» мы сталкиваемся с иным вариантом квазиисторического / метаисторического образа времени, консервирующим в неизменности воспроизведений типологический набор примет и атрибутов русского исторического прошлого – баре и холопы, монархия-самодержавие, опричники, ямщицкие тракты со станционными смотрителями и перекладными лошадьми, снежные бескрайние поля с потерянными вешками, бесовским нескончаемым круженьем метели и проч. и проч. – спрессованные в «Метели» как интертекстуальная квинтэссенция классической русской литературы. Однако это прошлое становится единственной и самоценной реальностью, поглощая и вытесняя настоящее. Самые футуристические технические новинки, разбросанные по такому архаическому ландшафту, не затрагивают его неизменной сущности. Именно эту реальность называет Сорокин подлинной русской метафизикой. В этой картине мира нет места настоящему и будущему, все подчинено дурной бесконечности вечно длящегося прошлого в возвратно-круговом движении метели, застилающей горизонт и сбивающей с пути [4].
И только в Теллурии, благодаря особому статусу центрального и фонового события катастрофы, происходит прорыв к обновленно классическому для европейского Модерна переживанию времени как динамически векторной истории – мир разделился на бывший, прошедший, насущное настоящее посткатастрофической ситуации, требующей выбора, переоценки ценностей, и зависящий от этого выбора мир будущего. Масштабность катастрофизма перипетий, его сюжетообразующий потенциал, этический градус аксиологических контроверз, сомасштабирование «большого мира» геополитических дискурсов, идеологических сверхнарративов и частной индивидуальной судьбы, персонологической проблематики, – все это в совокупности определяет историзм Теллурии, реализующийся в классически узнаваемом широком русле эпопейности.
Согласно трактовке Д. Гачева, «эпопейное миросозерцание есть мышление о бытии в самом крупном плане, по самому большому счету и через самые коренные ценности. И до сих пор нам известна лишь одна из таких всемирноисторических ситуаций, а именно: перекресток непосредственного и отчужденного общежитий — народа и государства — как двух основных способов объединения людей» [3 :75].
В Теллурии такие «перекрестки непосредственного и отчужденного бытия», вполне в духе «толстовской» эпопейности, т.е. при всей распахнутости в необозримые сферы историософских конфликтов и геополитических перипетий в конечном счете преломляются персонологически – в индивидуальной судьбе, драме, поиске и выборе.
В качестве примера проследим реализацию одного метафорического мотива в двух соответствующих контекстах – вариации повтора посткатастрофического образа-символа мертвой головы: «Так вот я, my dear Todd, нахожусь сейчас в Москве – бывшей голове великанши. … Вообрази, что ты, заброшенный провидением на остров великанов, застигнут непогодой и вынужден переночевать в черепе давно усопшего гиганта. Промокший и продрогший, ты забираешься в него через глазницу и засыпаешь под костяным куполом. Легко представить, что сон твой будет наполнен необычными сновидениями не без героического (или ипохондрического) гигантизма. Собственно, Москва – это и есть череп империи русских, а странная странность ее заключена в тех самых призраках прошлого, кои мы именуем “имперскими снами”» [6:16-17].
Посткатастрофический символ мертвой головы, наполненной имперскими снами, трансформируется затем в вареную и поедаемую зооморфами голову павшего воина, в которой Роман и Фома обнаруживают свинцовую пулю и теллуровый гвоздь – встречу двух противоположных стихий: «В голове этого воина встретились два металла – благородный и неблагородный. И голова не перенесла их столкновения. Алхимического брака двух начал не получилось. Это трагедия. Причем трагедия высокая. Получается, что главная битва произошла не под Бугульмой, а в голове этого неизвестного героя» [6:221].
Эпопейные перекрестки непосредственного и отчужденного сосредоточиваются в сорокинской формуле поиска «человеческого размера», концептообразующим рефреном проходящей через весь роман. Вот как, например, характеризуется через призму этого концепта новый послевоенный облик мира бригадиром плотников (своего рода теллурийных волхвов): «Взгляните на наш евроазиатский континент: после краха идеологических, геополитических и технологических утопий он погрузился наконец в благословенное просвещенное средневековье. Мир стал человеческого размера. Нации обрели себя. Человек перестал быть суммой технологий. Массовое производство доживает последние годы. Нет двух одинаковых гвоздей, которые мы забиваем в головы человечеству. Люди снова обрели чувство вещи, стали есть здоровую пищу, пересели на лошадей. Генная инженерия помогает человеку почувствовать свой истинный размер. Человек вернул себе веру в трансцендентальное. Вернул чувство времени. Мы больше никуда не торопимся. А главное – мы понимаем, что на земле не может быть технологического рая. И вообще – рая. Земля дана нам как остров преодоления. И каждый выбирает – что преодолевать и как. Сам!» [6: 307].
В контексте императивов выбора и преодоления мотивика «человеческого размера» становится для Сорокина не только составляющей проблематики собственно романа, но гораздо большего интермедиального проекта, частью которого явился сам литературный текст. Процитируем часть из интервью-самоописания этого проекта: « — Я вспомнил недавний перформанс с вашим участием, в Венеции — где вы в звериной шкуре, с дубиной, к которой привязана клавиатура... С кем это вы бились и за что? — Я бился за человеческий размер в искусстве. Против замещения искусства технологией, против "искусства как процесса" и за "искусство как результат". За возвращение к кистям, подрамникам, краскам, мастерству, к озябшей натурщице, к шляпе на мольберте...» <…> «— Как вышло, что после последнего романа, «Теллурии», вы стали писать картины? — Это трудно объяснить. Я давно хотел вернуться к живописи, пришлось ждать почти 35 лет! Так случилось, что для этого вдруг сложились все условия. Почти три года после «Теллурии» я писал только маслом на холсте. — Ваш живописный цикл «Новая антропология» — вы его закончили? — Да, закончил. Это двенадцать картин, как бы написанных двенадцатью зооморфами. Каждая из них в своем стиле: суровый реализм, экспрессионизм, сюрреализм, кубизм, поп-арт» [2].
«Человеческий размер» оказывается здесь не только проблемой мерности для народов, обществ, государств, индивидов в их выборе и борьбе за свою подлинную идентичность в условиях нового мирового ландшафта на руинах старой Евразии.
Историзм эпопейного повествования взаимодействует с метаконтекстом авторской эстетической идентичности, выбором стратегии искусства – между историческими классическими критериями, категориями автора, произведения, оригинала и, с другой стороны, так называемого contemporary art – конгломерата анонимных образов, циркулирующих в медиапространстве и могущих получить теперь новое воплощение только в инсталляции. Причем парадоксально здесь у Сорокина реализованы обе стратегии. Историософский нарратив романа и эстетический метанарратив истории искусства 20 века взаимоналагаются, вступая в метаязыковой диалог, чреватый взаимными диффузиями и гибридизацией.
Так, «человеческий размер» буквализуется в сосуществовании людей маленьких, обычных и больших. Но метафоризируется, когда идет речь о зооморфах, жертвах антропогенетики, мыслящих и чувствующих по-человечески и пытающихся преодолеть в себе животное, культивируя человеческое, в частности, посредством именно искусства. Показателен тут сюжет о полу-псах, полу-людях, философе-посткинике (посткинике в буквальном смысле) Фоме и поэте Романе, бывших крепостных артистах. Беглые странники, они направляются в Теллурию, край свободы, счастья, что для них означает в первую очередь возможность творчества как истинно человеческого самоопределения в контексте новой антропологии – написать нового зооморфного Заратустру – вновь провозгласить преодоление прежнего человеческого образа и провозвестие сверхчеловеческого.
Далее эта тема со-размерности перерастает в радикально поставленную проблему Другого, норм и границ инаковости, – не только между разными людьми, людьми и животными, но и между живым и неживым границы все больше дезавуируются (вспомним трансгенные организмы, технически дополненные тела, многочисленные «живые» и «живородящие» предметы-организмы, материалы и вещества («живые шубы», мыслящие и страдающие фаллоимитаторы и т.п.)).
Однако, в известном смысле, это те самые зооморфы, что исполняли разностилевые полотна в живописной части интермедиального проекта, обеспечивая необходимо остраненную для инсталляции позицию вчуже. В известном же смысле они являются наследниками клонов, изготовлявщих тексты в «Голубом сале» и «Детях Розенталя».
Так что эпопейный конфликт отчужденного и непосредственного бытия, колеблясь в метаязыковых реализациях, диффузно проницает и нарратив романа, и метаэстетическую его рамку. Сюжетными эквивалентами выбора между непосредственностью письма, «холстом, красками, озябшей натурщицей» и опосредованности инсталляции, между оригиналом и копией, видятся различные стратегии выбора идентичности в посткатастрофическом мире «Теллурии». Иные их них ищут преодоления прежней мерности и сомасштабности в поиске подлинного «человеческого размера» или в индивидуалистическом произволе, эскапизме, иные – уповают на искусственную реинкарнацию и стилизованную реконструкцию форм прошлого. Например, восстановление сословий, феодальномонархических институций в новом средневековье или упование на пуристически канонизированный спасительный образ родного языка в Рязанском царстве и пр. и пр.
Особо концептуальны образцы и чисто эстетических реконструкций, как, например, в эпизоде 32. Богема в Петербурге 21 века реинкарнирует богему Христиании 19 века, пересуществляя своими телами картину Мунка. Рефреном, предваряющим расстановку персонажей, раздается требовательная жажда оригинала. В намерении, в проекте они воскрешают оригинал как классическую эстетическую ценность, реанимируют подлинник как фундаментальную категорию творчества. Тем более ревностно сопоставляют результат с оригиналом и убеждают себя в тождественности, эквивалентности той Христиании и этого Петербурга в магическом акте репрезентации. Уверяются в способности инсталлировать новый оригинал, самооправдаться в воплощении и творении. Успех этого предприятия, однако, остается сомнительным. Все завершается ликующей оргией, и только автора этой инсталляции мы застаем застывшим в недоумении и сомнении:
«Группа распалась. Только несчастный Пятнышко никак не желал расставаться с воплощением. Он все сидел и сидел, втянув голову в плечи и напряженно глядя куда-то в угол, словно там, среди паутины и смятых тюбиков из-под краски, треснула-разошлась черная щель и дохнула на него небытийной пустотой, а может – образами новых, прекрасных миров. <…> И только Пятнышко все сидел и сидел в прежней неудобной позе, втянув голову в плечи и немигающе уставясь в темный угол. По небритым щекам его катились слезы. Что же увидел он в темном углу? Похоже, он и сам еще не знал этого» [6:336-338].
Наконец, основные контроверзы метафизики, эстетики и персонологии в романе совокуплены в заглавном, цементирующем все фрагментарное повествование, образе-символе теллура, теллурового гвоздя.
Само использование теллура представлено в романе крайне метафизичным и онтологичным своей пороговой непредсказуемостью – человека ждет или полнота существования, актуальная бесконечность, второе рождение, освобождающее от препон конечного мира, или мучительная смерть и позорное фиаско всех упований. При всей абсолютной свободе ты вручаешь себя в руки провиденциальному выбору, вне твоей воли свершающемуся. В этом риске заключена весьма интенсивная диалектика какого-то кенозиса антроподицеи – и полновластного утверждения личности, и предельного ее самоумаления. Особая роль теллура – не в ряду наркотических подпорок и суррогатов взыскующего трансценденции человечества (каких множество уже было исследовано Сорокиным в предшествующих текстах), а в гармонизации желания и разума, в священном обретении себя в подлинной своей мере, опять-таки своем размере: «Но теллур… божественный теллур дает не эйфорию, не спазм удовольствия, не кайф и не банальный радужный торч. Теллур дарует вам целый мир. Основательный, правдоподобный, живой. И я оказался в мире, о котором грезил с раннего детства. Я стал одним из учеников Господа нашего Иисуса Христа» [6:439]. Однако же теллуровым гвоздем и натуралистически буквально убивают как орудием мести и расплаты, вколачивая его в лоб мошеннику (эпизод 18) Смертью символически буквальной теллур в голове может обернуться вместо легкомысленного путешествия в реконструируемое тоталитарное прошлое и материализовать невоображаемую встречу с тиранами этого прошлого (эпизод 48).
Помимо прочих коннотаций это еще и метафорический образ искусства: металлический гвоздь, вколачиваемый в голову, является посорокински одновременно и брутально натуралистическим, и безгранично метафизическим образом-символом. Как и само искусство, это и жестко регламентированный ритуал, и маргинальный произвол, абсолютная свобода через абсолютное самоограничение.
Подытоживая сказанное, можно заключить, что сорокинская «Теллурия», во-первых, дает повод для очередного осмысления характерного явления современной культуры (и литературы, в частности) – художественного мышления по преимуществу целыми проектами, многомерными интенционально и медиальными контекстуальнофункционально, – а не дискретными текстами, сколь бы обширным ни был их содержательный потенциал; поэтому, во-вторых, эпопейная проблематика романа актуально сопрягается с авторской рефлексией над коренными эстетическими проблемами современности (и в личном аспекте, и в типологическом); и далее, втретьих, этот эффект умножает интерпретационную контекстуальность, провоцируя разносценарность прочтений, сохраняя, скажем, правомерность трактовки «Теллурии» в фокусе эпопейного историзма как современной модификации классического романа-эпопеи и настойчиво, однако, предоставляя текстуальные валентности и симптомы, инспирирующие дополнительные «неклассические» конструктивные перспективы.
Литература
1. Абашева М. П. Сорокин нулевых: в пространстве мифов о национальной идентичности / Марина Петровна Абашева // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. – Вып. 1 (17). – Пермь: Издательский центр ПГНИУ, 2012. – С. 202-209.
2. Владимир Сорокин: «Постсоветский гротеск уже стал сильнее литературы [Электронный ресурс].
3. Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. — 2-е изд. / Послесловие В. А. Недзвецкого / Г. Д. Гачев. — М.: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во “Флинта”, 2008. — 288 с.
4. Липовецкий М. Метель в ретробудущем: Сорокин о модернизации [Электронный ресурс] / Марк Липовецкий.
5. Липовецкий М., Эткинд А. Возвращение тритона: Советская катастрофа и постсоветский роман / Марк Липовецкий, Александр Эткинд // Новое лит. обозрение. – 2008. – №94. – С.174-196.
6. Сорокин В. Теллурия / Владимир Сорокин. – М.: Corpus, 2013. – 448 c.