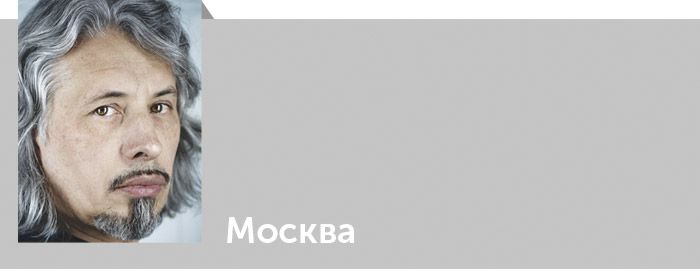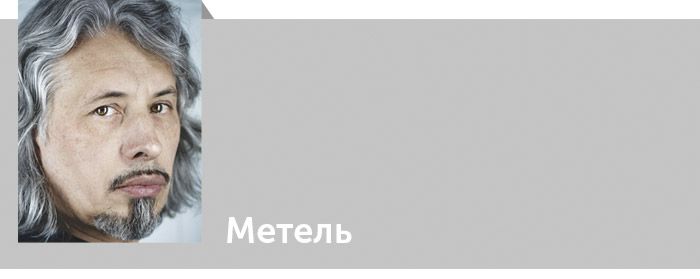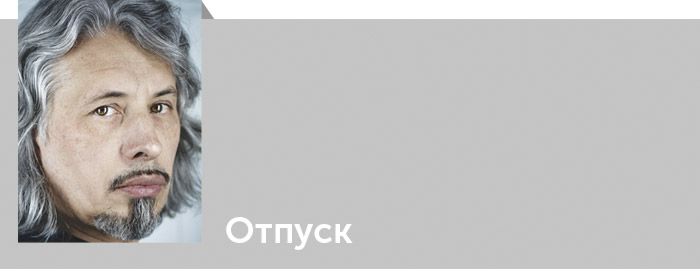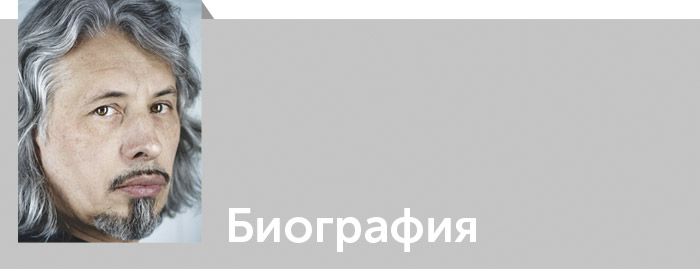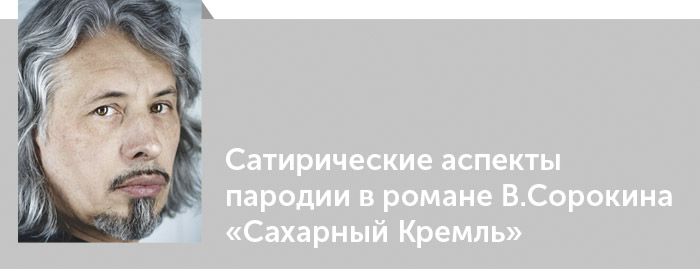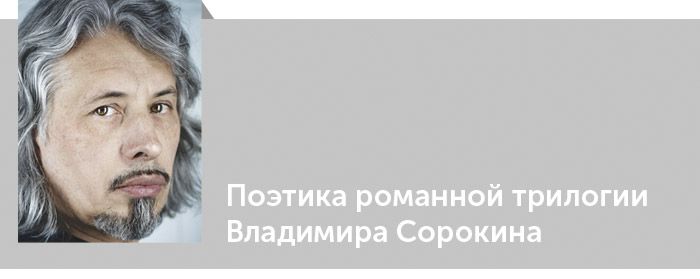Путешествие в будущее с «Сахарным кремлём» Владимира Сорокина

УДК 821. 161
Т. Г. Мищенко[1]
Одесса
Досліджуються жанрові особливості твору В. Сорокіна «Сахарный Кремль».
Ключові слова: жанрові особливості, стильові імітації.
Исследуются жанровые особенности произведения В. Сорокина «Сахарный Кремль».
Ключевые слова: жанровые особенности, стилевые имитации.
The genre peculiarities of V. Sorokin’s work ″Saharny Kremlin″ are under the view.
Key words: genre peculiarities, style imitations.
Исследователи творчества Владимира Сорокина уже неоднократно после опубликования «Трилогии» (романы «Лед», «Путь Бро», «23000») указывали на начало нового периода в творчестве писателя, долг ое время считавшегося хрестоматийным образцом соц-арта. О. В. Богданова пишет: «Действительно, «привыкшим» к стилевым имитациям и константным приемам Сорокина критикам, показалось необычайным строгое сюжетное повествование, в котором, к тому же, отчетливо просматривалась авторская идея («смысл»), чего были осознанно и намеренно лишены его предшествующие концептуальные тексты» [3, c. 424], В. А. Гусев также обращает внимание на то, что «читатели и критики обнаруживают в романе В. Сорокина «Лёд» (2001) некоторую определенную утопическую идею, которая организует весь его текст» [4, c. 152].
Роман «Лёд» по его мнению «выглядит как антитеза для ставшей уже привычной поэтики постмодернистского текста» [4, c. 157]. Еще более смелое предположение о новом статусе сорокинской прозы высказывает в рецензии на «Сахарный Кремль» В. Иванченко: «После поворотной для своего творчества «ледяной трилогии» писатель Владимир Георгиевич Сорокин вовсе покончил со всяческим литературным модернизмом, постмодернизмом, концептуализмом, придя к простому, кондовому, гордому реализму. То, что прежде было (по меткому выражению критика Курицына) «инфинитивом дискурсивности», стало прямым нарративом. Но скудная, видимая за окнами реальность не удовлетворяла писателя, и он, по примеру ремесленниковфантастов, нашел ей альтернативу. Сорокин создал мир Утопии – идеальной России, какой она должна быть без всяких инородных влияний» [5].
В монографии «Утопическая парадигма художественного мышления переходной культурной эпохи (на материале русской прозы рубежа ХХ – ХХI вв.» С. В. Бесчётникова подробно рассматривает опубликованный в 2006 году роман Владимира Сорокина «День опричника» как социальную антиутопию в культурной ситуации постмодернизма в форме романа – аттракциона. Логическим продолжением этого романа, является анализируемый нами в данной работе текст.
Приступая к анализу произведения Владимира Сорокина «Сахарный Кремль» (2008), опубликованного и заявленного издательством «Астрель» как роман, необходимо отметить, что его сложно рассматривать в подобном контексте, если придерживаться традиционного определения, что роман, с точки зрения жанровой принадлежности, – «тип литературного произведения, обычно прозаического, с разветвленным сюжетом … история всей жизни героя и связанных с ним персонажей» [2, c. 372]. Анализируемый же нами текст состоит из пятнадцати самостоятельных рассказов, которые не связаны между собой ни сюжетом, ни персонажами. Но даже на первый взгляд понятно, что объединяет их, помимо времени и пространства, упоминание в каждом рассказе Сахарного Кремля, преимущественно в виде главного лакомства всех без исключения персонажей.
На наш взгляд, анализ концепта «Сахарный Кремль» в контексте данного произведения требует отдельного и более всестороннего исследования. А если принять во внимание, что Кремль в сознании современного человека, живущего на постсоветском пространстве, является едва ли не главным символом государственности и власти многонациональной России, то читателя, по меньшей мере, не может не удивить употребление в сочетании с ним прилагательного «сахарный». Сладкий символ власти – это уже само по себе подразумевает карнавал. В нашем случае было бы уместнее говорить о лубке (сочетании изображения и слова), поскольку стилистические особенности текста неоднократно вызывают у нас прямые ассоциации с этим зрелищным народным искусством. По мнению В. Иванченко Россия в прозе Сорокина «еще страннее, чем настоящая, но ее доведенная до предела несуразность уже не кажется безобразной – она даже красива в своем ласковом зверстве. «День опричника» был только вступлением в жутковатый лубок России конца две тысячи двадцатых. «Сахарный Кремль» – это панорамный взгляд на окукливающуюся страну» [5].
Уже сами названия рассказов подразумевают не только описание, но и зрелище с комментариями раешника, демонстрирующего космораму: «Калики», «Кочерга», «Харчевание», «Петрушка», «Кабак», «Очередь». Ведь существовал в России в первой половине 19 века жанр лубочной книжки, который позже преобразился в космораму. «В космораме это был уже не развернутый рассказ, как в повествовательном лубке и в лубочных книжках, а монтаж из отдельных картинок. Лубочная книжка дала в дальнейшем ленту сюжетного фильма, косморама – кинохронику» [10, с. 57]. К тому же, нельзя забывать о том, что интерпретация, имеющая огромное значение для понимания анализируемого текста – неотъемлемая сторона народного восприятия лубочных картинок. «Текст начинает игру с изображением, лубок начинает игру со зрителем» [12], в нашем случае с читателем.
В традициях этого жанра превращать реальное лицо или литературного героя в лубочную маску, иногда измененную до неузнаваемости, и возвращать в жизнь, на суд зрителя. Действительно, кого только не встретишь в питейном доме «Счастливая Московия» из рассказа «Кабак»: «бьют друг друга воблой по лбу двое дутиков, Зюга и Жиря, шелестит картами краплеными околоточный Грызло, цедят квасок с газом цирковые, разгибатель подков Медведко и темный фокусник Пу И Тин, хохочет утробно круглый дворник Лужковец, грустно кивает головою сладенький грустеня Гришка Вец» [13, c. 188]. Любят здесь и семейство балалаечников Мухалко. «Шустрые это ребята, оборотистые, веселить и деньги выжимать умеют. Говорят когда-то в шутах кремлевских ходили, но потом их за что-то оттуда опендалили. Запевала у них по кличке Масляный Ус, хорошо и поет и играет, и в присядку ходит, но главное – у него всегда песни задушевные и глаза на мокром месте. А народ наш и, песню и слезу уважает» [13, c. 189]. А уж когда из «злобного» угла хор земщины, подкопченной опричниками грянул романс:
Мохнатый хам – в протестанский храм,
Крыса серая – в закрома,
А дворянская дочь – под опричных в ночь
По закону большого ума…[13, с. 189-190], надо полагать, что и самый недогадливый читатель узнал истинных носителей масок, каковых в тексте гораздо больше, чем мы упомянули.
Возможно, что именно в поиске интерпретаций автор затевает с читателем эту своеобразную «игру в путешествие». Ведь давно уже не нова мысль о том, что путешествие в мировой литературе всегда было для человека одним из основных способов отражения процесса познания мира и самопознания. Вторым эпиграфом к тексту автор взял цитату из книги французского литератора маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году»: «Но сколько произвола таится в этой тишине, которая меня так влечет и завораживает! Сколько насилия! Сколь обманчив этот покой!» [13, c. 7]. Интересно отметить тот факт, что выпущенное в мае 1843 года во Франции повествование о путешествии, совершенном автором летом 1839 года, было немедленно запрещено в России. Символично уже то, что такая емкая и недвусмысленная цитата из произведения первой половины 19 столетия, написанного французом, предваряет путешествие российского читателя 21 века в недалекое будущее.
С точки зрения социальной мифологии «Сахарный Кремль», на наш взгляд, можно трактовать как роман – ухронию. «Ухрония» (uchronia; греч. u – не, нет + chronos, время) – безвременье, вневременье, прекращение времени; тип общества, политического режима или ситуации, в которых фактор времени, исторического изменения сведен на нет» [16], поскольку, анализируемое нами путешествие в будущее – всего лишь перемещение во время, которого на самом деле нет, место же – Россия – вполне конкретное государство, без вымысла и фантазий. Ольга Чигиринская отмечает: «Если в утопии описывается некое условно-современное автору и читателю невозможное место, то в ухронии стержнем хронотопа делается невозможное время. В каком-то смысле ухронию можно считать подвидом утопии, в котором время становится местом. Ранние ухронии 19-го века по сути дела отличались от утопий только этим. Вся их содержательная часть сводилась, по сути дела, к описанию быта и нравов далеких потомков.
Не претендуя на какую-либо художественность, видя в своих книгах прежде всего просветительскую и прогностическую ценность, авторы ухроний стали вдохновителями многих социальных преобразователей 19-20 веков» [14] Даже на самый беглый взгляд, несложно догадаться, что содержательная часть анализируемого текста самым подробным образом описывает быт и нравы потомков: «2028 год, в России монархия. В Кремле Государь с Государыней и детьми». «Государев отец Кремль побелить приказал, а мавзолей со смутьяном снести» [13, с. 18]; на Красной площади сожгли русские люди свои заграничные паспорта; много нищих погорельцев попрошайничают в Москве и в Подмосковье; блаженный Амоня Киевогородский за щедрую милостыню малые и большие беды москвичам возвещает; камеры на Лубянке переполнены «внутренним врагом»; опричников награждают золотыми знаками «370 лет Российскому Тайному Приказу»; до завершения строительства Великой Русской Стены осталось положить 62 876 543 кирпича. Повсеместно применяются на Руси телесные наказания, как для нерадивых строителей Стены в восточной Сибири, так и для любимых жен розга субботняя, «как по «Домострою» уложено» [13, c. 202]; строжайшей цензуре подвергаются не только пресса и литература, но и личная переписка россиян (рассказ «Письмо»); городской люд в кабаках развлекается, в аптеках торгуют кокаином, в быту именуемым «кокошей», чтобы мог простой человек возрадоваться после трудов праведных…
Из первого рассказа, под названием «Марфушина радость», мы узнаем, что в шесть часов вечера, в последний день Рождества соберутся на Красной площади дети (взрослым не положено), и лик Государя на зимних облаках поздравит их с Рождеством Христовым. «Вдруг, как по щучьему веленью, сквозь облака, сквозь лицо государя тысячи шариков красных вниз опускаются и к каждому шарику коробочка блестящая привязана. Ловят дети коробочки, ... а в коробочке той – сахарный Кремль! Точное подобие Кремля белокаменного! С башнями, с соборами, с колокольней Ивана Великого. Прижимает Марфуша Кремль к губам, целует, лижет его языком на ходу…» [13, с. 43-44].
Такая у Марфуши простая радость. На наш взгляд автор намеренно наблюдает и описывает первые впечатления от будущего с точки зрения ребенка, ведь тоталитарное сознание, которое позволяет человеку не замечать очевидного и верить в сверхъестественное, действительно напоминает собой сознание ребенка. Тем более, что способность русского человека ощущать себя ребенком до глубокой старости давно подмечена классиками литературы, так, например, об этом писал Виктор Астафьев: «Все мы, русские люди, до старости остаемся ребятишками, вечно ждем подарков, сказочек, чего-то необыкновенного, согревающего, даже прожигающего душу, покрытую окалиной грубости, но в середке незащищенную» [11, c. 56]. «Однако сводить тоталитарное сознание к отставанию и инфантилизму было бы упрощением. Центральной характеристикой тоталитарного сознания есть вера в простоту мира, т. е., любое явление может быть сведено к тому, что легко описывается, наглядному сочетанию нескольких первичных феноменов.
В психологии личности существует понятие когнитивной комплексности. Это мера той системы координат, в которой человек описывает для себя других людей и все, что его окружает. Чем больше осей в этой системе, тем более сложную, взаимоисключающую (а значит, более реалистичную) картину мира способен отобразить субъект. Простая, одно-, двухмерная модель мира приводит к тому, что случайные и многозначные связи между явлениями помимо воли закрепляются и только один вариант их оглашается верным… Вера в простой мир ответственна за принятие катастрофических по своим результатам управленческих решений. Носители этой веры не способны увидеть явление в единстве его позитивных (например, полезных для людей) и негативных черт и тяготеют к одномерным оценкам, которые далеко не всегда уместны. Если что-то плохо, то оно плохо для всех, если же хорошо-то тоже всем. А соответственно, любое социальное явление или природный феномен должны быть объектом общей поддержки или бескомпромиссной борьбы.
Если мир прост, то действия, направленные на его улучшение, должны быть тоже простыми, если не технически, то по идее. Из всех возможных решений тоталитарная власть с завидным постоянством выбирает наихудшее. Здесь, конечно, нет злого умысла – критерием отбора, наряду с намерением еще раз подтвердить величие власти, была ориентация на простой вариант, который не превышал по степени сложности сложность картины мира тех, кто принимает решение» [17, с. 366-367].
Будущий мир по Сорокину прост для всех его персонажей от мала до велика и, конечно, без злого умысла. Достаточно вспомнить эпизод из рассказа «Кочерга». Следователь Севастьянов допрашивает подозреваемого в написании крамольной сказки Смирнова, где последний затрудняется объяснить причину весьма возросшего количества преступников в тюрьме. А причина проста, о чем и подследственный, и читатель немедленно узнают из обращения государя к своему народу, материализовавшегося в камере в виде голограммы: «Едва вынырнула Россия из омута Смуты Красной, едва восстала из тумана Смуты Белой, едва поднялась с колен, отгораживаясь от чужеродного извне, от бесовского изнутри, – так и полезли на Россию враги Родины нашей, внешние и внутренние. Ибо великая идея порождает и великое сопротивление ей. И ежели внешним врагам уготовано в бессильной злобе грызть гранит Великой Русской Стены, то внутренние враги России изливают свой яд тайно» [13, с. 7677].
А чтобы понятно стало подследственному причину своего ареста, следователь объяснил совсем уже просто, перед тем как применять раскаленную кочергу: «– Ты, Андрей Андреевич, человек православный и образованный. Понимать ты должен: каждый из нас за все ответственен. И за дела, и за слова. Ибо каждое дело на слово опирается. Там, где слово, там и дело» [13, c. 94]. Все просто: если ты не друг России, то значит ты ее враг, а уж следователь с Лубянки непременно разберется, кто из них кто, ибо для этого и поставлен. Его не запутаешь, он знает, что на вопрос: «– Вы друг России или враг?» есть только два варианта ответа, а ответ Смирнова: «– Я гражданин России. Верноподданный государя», раздражает его и только еще больше настораживает: «– …Все мы граждане России. Убийца – тоже гражданин России. И вредитель – тоже гражданин России» [13, c. 77].
Даже в лавке, куда Марфуша послушно отправилась по просьбе бабушки все устроено просто, разумно и без затей. Все товары, разрешенные к продаже предлагаются в ассортименте, по два варианта, незачем русскому человеку путаться во множествах, куда проще из двух выбрать: «мясо с косточками и без, утки и куры, колбаса вареная и копченая, молоко цельное и кислое, масло коровье и постное, конфеты „Мишка косолапый“ и „Мишка на севере“, а еще водка ржаная и пшеничная, сигареты „Родина“ и папиросы „Россия“, повидло сливовое и яблочное, пряники мятные и простые, сухари с изюмом и без, сахар- песок и кусковой, крупа пшеничная и гречневая, хлеб белый и черный» [13, с. 23-24]. Ну, и как водится, в очереди придется постоять, человек тридцать всего…
В связи с упоминанием в тексте знакового понятия «очередь», позволим себе сделать отступление, чтобы обратить внимание на особенности хронотопа данного произведения, поскольку «Очередь» – это еще и название восьмого рассказа «Сахарного Кремля», прибегнув к терминологии Михаила Эпштейна, который трансформировал это понятие в топохрон (topochron; греч. topos, место + chronos, время) – пространственно-временной континуум, культурноисторическая среда, в которой пространству принадлежит более важная роль, чем времени.
Михаил Бахтин ввел понятие «хронотоп» — время-пространство в их единстве. Заметим, что термин строится именно в таком порядке: «хроно-топ»? Если мотивировать его приоритетом времени в определенных структурах, то следует допустить и обратный порядок, где пространство доминирует над временем, – «топохрон». Пытаясь применить понятие «хронотопа» к российско-советской цивилизации, обнаруживаешь любопытную закономерность: хронос в ней вытесняется и поглощается топосом. Хронос стремится к нулю, к внезапности чуда, к мгновенности революционного или эсхатологического преображения. А топос, соответственно, стремится к бесконечности, к охвату огромной страны, континента, а далее и всего мира. Хронотоп здесь переворачивается в топохрон, время опространствлено.
Очередь – один из самых характерных советских топохронов. Много времени тратится на преодоление маленького пространства. Пространство возрастает в цене, а время удешевляется, метр приравнивается уже не к секунде (как при обычной ходьбе), а к долгим минутам или часам на пути к сакральному месту изобилия – заветному прилавку, кассе, входу, хранилищу... Время в России вытесняется пространством – физическим и метафизическим. Таков архимедов закон погружения большого географического тела в историческую среду, таково свойство топохронов и топохронной цивилизации. Чем обширнее становилась Россия, тем медленнее текло в ней историческое время – и, наоборот, сокращаясь в пространстве, она убыстрялась во времени...» [16]
Это определение времени очень точно соответствует нашему восприятию данного понятия в анализируемом произведении. В связи с чем, снова хотелось бы обратиться к рецензии Иванченко: «В последних своих книгах Сорокин прямо объясняет все то, о чем всегда догадывался. (И не только он – о том же самом говорит историософия Дмитрия Быкова.) Бытие России есть бытие круговое, замкнутое, возвратно-поступательное, садистское и мазохическое, находящее удовольствие в боли, упрощающееся при первой возможности. Столь честный взгляд на нашу норовящую замкнуться в себе, самодостаточную и самоупоенную страну может вызвать ужас и отвращение, а может послужить поводом для гордости и странного оптимизма. Вот и „День опричника“ вызывал противоположные отклики: и что Сорокин обличает, и что превозносит, и что его Утопия замечательна, и что ужасна. „Сахарный Кремль“ уже ни у кого не вызовет энтузиазма – это хроника угасания, переходящая в конец опричнины» [5].
Действительно, в последнем рассказе «Опала» автор лишает жизни опричника Комягу. Закрыв, на наш взгляд, тем самым тему опричнины, поставив точку в виде пули в его голове. А спасется ли мир любовью, как уверял Комягу в последнем разговоре его же собственный убийца Кирилл Иваныч Кубасов, мы, возможно, узнаем из следующих произведений Владимира Сорокина.
Таким образом, заглянув в будущее общество, автор, попытавшись охватить в своих обобщениях как можно больше его слоев, предлагает читателю самому решить плохо там или хорошо, и в какой степени эти категории вообще уместны применительно к данному тексту. Являясь убежденным противником морализаторства в литературе, Сорокин, пусть и косвенно, в скрытом виде, дает этические оценки описываемому, причем этические принципы его (в отличие от эстетических), на наш взгляд, вполне традиционны. И здесь нельзя не согласиться с мнением П. Е. Спиваковского: «…когда мы натыкаемся в сорокинском тексте на шокирующий образ, это практически всегда означает, что автор осуждает то или иное явление жизни при помощи «нарочито чудовищной» и в то же время причудливо эстетизированной реализованной метафоры. Сорокин никогда не прославляет „ужасное“, но с пристальным вниманием и душевным трепетом вглядывается в него» [9, с. 174].
В интервью корреспонденту «Газеты» Кириллу Решетникову автор не скрывает, что его попытка заглянуть в будущее – это ни что иное, как взгляд на настоящее: «я экспроприировал 2028 год, чтобы поставить там телескоп и взглянуть на современную Россию» [6]. Цель путешествия как раз и заключается в том, чтобы, исследуя общественные процессы, происходящие якобы в ближайшем будущем, осмыслить особенности характера современника, показать как благотворные, так и опасные, с точки зрения автора, тенденции общественного развития, не столько новые, (которых нет в настоящем, и никогда не существовало в прошлом) сколько традиционные, привнесенные в общественный уклад России со времен Ивана Грозного. В момент, когда современное российское общество находится в состоянии переоценки привычных ценностей, поиске т. н. «национальной идеи», вплоть до выбора исторической личности, которая бы наиболее полно такую идею отражала, попытка Владимира Сорокина предупредить о возможных последствиях подобного выбора, выглядит, на наш взгляд, наиболее актуально.
Библиографические ссылки
1. Бесчётникова С. В. Антиутопия в художественной литературе эпохи постмодернизма: [Текст] / С. В. Бесчетникова // Утопическая парадигма художественного мышления переходной культурной эпохи (на материале русской прозы рубежа ХХ – ХХI вв.): Моногр. – Донецк: Лебедь, 2007. – С. 143-244.
2. Борев Ю. В. Эстетика. Теория литературы: Энцикл. словарь терминов: [Текст] / Ю. В. Борев – М.: Астрель; АСТ, 2003. – 575 с.
3. Богданова О. В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60–90-е годы ХХ века – начало ХХI века): [Текст] / О. В. Богданова. – СПб.: Филол. ф-т С.-Петерб. гос. ун-та. 2004. – 716 с.
4. Гусев В. А. Литература в ситуации переходности: Моногр.: [Текст] / В. А. Гусев. – Д.: Изд-во ДНУ, 2007. – 276 с.
5. Иванченко В. Когда кончается газ: [Электронный ресурс] / Валерий Иванченко. – Заголовок с экрана.
6. Интервью Владимира Сорокина с Кириллом Решетниковым: [Электронный ресурс] / Владимир Сорокин, Кирилл Решетников. – Заголовок с экрана.
7. Ковтун Е. Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века: [Текст] / Е. Н. Ковтун. – М: Высш. шк., 2008. – 406 с.
8. Література в контексті культури: Зб. наук. пр.: [Текст]. – Д.: Вид-во ДНУ, 2007. – 356 с.
9. Русская литература ХХ – ХХI веков: проблемы теории и методологии изучения: Матер. Третьей Междунар. науч. конф.: Москва, МГУ, 4-5 декабря 2008 г.: [Текст] / Ред.-сост. С. И. Кормилов. – М.: 2008. – 512 с.
10. Сакович А. Г. Русский настенный лубочный театр XVIII – XIX вв.: [Текст] / А. Г. Сакович // Примитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени. – М.: Наука, 1983. – С. 44–62.
11. Современный роман: Опыт исследования: [Текст]. – М.: Наука, 1990. – 288 с.
12. Соколов Б. М. Художественный язык русского лубка: [Текст] / Б. М. Соколов. – М: РГГУ, 2000. – 264 с.
13. Сорокин В. Сахарный Кремль: роман: [Текст] / Владимир Сорокин. – М.: Астрель: АСТ, 2008. – 349с .
14. Чигиринская О. Фантастика: выбор жанра, выбор хронотопа: докл.: [Электронный ресурс] / Ольга Чигиринская. – Заголовок с экрана.
15. Эпштейн М. Хроноцид: Пролог к воскрешению времени: [Текст] / М. Эпштейн // Октябрь. – 2000. – № 7. – С. 157–171.
16. Эпштейн М. Проективный словарь философии. Новые понятия и термины: [Текст] / М. Эпштейн. // Топос. – №7.
17. Юрій М. Ф. Соціокультурний світ України: Моногр.: [Текст] / М. Ф. Юрій. – К.: Кондор, 2008. – 738 с.
Надійшла до редколегії 23.05.2009.
[1] Т. Г. Мищенко, 2009