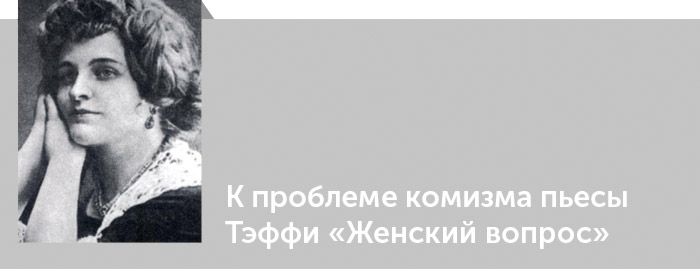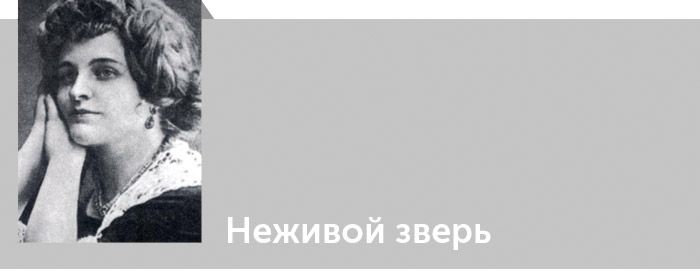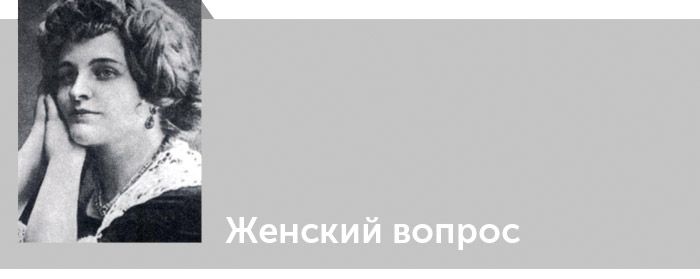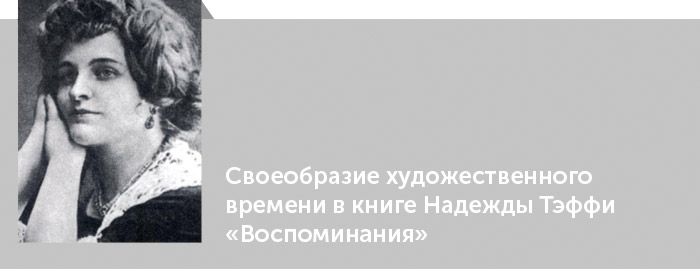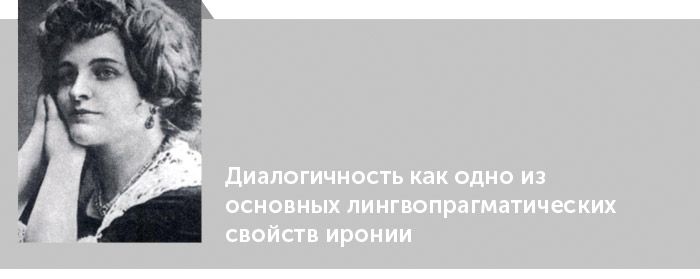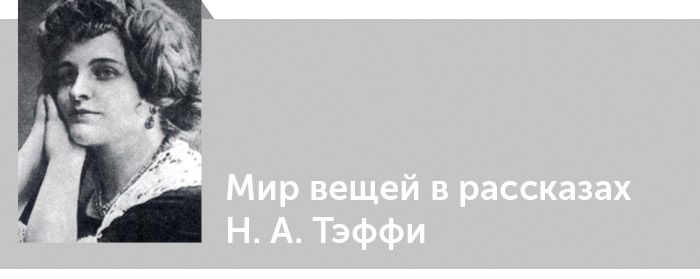Мгновение Транса в раздваивающемся мире. Мистический голос из бездны в воспоминаниях Тэффи

УДК 821.161.1
Дмитрий Бураго
(Киев)
У статті аналізується маловивчений етап духовної біографії Теффі, яка пережила у мить розлуки з вітчизною глибокий приплив релігійного почуття та містичне прозріння. Увага автора сконцентрована на одному з найдивовижніших та хвилюючих епізодів у житті Теффі. Назавжди залишаючи рідну землю, вона прислуховувалась на борту нічного пароплава до віддаленого пасхального благовісту, і раптом у цей дзвін утрутився голос її сестри, яка, як виявиться потім, у цей самий момент умирала в Архангельску.
Цей факт не вписується ані у фізичні закони нашого світу, ані в логіку характеру письменниці. Хоча вона починала свою творчість з містичних нот, життя Теффі складно назвати зразковим із християнської точки зору. З нею пов’язані уявлення про «королеву російського сміху», про «демонічну жінку» і т. ін. Але в пізніх мемуарах чітко вимальовується і любов до православного християнства.
І ось у момент прощання з батьківщиною в душі письменниці, яка забирала із собою сувенір з Києво‐Печерської лаври, яскраво спалахнула іскра таємничого профетичного прозріння. І хоча на берегах Сени Теффі знову входить у звичайний психологічний стан «світської левиці», вона грішить цікавістю до окультизму і т. ін., і все прожите життя згасає перед цим моментом містичного вивергнення з реальності.
Ключові слова: характер, психологія, містичний транс.
DMITRIY BURAGO. A MOMENT OF TRANCE IN THE BIFURCATING WORLD. MYSTICAL VOICE FROM THE ABYSS IN THE MEMOIRS OF ТEFFI
The article deals with one of the most unusual and stirring episodes of the life of Teffi, a Russian humorist writer. Her image remains incomplete, literature critics keep only her social orientation in the focus of their attention, whereas her inner world is not under consideration. The aim of this study is to highlight this neglected psychological issue.
Leaving Russia forever on board the night ship, she was trying to strain her ears to hear a distant Easter church‐going bell, which got mixed with the voice of her sister who (as it became known later) was dying at that very moment in Arhangelsk.
It neither conforms to natural laws nor to the logic of the writer’s character, though she started her creative writing with the mystical notes, and her life can be hardly called exemplary Christian. She is also known as “the queen of Russian satire”, “demonic woman” and so on. But in her elderly memoirs quiet respect for Orthodox Christianity can be made out.
At that moment of parting with her native land and keeping a souvenir from the Kiev‐Pechersk Lavra an enigmatic and very bright spark of prophetic insight flared in her soul. On the banks of the Seine Teffi comes into her customary psychologic state of a “socialite”, who is interested in occultism and the real life becomes faded in the context of mystical tearing away from reality.
This article reports the results of the analysis of Teffi’s life in the paradigm of binary opposition Home / Homelessness, which – volens nolens – became the characteristic feature of the history of Russian literature of the XX th century.
The article is of great help to lectures who prepare courses of Russian literature of the abovementioned period. It is also of interest to students and other researches whose activities are connected with the study of the life of this period.
Key words: character, psychology, mystical trance.
С Тэффи неразрывно связаны представления о «королеве русского смеха», о «демонической женщине», об активной участнице литературно‐общественной жизни и пр. Между тем образ писательницы в мемуаристике эпохи и в ее собственных воспоминаниях, пусть и достаточно часто привлекающий внимание литературоведов, все же остается несколько неполным: в центре внимания обычно оказывается Тэффи в ее социальных ориентациях. То она зорким глазом высматривает человеческие недостатки, то самоутверждается в личных отношениях, то она гостья или хозяйка литературного салона, то предстает в положении беженки, пробирающейся с риском для жизни сквозь охваченную революционным безумием Россию, которую В. Набоков в «Других берегах» именует «ледяной и звериной»…
В конце жизни писательница, оторванная от живых корней своего предыдущего творчества, охотно обращалась к мемуарному жанру, стремясь зафиксировать драгоценные для нее моменты минувшей жизни, ее ακμή. К слову, в научной психологии так именуется наиболее продуктивный возраст – от 30 до 50 лет. Для Тэффи он закончился как раз тогда, когда она в 1920 г. переселилась в Париж. Подведение итогов этой блестящей и трудной жизни, сделанное самой Тэффи, безусловно, заслуживает совершенно особого внимания.
Между тем внутренний мир писательницы обычно остается как‐то вне поля зрения исследователей. А ведь без такого психологического ракурса вопрос о «почве и судьбе» этого выдающегося русского таланта остается не полностью освещенным. Одни уже переживания женщины, расставшейся ради писательства мужа с детьми, женщины, стремящейся любить и быть любимой, заслуживают самого пристального внимания. Но именно об этом уже немало написано, а вот о том, что в душе Тэффи, как у всякого исконно русского человека, жила негромкая, но явственная любовь к православному христианству, согревающая в невзгодах и дающая силу жить в самых невероятных испытаниях, как‐то вовсе не говорится. Но эта, «потаенная», Тэффи не менее, если не более, интересна, чем Тэффи – успешная писательница, светская львица или как женщина, стремящаяся устроить личную судьбу.
Но, во‐первых, превалируют все же критические оценки современниками ее поэзии и рассказов – статьи В. Брюсова, Н. Гумилева, А. Измайлова, В. Кранихфельда, Г. Струве, А. Осоргина, П. Бицилли, Г. Адамовича, И. Голенищева‐Кутузова, М. Цетлина, ДонаАминадо (см. заметку А. Нечволода «Творчество Н. А. Тэффи в критике современников» [4]). При этом автобиографическая проза самой Тэффи пребывала все же как‐то на обочине: «Не остался без внимания и талант мемуариста, развернувшийся в поздний период творчества Тэффи. И. Голенищев‐Кутузов утверждал, что книга «Воспоминания» едва ли не лучшее из того, что создала «эта талантливая и умная писательница». «Эпилогом прошлой и невозвратной жизни» назвал это произведение М. Цетлин» [4]. И нельзя не отметить, что, собственно, мемуарный материал использовался преимущественно с целью воссоздания «внешней» биографии писательницы, реконструкции ее литературно‐общественной позиции, что достаточно четко подтверждается мнением Е. А. Бочкаревой: «Ценные сведения <…> содержатся в мемуарах. Их авторы Г. Адамович, Г. Алексинский, В. Васютинская, Дон‐Аминадо, И. Одоевцева, П. Пильский, А. Седых, Ю. Терапиано, 3. Шаховская, И. Ясинский и др. воспроизвели ключевые моменты биографии Тэффи и её взгляды на литературу и, в том числе, собственное творчество» [1, с. 4].
Но имидж «королевы русского смеха», стабильно возникающий как в собственных воспоминаниях писательницы, так и в мемуарах знавших ее литературных собратьев, не мог не измениться в контексте тех деструктивных трансформаций, которые принесло с собой исторжение Тэффи из родной почвы, когда‐то столь щедро поставляющей живой материал для творчества. И, думается, как раз ее поздняя автобиографическая проза может дать добавочные ключи к пониманию ее личности и творчества. Интересно, например, что писательница, которая вела дневник и писала воспоминания, проводила тонкую грань между публичными мемуарами, интимным дневником и личными письмами и, более того, любопытно дифференцировала дневники «женские» и «мужские», как бы предчувствуя гендерные вопросы наших дней: «Женщина пишет дневник всегда для Владимира Петровича или Сергея Николаевича <…> Женский дневник никогда не переходит в потомство <…> Женщина сжигает его, как только он сослужил свою службу» [8, с. 209–210]. Для нее, всю жизнь писавшей о «внешних» людях, о тех, кого в сатириконовской редакции именовали между собою «недолюдьми», оказывается, был постоянно важен человек «внутренний», остающийся наедине с собой, кстати, В. Кранихвельд говорит об умении Тэффи несколькими словами характеризовать внутренний мир человека: «Как интересны бывают порою человеческие документы! Я говорю, конечно, не о карт‐д’идантитэ (от фр. d’identite – удостоверение личности – Д. Б.), не о паспортах или визах. Я имею в виду документы, свидетельствующие о внутренней, никому не известной жизни человека, о дневнике, который он вел для себя самого и тщательно от других прятал <…>. Письма никогда очень точно не свидетельствуют о человеческой личности, ибо каждое письмо пишется с определенной целью. Нужно, скажем, разжалобить благодетеля, или поставить на место просящего, или выразить соболезнование, что, как и поздравление, всегда изображается в преувеличенных тонах. Бывают письма изысканно‐литературные, бывают и кокетливые, да и каких только не бывает. И все они рассчитаны специально на то или иное впечатление <…>. Тайный дневник – дело другое. Там почти все верно и искренне. Но именно в дневнике тайном, не предназначенном для обнародования, а, наоборот, всячески этого обнародования боящемся. Ну, можно ли считать очень достоверным документом дневники Толстого, когда мы знаем, что Софья Андреевна просила его кое‐что смягчить и вычеркнуть?» [9, с. 33–34].
Таким образом, сама писательница как бы подсказывает нам, что наиболее ценным – с точки зрения объективности – моментом этой части ее наследия являются именно мемуары, написанные в 1930‐е гг. Строго говоря, не все здесь можно отнести именно к мемуарной прозе. Здесь встречаются и свободно изложенные автобиографические рассказы («Первое посещение редакции», «Псевдоним», «Как я стала писательницей», «45 лет»), и очерки, содержащие литературные портреты многих деятелей русской культуры этого периода. И, поскольку исследование этого достаточно большого по объему материала потребовало бы, пожалуй, отдельной монографии, то мы здесь сосредоточимся на суммарной во многих отношениях книге Тэффи «Воспоминания» (1931), особо отмеченные некогда, как уже говорилось, И. Голенищевым‐Кутузовым и М. Цетлиным. Здесь прежний жизненный опыт, блеск и триумфы рассказчицы, ощущение почвы и укорененности в ней на глазах сменяются погружением в иную, доселе неизвестную Россию, охваченную революционным умоисступлением.
В частности, представляется весьма важным представить мировосприятие писательницы в формате бинарной оппозиции Дом / Бездомность, которая – volens nolens – стала характерологической приметой истории русской литературы ХХ века, и не в последнюю очередь, конечно, эмигрантской. Тэффи не осталась в этом отношении безмолвной. Так, в «Авантюрном романе» в подсознании героини Наташи вовсе не случайно постоянно возникает родной дом. А. Н. Юркина косвенно отмечает, что для Тэффи и И. Одоевцевой «характерны тоска, ностальгия и неприкаянность, которые усугубляются незнанием языка новой страны проживания, жесткими условиями жизни, в которых необходимо ежедневно существовать» [13, с. 223]. (В этой статье исследуется, собственно, творчество двух других, современных, писательниц, одна из которых наследует Тэффи, и И. Одоевцевой, но приводимая цитата вполне применима и в данном случае). Т. е., ситуация дает основания без малейших затруднений вписать фигуру Тэффи в длинный ряд обездоленных революцией и историей писателей, с достоинством вынесших испытание изгнанничества и в целом сохранивших, как говорят, «душу живу».
Надежде Александровне Лохвицкой (Бучинской) воистину было что вспомнить. Принадлежащая к семье, давшей России нескольких выдающихся деятелей культуры, она ярко выделялась личным талантом и успехом, не связывая себя никакими условностями, и имела в свете репутацию «демонической женщины». В то же самое время Тэффи вовсе не была «бессердечной» особой и даже в сатирическом творчестве своем была склонна не столько смеяться над неудачливостью своих героев, сколько тайно горевать вместе с ними (вспомним историю с рецепцией в тогдашней критике рассказа «Явдоха»). Она резко протестовала, когда в «Русском слове» ее пытались заставить писать исключительно хлесткие фельетоны, так что В. Дорошевич вынужден был заявить: «Оставьте ее в покое! Пусть пишет о чем хочет и как хочет! Нельзя на арабском скакуне воду возить!» [10, с. 7]. Об этом же, по сути, говорит и М. Зощенко, зорко отметивший у Тэффи «нежность положительную» к иным ее героям [2, с. 140].
Жизнь Тэффи трудно назвать образцово христианской, но, тем не менее, именно это щемящее, нежнейшее, сугубо христианское сострадание всякой беде составляло, похоже, скрытый стержень всей ее натуры. И, хотя вихрь светских радостей и увлечений неистово кружил ее в пору успеха и благополучия, однажды вдруг все резко, хотя и ненадолго, изменилось.
В момент расставания с родиной в душе Надежды Александровны ярко вспыхивает та же самая искра, которая сделала столь одухотворенными строки безнадежно трагичных «Окаянных дней» желчного и скептичного И. Бунина, та же искра, которая разгорелась потаенным ровным пламенем, что согрело долгую и многотрудную жизнь А. Ахматовой.
Блестящая и успешная петербурженка, ощутившая, что из‐под ног ушла столичная почва, столь к ней благосклонная, оказывается в древнем Киеве, и вдруг осознает, что катастрофа постигла не только ее лично, не только круг друзей и близких знакомых – что обречена на гибель вся культура, вся Святая Русь. Рассказ об этом трагическом озарении крайне лапидарен, и оттого каждое слово здесь не менее весомо, нежели в классической лирике:
«Пошла попрощаться с Лаврой.
ʺБог знает, когда еще попаду сюда!ʺ
Да, Бог знал…
Пусто было в этом сердце богомольной Руси. Не бродили странники с котомочкой, странницы с узелком на посошке. Озабоченные ходили монахи.
Спустились в пещеры. Вспомнила, как в первый раз была здесь много лет тому назад с матерью, сестрами и старой нянюшкой. Пестрая «всякая» жизнь лежит между мной и той длинноногой девочкой с белокурыми косичками, какою я была тогда. Но чувство благоговения и страха осталось то же. И так же крещусь и вздыхаю от той же прекрасной неизъяснимой печали, исходящей от вековых сводов, древней русской молитвой овеянных, столькими, ах, столькими очами оплаканных…
Старый монах продавал крестики, четки и образок Богоматери, чудесно вклеенный в плоскую бутылочку через узкое горлышко. И две витые свечечки и аналой с крошечной иконкой на нем тоже вклеены. На венчике надпись: «Радуйся, Невесто неневестная». Чудесный образок. И сейчас, уцелевшая во многих беженских странствиях, стоит плоская бутылочка, чудо старого монаха, на моем парижском камине…
Зашла попрощаться и в собор св. Владимира. Видела перед иконой св. Ирины маленькую черную старушонку, на коленях, ступни в стоптанных башмачонках поджаты носками внутрь умиленно и робко. Плакала старушонка, и строго смотрела на нее увитая жемчугами, окованная золотом, пышная византийская Царица» [10, с. 300–301].
В этом моменте воспоминаний Тэффи с неожиданной отчетливостью проявляется то, что И. Есаулов глубоко верно определил как «пасхальность русской литературы» [3]. В самом деле, здесь, как и в «Воскресении» Льва Толстого или в программном рассказе Чехова «Святою ночью» во весь рост встает экзистенциальная проблема Смерти и надежды на грядущее Воскресение:
«Какая тихая ночь!
Стою долго на палубе, вслушиваюсь в тишину, и все кажется мне, что несется с темных берегов церковный звон. Может быть, и правда звон… Я не знаю, далеки ли эти берега. Только огоньки видны.
– Да, благовест, – говорит кто‐то рядом. – По воде хорошо слышно. – Да, – отвечает кто‐то. – Сегодня ведь пасхальная ночь. Пасхальная ночь!
Этот далекий благовест, по волнам морским дошедший до нас, такой торжественный, густой и тихий до таинственности, точно искал нас, затерянных в море и ночи, и нашел, и соединил с храмом в огнях и пении там, на земле, славящем Воскресение.
Этот с детства знакомый торжественный гул святой ночи охватил души и увел далеко, мимо криков и крови, в простые, милые дни детства» [10, с. 360–361].
Слова Христа «Если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное» (Матф. 18:3) становятся скрытой парадигмой печальной истории погибшей родни, погибающей родины. Возвращение в детство – возвращение в начальную точку отсчета человеческих поступков и проступков. И Тэффи переживает возвращение в эту точку, когда вся прежняя жизнь, «пестрая «всякая» жизнь», как бы и вправду веселая и беззаботная, вдруг оказалась позади как некая пустота, когда, на грани стихий неба и моря, рассказчица вдруг обнаруживает в себе детскую открытость загадочным началам мироздания:
«…Гудит пасхальный звон, теперь уже совсем ясный…
Помню, в старом доме, в полутемном зале, где хрустальные подвески люстр сами собой, тихо дрожа, звенели, стояли мы рядом, я и Лена, и смотрели в черное окно, слушали благовест. Нам немножко жутко оттого, что мы одни, и оттого еще, что сегодня так необычно и торжественно ночью гудят колокола и что воскреснет Христос.
– А отчего, – говорит Лена, – отчего ангелы сами не звонят?
Я вижу в полутьме ее серый глазок, блестящий и испуганный.
– Ангелы только в последний час приходят. – отвечаю я и сама боюсь этих слов…
Отчего в эту вот, в эту пасхальную ночь пришла ко мне за тысячи верст, в темное море, сестра моя, пришла маленькой девочкой, какой я больше всего любила ее, и стала около меня?
Я не знаю, почему…
Я узнаю только через три года, что в эту ночь за тысячи верст от меня, в Архангельске, умирала моя Лена…» [10, с. 362–363].
Отчего никто из исследователей не обратил внимания на явственную связь этого телепатического озарения рассказчицы с первым, детским переживанием Святого, которое сопровождалось смущением и страхом? Это смущение толкает к бегству и отчуждению, а в перспективе заканчивается неминуемой смертью, каждого – как известно, в одиночку. Реальная жизнь развела рассказчицу и ее сестру бесповоротно. А вот возвращение к исходной любви, исходному доверию к миру, внезапно сопровождается настоящим, буквальным чудом – преодолением оков земных времени и пространства и таинственным соединением на какое‐то мгновение разлученных, казалось бы, безвозвратно, сестринских душ. Может быть, правы богословы, утверждающие, что все найти можно, лишь все потеряв…
Таинственное мистическое переживание на пароходе, изложенное со столь благородной сдержанностью и глубокой искренностью, было, по сути, пробуждением иной, скрытой от самой себя, Надежды. Стоит обратить здесь внимание на то, что подобное состояние души, в общем‐то, свойственно было Тэффи изначально: «Первый сборник ее стихов – «Семь огней» (1910) навеян мотивами поэзии Ф. Сологуба. Она мечтает спрятаться от жестокой действительности в милый мир «драгоценных камей». Образ ее лирического героя зыбок и изменчив. В нем – отрешенность от мира, тоска и одиночество» [6, с. 156].
Удержалось ли сознание Тэффи на этой высокой ноте? Конечно же, нет. В своей светской жизни писательница бесконечно далека от подобных порывов. Ее стихия – человеческие страсти. Вряд ли что‐либо, кроме досады, испытывала она, когда ей поставили условие войти в литературу лишь после того, как эту стезю покинет ее сестра Мирра Лохвицкая, равно как и то, что псевдоним Тэффи брался, чтобы как‐то отличиться от сестры. Сестры открыто враждовали, о чем прямо пишет в своих воспоминаниях Ф. Ф. Фидлер [11, с. 431]. Во имя писательского успеха Тэффи оставила семью с малолетними дочерями (в чем, впрочем, себя всю жизнь корила) и нелестно упоминала в своей прозе, хотя и обиняком, брошенного мужа. Роль «роковой женщины», которую Тэффи с блеском играла, также не слишком сопрягается с рефлексией и морализаторством: как она признавалась уже в эмиграции И. Одоевцевой, ей чужого мужа украсть – это запросто… М. Цетлин вспоминает: «В эмиграции Тэффи продолжала свою литературную и театральную деятельность <…> Она смеялась и над эмиграцией и порой ее шутки были злы. Она не щадила человеческой пошлости и глупости, где бы она ее ни находила» [12]. Бурная, страстная и весьма «социализированная» Тэффи не могла жить в том глубоко индивидуалистическом пространстве духовного прозрения, которое вошло в ее на миг изменившееся сознание на ночном, уходящем в темную даль, пароходе.
И хотя на берегах Сены писательницу уже не оставляло нажитое за годы бурь житейских пульсирующее внутри нервное напряжение, выражающееся в навязчивом, психастеническом подсчете ступенек лестницы, чтении текста справа налево и т. п., – спасения от непреходящего смятения Тэффи искала не в церкви.
Вот она с самого утра врывается к И. Одоевцевой и Г. Иванову с необычной просьбой:
«– А может быть, у вас все‐таки «Dogme et rituels de la haute magie» («Догмы и ʺритуалы высокой магии» (фр.) – Д. Б.) найдется?
Георгий Иванов качает головой:
– Не найдется.
– И вообще ничего о магии? Завалящегося?
– Ни‐че‐го, – отчеканивает Георгий Иванов. – Этого товара в доме не держим.
– Вот, если хотите, по хиромантии или графологии, – предлагаю я. – Или по астрологии. Этого у меня немало. Но по магии...
Тэффи сокрушенно вздыхает:
– Придется из Парижа выписать. Только надо неделю ждать, а мне приспичило. Вчера вечером вспомнила об этой книге – и не могла спать, все о ней думала. Еле утра дождалась, чтобы прийти к вам» [5, с. 86–87].
Но плоская бутылочка, чудо старого монаха, всегда стояла в новом временном жилище – на парижском камине писательницы. Не в красном углу, как следовало бы ей стоять, – на камине…
Список использованных источников
1. Бочкарёва Е. В. Комическое в художественном мире Н. А. Тэффи : автореф. дисс. … канд. филол. наук / Елена Владимировна Бочкарёва ; Ульяновский гос. пед. ун‐т имени И. Н. Ульянова. – Ульяновск, 2009. – 22 с.
2. Зощенко М. М. Н. Тэффи / Публикация В. В. Зощенко // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1972 год. – Ленинград : Наука, 1974. – С. 138–142.
3. Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности / Иван Андреевич Есаулов. – Москва : Кругъ, 2004. – 560 с.
4. Нечволод А. Творчество Н. А. Тэффи в критике современников [Электронный ресурс] / А. Нечволод. –
5. Одоевцева И. В. На берегах Сены / Ирина Одоевцева. – Москва : Худож. лит., 1989. – 333 с.
6. Спиридонова (Евстигнеева) Л. А. Тэффи / Лидия Алексеевна Спиридонова (Евстигнеева) // Русская сатирическая литература начала ХХ века. – Москва : Наука, 1977. – С. 156–170.
7. Тэффи. Воспоминания / Тэффи // Тэффи. Ностальгия: Рассказы; Воспоминания / сост. Б. Аверина ; вступ. ст. Э. Нитраур. – Ленинград : Худож. лит., 1989. – С. 267–446.
8. Тэффи Н. А. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 2: Карусель; Дым без огня; Неживой зверь : сб. рассказов / Н. А. Тэффи ; сост. И. Владимиров. – Москва : Книжный Клуб Книговек, 2011. – 432 с.
9. Тэффи Н. А. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 3: Все о любви; Городок; Рысь : сб. рассказов / Н. А. Тэффи ; сост. И. Владимиров. – Москва : Книжный Клуб Книговек, 2011. – 416 с.
10. Тэффи Н. А. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 5: Земная радуга : сб. рассказов; Воспоминания / Н. А. Тэффи ; сост. И. Владимиров. – Москва : Книжный Клуб Книговек, 2011. – 400 с.
11. Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов: характеры и суждения / Федор Федорович Фидлер. – Москва : НЛО, 2008. – 864 с.
12. Цетлин М. H. A. Тэффи [Электронный ресурс] / Михаил Цетлин.
13. Юркина А. Н. Образ дома в произведениях ЛинорГоралик и Анны Сохриной /Алла Николаевна Юркина // Уральский филологический вестник. Серия: Русская литература XX–XXI веков: направления и течения. – 2015. – № 2. – С. 222–230.
Одержано 10.03.2017 р.