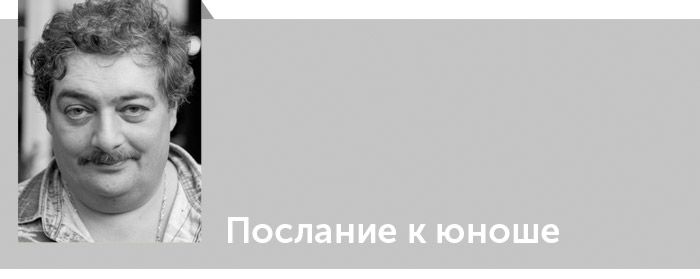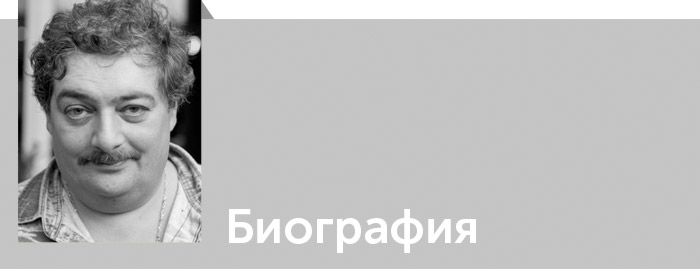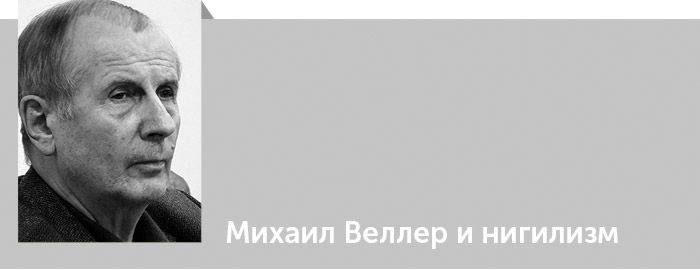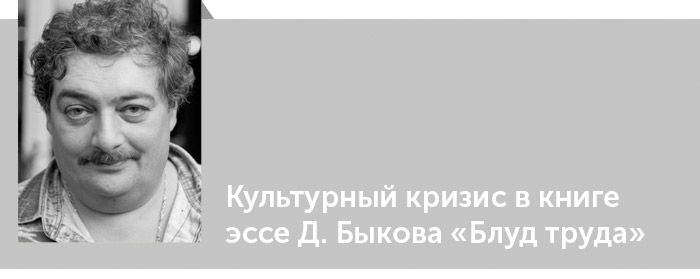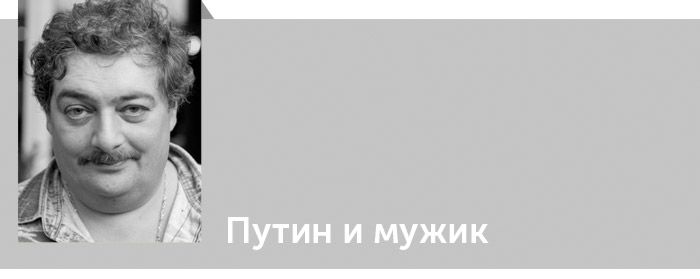Своеобразие поэтического мира Дмитрия Быкова (книга «Последнее время. Стихи. Поэмы. Баллады»)

УДК 821.161.1 – 82.1:06 Быков
И.С. Заярная
(Киев)
В статье рассмотрены важнейшие составляющие поэтического мира лирики Д.Быкова, в частности метафизический текст и метатекст, антиномичность как существенная черта идиостиля, отражение чеховской и пастернаковской импрессионистической поэтики в образно-стилевой системе поэта.
Ключевые слова: метафизическая традиция, метатекст, игровая поэтика, металирика, интертекст.
Заярна І.С. Своєрідність поетичного світу Дмитра Бикова (книга «Последнее время. Стихи. Поэмы. Баллады»).
У статті розглянуто важливі складові поетичного світу лірики Д.Бикова, зокрема метафізичний текст та метатекст, антиномічність як суттєву рису ідіостилю, віддзеркалення чеховської та пастернаковської імпресіоністської поетики в образно-стильовій системі митця.
Ключові слова: метафізична традиція, метатекст, ігрова поетика, металірика, інтертекст.
Irina Zayarnaya. Singularity of the poetical world of D. Bykov (the book «Последнее время. Стихи. Поэмы. Баллады»).
The article deals with the most important components of poetical world of D.Bykov’s lyrics, such as metaphysical text, metatext, antinomy as a significant feature of idiostyle, reflection of Chekhov’s and Pasternak’s impressionistic poetics in the author’s imaginative-style system.
Key words: metaphysical tradition, metatext, witty poetics, metalyrics, intertext.
Поэтическое творчество Дмитрия Быкова – талантливого прозаика, поэта, журналиста, автора нескольких романов и художественных биографий русских писателей, лауреата литературных премий имени А. и Б.Стругацких, «Национальный бестселлер» и «Большая книга» – представляет знаменательное явление в современной русской литературе.
Многогранный поэтический мир, подчеркнуто традиционный поэтический слог и мастерская виртуозность стихотворца сразу же берут в плен читателя и не отпускают его до последней строчки. В его текстах привлекательны комбинация прозрачности смысла, поэтической легкости, и в то же время – сложность философской проблематики, глубина постановки онтологических проблем, сочетание игровой поэтики с проникновенным лирическим чувством, которым поэт охватывает весь мир.
Достаточно сказать, что Быков соединил в своем стиле традиции мировой и русской поэтической классики и Серебряного века с опытом постмодернизма, своеобразно переплавив их в подчеркнуто игровой поэтике. Критик и литературовед И.Роднянская совершенно справедливо узрела в нем «лирика собственной персоной, ошеломляющего естественностью стихоговорения и вольным богатством словаря» [Роднянская 2007: 209].
По мироощущению Дм. Быков – поэт-филолог и философ, представитель художественной интеллигенции, взращенный на богатых традициях русской и мировой культуры, переживший закат советской и постсоветскую эпоху, драматически ощущающий свое время как время всеобщего распада и вселенского хаоса, насквозь пропитанное эсхатологическими настроениями. Критик Алексей Дидуров подчеркнул, что Дмитрий Быков – один из лучших поэтов нашего времени, «когда за художественную правду уже ничего не бывает – ни славы, ни тюрьмы, ни денег» (курсив наш – И.З.) [Дидуров 1998: 252]. Сам же поэт прекрасно выразил эту мысль, перефразируя известную цитату из А.С.Пушкина: «Никто уже не требует поэта / К священной жертве – бог с тобой, живи / И радуйся. / Тебе не уготован священный жребий, бешеный распыл: / Как будто мир во мне разочарован. / Он отпустил меня и отступил» [Быков 2007: 48][1]. Роль литературы в обществе, а шире – соотношение искусства и действительности частично отражает философию времени. А это одна из проблем, которая волнует писателя. Свое место на поэтическом Олимпе Быков не без иронии определил следующим образом: «Я поэт, но на фоне Блока я не поэт. / Я прозаик, но кто сейчас не прозаик?».
Попытаемся обозначить основные составляющие поэтического мира Дм. Быкова, опираясь на недавно изданную книгу стихотворений, баллад и поэм – «Последнее время» (2007), куда автор поместил стихи, написанные за двадцать лет творческой работы.
Очевидно, что наиболее значимой, едва ли не основной особенностью идиостиля поэта является антиномичность, парадоксальное схождение крайних полюсов, контрастов. Они обнаруживаются как в смысловой сфере, в самоидентификации лирического героя, так и в стиле, образности. С одной стороны, глубокий лиризм, предельное самообнажение лирического чувства. С другой стороны, всепроникающая ирония, в том числе и по отношению к лирическому субъекту, лирический юмор, позволяющий преодолеть состояния экзистенциального отчаяния и ужаса, трагического осознания неминуемой конечности человеческого бытия. В одном случае поэт фиксирует типичные черты своего времени, нарочито заземляя его образ – нищенский быт российской глубинки, безрадостные будни постсоветской эпохи, состояние юноши-призывника накануне мобилизации, неприкрашенная военная действительность в современных горячих точках. Но сквозь эти подробности времени непременно проступают бытийные коллизии, тот хаос, который изначально задан и окружает человека, трагическая предопределенность его судьбы. И в этом смысле Д.Быков – поэт метафизический.
Высокая поэтическая риторика у него уживается с беспафосностью высказывания часто в пределах одного поэтического отрывка и даже строфы. Лирический герой Быкова то заявляет: «У меня насчет моего таланта иллюзий нет / В нашем деле и так избыток зазнаек», то именует себя «Орфеем – две тыщи», стражем, Седым Клобуком «у сокровищниц мирового духа».
Не случайно и в критике сосуществуют диаметрально противоположные суждения – от отнесения поэта к разряду реалистов («его махровый реализм утилитарен» – А.Дидуров) до закрепления за ним образа заоблачного романтика, совершающего «ликующий полет за пределы здешнего бытия», который обеспечен, прежде всего, ритмом, музыкой стиха» (И.Сурат). Трудно привыкнуть, – пишет И.Роднянская, что «куртуазный маньерист», идиллический шут, сочинивший «Курсистку» и «Фантазию на темы русской классики», на поверку – «непростой продукт не своей эпохи». Что он обратит свою зашкаливающую избыточность («О перечень, перечень, бич мой!») в некий словесный аналог мирового хаоса, с которым нельзя ужиться, но и нельзя не смириться [...] Что он станет с точностью «Школы анналов» и со сновидческой зыбкостью портретировать эпоху за эпохой, начиная с «фен-де-сьекля» («Ведь прощаем мы этот Содом…») и «бель эпок» 1910-х («Восьмая баллада»), через сталинское «тоталитарное лето» и брежневский предкатастрофический штиль («Баллада об Индире Ганди») – и кончая гротескными «Сумерками империи». А то и вовсе будет грезить флуоресцентными картинками не прошлой, не будущей – всегдашней войны («Прощание славянки», «Мне приснилась война мировая», поэма «Военный переворот»)» [Роднянская 2007: 210]. Как видим, обращение Быкова к историческим сюжетам для критика оказалось неожиданным.
Антиномичность обнаруживается и в соотношении между прозаическим и поэтическим началами. Хотя Дм.Быков по-своему пытается их уравновесить. Многие его произведения представляют безудержный поток рифмованной речи, не скованной границами строфики, записанной, как проза, сплошным текстом, «в строчку». В статье И.Сурат «Летающий слон. Теодицея Дмитрия Быкова», посвященной просодии, ритмике и в целом музыке его стихотворной речи, проницательно замечено, что «быковская многословная повествовательность, подробность, требующая длинного стиха, уравновешиваются его же способностью сказать одним словом все и сразу. Но главное равновесие, каким держится его поэзия, – это [...] напряжение между прозаичностью местами нарочитой, разговорностью иной раз подчеркнутой, а главное, мыслью всегда сложной и разветвленной у Быкова – и тем глубинным внутренним порывом, каким создается ритм» [Сурат 2010]. Одним словом, между прозаичностью и поэтичностью как таковыми.
Часто Быков использует словесную фигуру антитезы-эпифоры благодаря которой достигается эффект мягкой иронии, лирического юмора – неотъемлемой части его поэтики: «Я, грешный человек люблю слова. / В них есть цветаевщина. / Они из мухи делают слона, / Притом летающего. / Что мир без фраз? Провал осклизлой тьмы, / Тюрьма с застольями. / Без них плевка не стоили бы мы, / А с ними стоили бы» (С.285). При этом стилистическая разбалансированность усиливается и за счет сочетания высокого и низкого лексических регистров.
Нам представляется, что именно поэтика противоположного, контрасты и парадоксы весьма сопоставимы со стилевыми качествами и приемами маньеризма, с которым поначалу Д.Быков попытался соотнести свое творчество, участвуя в организации группы «Куртуазных маньеристов». Степень успешности воспроизведения этой культуры и стиля на новом историческом витке – тема отдельного разговора. Отметим лишь, что позднее, объясняя создание группы исключительно стремлением примкнуть к какому-либо «-изму» на фоне других течений и группировок, Д.Быков не настаивал не серьезности этой затеи. Хотя с поэтикой маньеризма и барокко у Быкова действительно немало точек соприкосновения как в области использования игровых приемов, остроумно выстроенной поэтической речи, так и в раскрытии характерных философских мотивов, в описании мира в целом. А он видится поэту парадоксальным: «чем-то более видимого: как бы вещью плюс», в котором «и самый воздух страстен, / Ибо полон взаимоисключающих стремлений».
Важными составляющими поэтического мира Д.Быкова выступают метафизический текст и метатекст.
Способ постановки и художественного раскрытия философской проблематики, вечных коллизий характеризует автора стихотворений «Теодицея», «Кольцо», «Что-нибудь следует делать со смертью…», «Ключи», «Хорошо тому, кто считает, что Бога нет…», «Как-то спокойно я вышел из ада…», «Если бы молодость знала…» и др. как последователя традиции метафизической поэзии, воспринятой, вероятно, не без посреднического влияния творчества И.Бродского. Спектр метафизических проблем у Быкова вырисовывается достаточно отчетливо: взаимоотношения человека (особенно поэта) и Бога, вера и скепсис, Божья воля и несправедливость на земле, духовное и телесное, посмертное бытие человеческой души. Можно привести множество примеров того, как сплетаются в осмыслении этой проблематики напряженная мысль и эмоциональный накал, образуя тот типичный сплав рационального и чувственного, о котором в свое время говорил еще Т.Элиот, характеризуя английскую метафизическую поэзию [Элиот 1997].
В книге Быкова диалог с Творцом, размышления о Всевышнем формируют значительную часть поэтической философии. В стихотворении «Новая графология – 2» поэт предельно обнажает свое ощущение присутствия высших сил, свои представления об их атрибутах. Здесь контрастно сополагаются проявления божественного и дьявольского начал. Бог посылает человеку испытания: «Сюжетом не предусмотренный поворот, / Небесный тунгусский камень в твой огород, / Лед и пламень, война и смута, / Тамерлан и Наполеон, / Приказ немедленно прыгать без парашюта с горящего самолета – это Он». Дьявол же «под маской Бога внушает надежду там, где надежды нет» и «отнимает надежду там, где надежда есть». Явление Бога представлено как чудо: «Но если ты входишь во тьму, а она бела, / Прыгнул, а у тебя отросли крыла, – то это Бог, или ангел, его посредник, / С хурмой «Тамерлан» и тортом «Наполеон»: / Последний шанс последнего из последних, / Поскольку после последнего – сразу он. / Это то, чего не учел Иуда. / Это то, чему не учил Дада. / Чудо вступает там, где помимо чуда, / Не спасет ничто, никто, никогда» (С. 286–287).
В другом случае, в стихотворении «Теодицея» божественное присутствие в мире персонифицируется в облике усталого полевого командира, который оберегает своих бойцов. Как проницательно заметила И.Сурат, «Теодицея» – выразительная попытка хотя бы на словах выбраться из вечной проблемы, согласовать веру с царящими на земле злом и страданием» [Сурат 2010]:
Вот тебе и ответ, как он терпит язвы земли,
Не спасает детей, не мстит палачу,
Авиации нет, снаряды не подвезли,
А про связь и снабжение я молчу (С.297).
Не менее актуальна и драматична для Быкова и проблема оправдания человека перед Богом, посмертного бытия души. И здесь можно встретить диаметрально противоположные высказывания: «веры в бессмертие нет ни на грош», и даже богоборческие мотивы, где лирический герой уподобляется Иакову («Какой-нибудь великий грешник…»). Вместе с тем, поэт всерьез задумывается о соотношении духовного и телесного в человеке, остро переживает мотив загробной тайны. В стихотворении «Как-то спокойно я вышел из ада…» нарисована в ключе романтической традиции проникновенная картина жизни души после смерти: «Господи Боже, не этой ли мукой будет по смерти томиться душа, / Вечной тревогой, последней разлукой,/ Всей мировою печалью дыша, / Низко летя над речною излукой, / Мокрой травой, полосой камыша? / Мелкие дрязги, постылая проза, / Быт – ненадежнейшая из защит, – / Все, что служило подобьем наркоза, / Дымкой пустой от нее отлетит» (С.112).
Стихотворение «Монолог с ремаркой» представляет лирическиое обращение к персонифицированному образу души, актуализирует культурный топос прощания души и тела в лирическом мотиве предчувствия близкой разлуки: «Ангел, девочка, Психея, / Легкость, радость бытия! / Сердце плачет, холодея: / Как я буду без тебя?» (С.35). Стихотворение интересно тем, что в нем в остроумной форме обыграна мощная традиция русской философской лирики – от «легкой» поэзии И.Богдановича, через узнаваемые ритмы А.Фета – к метафизическим текстам И.Бродского, в частности «Большой элегии Джону Донну», содержащей тот же мотив прощания души и тела. Текст Быкова заведомо неоднозначен, его можно истолковать и как обращение к женщине, стремление удержать легкомысленную беглянку, устремившуюся «за любовью идеальной, за кибиткой кочевой»: «Там-то весело старея, / Век свой будем вековать – / Я твой псих, а ты Психея, / Вместе будем психовать» (С.36). Однако последняя ремарка – Звон разбитого стекла – переносит сюжет в метафизическую плоскость.
Одной из вариаций мотива эволюции души становится описание процесса очерствения, оскудения духовного начала в человеке от юности к старости, «усыхания по краям», утраты слов, желаний, порывов, чтобы «под конец научиться не быть вообще» («Если б молодость знала и старость могла…»).
Многие тексты Быкова, отсылающие к традиции метафизической поэзии, построены на развернутой овеществленной метафоре, в основе которой лежит вещественный ряд. Например, стихотворение «Кольцо», в котором поэт вглядывается в суть предмета, и в нем ему открывается безграничный метафизический смысл: «Я дыра, я пустое место, щель, зияние, дупло, труха, / Тили-тили-тесто, невеста в ожидании жениха, / След, который в песке оттиснут, знак, впечатанный в известняк [...] Все устроенные иначе протыкают меня рукой, / Я не ставлю себе задачи и не знаю, кто я такой» (С.17). В результате остроумных метафорических и логических операций «пустота, ненужность, / образ бренности и тщеты» оказывается совсем не тем, чем первоначально представлялся: «попавши в мою окружность вещь меняет свои черты». Профанный уровень неожиданно трансформируется и «дыра, пустота, никем неустановленное лицо» превращается в нечто сакральное: «на Господнем пальце кольцо». В остроумно-иносказательной метафоре, в сложном ассоциативном образе предстает модель взаимоотношений поэта с Богом.
Или стихотворение «Ключи», в котором связка ненужных ключей от некогда открывавшихся дверей (квартиры бывшей жены, предавшего друга, мастерской эмигрировавшего приятеля) становится выражением утраченных связей, надежд, иллюзий, а главное – знаком быстротечности жизни:
Провисанье связующих нитей, сужение круга.
Проржавевший замок не под силу ключу.
Дальше следует ключ от квартиры предавшего друга:
И пора бы вернуть, да звонить не хочу.
Эта связка пять лет тяжелела, карман прорывая
И призывно звеня,
А сегодня лежит на столе, даровым-даровая,
Словно знак убывания в мире меня (С.115).
Обычный предмет – связка ключей наполняется метафизическим смыслом, служит отправной точкой в раздумьях о человеческом познании и опыте: «ненужная связка как образ познания мира, / Где все меньше дверей и все больше ключей», «чем больше дверей открываю, тем больше я знаю, / И чем больше я знаю, тем меньше живу» (С.116).
Интересно, что в другом стихотворении схожий мотив обретает иную интерпретацию – Быков реконструирует известный теологический постулат о пагубности исчерпывающего знания и стремления человека заглядывать за предел: «Я не все говорю, не всему раздаю названия, вообще не стремлюсь заглядывать за края – ибо есть зазор спасительного незнания, что тебе и мне оставляет вера моя» (С.295).
В системе ценностной иерархии лирический герой Быкова находит свою нишу, определяемую прежде всего его поэтическим даром, высоким призванием поэта. Она также не лишена противоречий. С одной стороны, «Я едва ли потребен Господу как поэт, / Но скорей полезен ему как лакмус» (С.283). С другой стороны, утверждается обратное: «С меня он, можно сказать, не спускает глаз, проникает насквозь мою кровь и лимфу, посылает мне пару строчек в неделю раз – иногда без рифмы, но чаще в рифму» (С. 289). Поскольку поэт – своего рода инструмент Творца, то его задача гармонизировать хаос, вносить в мир лад и созвучие: «Защищаю скудное бытие, / Подтыкаю тонкое одеяло» (С.19).
Философский мир Быкова нераздельно связан в его творчестве с миром литературы. В стихотворении «Утреннее размышление о Божием Величестве», точно воспроизводящем название ломоносовской оды, в котором прихотливо трансформирован ломоносовский деистический тезис о единстве творящих основ – Бога и натуры, Быков также размышляет о двух началах, но уже в личности поэта: «О двойственность! О адский дар поэта – За тем и этим видеть правоту» (С. 149), «я человек зазора, промежутка, двух выходов, двух истин, двух планет». Обращаясь к Богу с просьбой, чтобы он дал ему альтернативу в конце пути, поэт неожиданно воспроизводит финал булгаковского романа «Мастер и Маргарита» в видении такой перспективы после смерти: «Я вижу не безвыходный, безлесый, / Бесплодный и бессмысленный ландшафт, – / Но мокрый сад, высокие ступени, / Многооконный дом на берегу / И ту любовь, которую в измене / Вовеки заподозрить не смогу» (С. 150).
Отметим, что интертексты Д.Быкова – это своеобразный пантеон русской и мировой литературы, собрание сюжетов, литературных персонажей, образов писателей, представляющее тему отдельного исследования. Мы же обратим внимание на область метатекста, проследим особенности поэтологической лирики. Здесь проглядывают все ее элементы – рефлексия по поводу собственного творчества и таланта, попытка причислить себя к ряду известных поэтических имен, поиск своих генетических корней в литературе, элементы автометаописания, формального анализа собственного текста, ремарки по поводу особенностей своего стиля, изображение творческого процесса, жанровая авторефлексия. Сюда же отнесем мастерское включение «чужого слова» и его филологический анализ, размышления о соотношения литературы и жизни, экстраполяцию известных литературных сюжетов и биографий в область собственного жизнетворчества.
«И вот американские стихи…» посвящены разбору текстов юной поэтессы из-за океана. Речь идет непосредственно о мастерстве и о литературной технологии: «Естественно, верлибр: перечисленья / Всего, на чем задерживался взгляд восторженный: что вижу, то пою, / Безмерная, щенячья радость жизни» (С.51). Критический анализ сопровождается стилизованным цитированием подобных стихов и комментариями оценочного характера, указаниями на общие недостатки: «где хочешь оборви – иль продолжай до бесконечности». Восторженным верлибрам беспечного юного автора противопоставлены стихи соотечественников, которым закрыта дорога в официальную печать. Стихи зачастую гениальные, созданные в коммуналках, записанные в конторских книгах, «стихи об ужасе существованья и о трагизме экзистенциальном». Но эти тексты тоже несовершенны. Они оказываются неправомерно отягощены бытовыми проблемами, переходящими в разряд неразрешимых коллизий. И лирический герой справедливо задается еще одним вечным вопросом о смысле и задачах литературы, ведь на самом деле «трагедия не в давке, / Не в недостатке хлеба и жилья, / Но в том, что каждый миг невозвратим, / Что жизнь кратка, что тайная преграда / Нам не дает излиться до конца» (С. 53). В соответствии с этим бытийным смыслом литературы поэт обосновывает свои задачи и свое видение поэтической формы и техники стихосложения, манифестируя ее следующим образом:
А нам нельзя верлибром – потому,
Что эмпиричны наши эмпиреи.
Неразбериху, хаос, кутерьму
Мы втискиваем в ямбы и хореи.
Последнее, что нам еще дано
Иллюзией законченности четкой, –
Размер и рифма. Забрано окно
Строфою – кристаллической решеткой.
Зарифмовать и распихать бардак
По клеткам ученических тетрадок –
Единственное средство кое-как
В порядок привести миропорядок
И прозревать восход (или исход)
В бездонной тьме языческой, в которой
Четверостишье держит небосвод
Последней нерасшатанной опорой (С.53-54).
Отметим, что нередко Быков маркирует в стихотворениях размеры, которыми написан текст: хорей четырехстопный, пэон четвертый, трехсложник. Или же включает непосредственно в стихи филологическую терминологию: «Вот плеоназм: упадок декаданса». В другом случае может обыграть феномен читательского восприятия, описанный в научной литературе: «Как Лотман учил нас – а он ли не знал? – / Письмо медиатор, тревожный сигнал, / Канал меж мирами, внушающий трепет / (Особенно тем, кто письма не читал)» (С.252).
В орбиту металирики Быкова входит исследование «чужого текста» и размышления о творческом процессе как особом состоянии. Именно в таком ракурсе предстает поэзия Ф.Тютчева: «Приснился Тютчева новооткрытый текст – Шестнадцать строчек нонпарели; / Он был из лучшего, и помнится – из тех, что строятся на параллели. / Уже он путался – в предсмертии, в бреду, / Усилье было бесполезно, / И обрывалась мысль, и словно на виду, / Сама распахивалась бездна» (С.274).
Быков сам зачастую использует прием параллели. Но у него это средство вполне соответствует маньеристской и барочной остроумной метафоре, сложному ассоциативному образу, когда в качестве элемента метафоры или сравнения используется развернутый сюжет. Этот прием заметил критик В.Губайловский, подчеркивая, что «Быков может рассказать целую историю о кошке – «В общем, представим домашнюю кошку, выгнанную на мороз…», чтобы потом сравнивать ее с собственной душой или историю о любви – «Вся любовь прошла в чужих жилищах», чтобы сравнить хозяина чужой квартиры со смертью» [Губайловский 2007: 205].
Поэт иронически интерпретирует особенности своего стихоговорения, очевидную многословность, пристрастие к повторам: «Избыточность – мой самый тяжкий крест. Боролся, но ничто не помогает. Из всех кругов я вытолкан взашей, как тот Демьян, что сам ухи не ест, но всем ее усердно предлагает, хотя давно полезло из ушей» (С.266); «О перечень, перечень, бич мой! Все те же реестры, ряды, синонимы [...] Знакомая почва и флора однажды подсунули мне прием нагнетанья, повтора, годящийся даже во сне» (С.471). Свойство личности, натуры автора и способ его поэтической саморефлексии порождает и неизбежные самоповторы: «Все поняли давно, а я долблю … чтоб достучаться, знаете, до тех, кому не только про мои избытки, а вообще не надо ни про что». Но не таким ли предстает и «весь Господень мир – один ошеломляющий избыток, который лишь избыточным вместить», – резонно заключает автор.
Нам представляется, что в акцентировании словесной избыточности содержится скрытая полемика с поэтикой минимализма, беспафосности, которая характерна для представителей многочисленных течений неоавангарда, соц-арта, концептуализма и постконцептуализма и в разных вариантах присутствует в поэзии Г.Сапгира, Г.Айги, Вc.Некрасова, Д.Пригова, Л.Рубинштейна.
Лирический герой Дмитрия Быкова не мыслит себя вне литературы, ее сюжетов, образов, писательских фигур и биографий. Этот мир прочно укоренен в нем и накладывается на изображение истории и современности, сплетается с философской и лирической саморефлексией. И, несмотря на декларативно заявленные утверждения, своеобразно воскрешающие извечную полемику о соотношении искусства и действительности: «Жизнь выше литературы, хотя скучнее стократ», «Жизнь выше паскудной страсти ее загонять в строку», «Искусство – род сухофрукта, ужатый вес и объем, / Потребный только тому, кто не видел фрукта живьем», в стихотворениях то и дело просвечивает тенденция сближения литературы с действительностью и восприятия жизни через литературу. Стремление, как это было в старые добрые времена Державина, Карамзина, Пушкина, соотносить, сличать жизнь с литературными образцами. Так, в стихотворении «Семейное счастье» прихотливой фантазией автора изменены финалы, соединены в счастливом браке судьбы известных литературных персонажей: «Печорин женился на Вере, / устав от бесплотных страстей, / Грушницкий женился на Мэри, / Они нарожали детей». Вслед за этим, грустно замечая, что «к сожалению, такого исхода безвременье нам не сулит», поэт проецирует уже реальные развязки литературных историй на современную эпоху: «Любовь переходной эпохи / Бежит от кольца и венца: финалы, как правило, плохи, / И сын презирает отца». Литературная условность снова становится мерилом нравственных и жизненных ценностей в разные времена. Так же прихотливо, как и с судьбами литературных героев, Д.Быков обращается и с эпизодами писательских биографий, экстраполируя их в область собственных жизненных коллизий и переживаний (стихотворения «Намечтал же себе Пастернак…», «Когда бороться с собой устал покинутый Гумилев…»).
Не случайно и историю России Быков изображает сквозь призму судеб русских писателей. Например, моделирует их возможные варианты в остроумном стихотворении «Версия», где ход истории повернут в совершенно противоположное русло: в восемнадцатом году победу в России одержал Корнилов, и революция была свернута, а позже социализм победил в Швейцарии. Или в стихотворении «В России выясненье отношений бессмысленно…», в котором ссора Владимира Нарбута с женой накануне ареста превращается в печальную повесть о трагических страницах эпохи тоталитаризма.
Знаковыми фигурами в поэзии Быкова в аспекте создания метатекста являются А.П.Чехов и Б.Пастернак. Не случайно именно этим писателям посвящены филологические исследования автора – обширное эссе «Два Чехова» (2010) и биографическая книга «Борис Пастернак» (2005). Думается, что в поэтике этих столь не схожих писателей, хотя и представляющих одну культурную эпоху модернизма, один – в самом ее начале, а другой – ближе к закату, Быкову родственны два схожих феномена. Чеховская камерность, умение сосредоточить внимание на, казалось бы, неважном, незначительном событии, сквозь которое просвечивает бытийный смысл. Пастернаковское стремление зафиксировать мгновение, максимально полно, эмоционально емко воплотить его в поэзии. Не случайно применительно к этим двум авторам в литературоведении прочно утвердилось отношение как к импрессионистам.
В стихотворениях Быкова немало отсылок непосредственно к пастернаковскому тексту. Это и вариации, подражание, например цикл «Времена года», обилие цитат, реминисценций, образов из ранних и поздних стихов Пастернака, его книг «Сестра моя жизнь», «Темы и вариации», «На ранних поездах» и поэмы «Девятьсот пятый год», стихотворений Юрия Живаго и др. Показательно и воспроизведение поэтического словаря Пастернака – плеск дождя, дрожанье луж, ночного ксилофона негромкий перестук, шлепки, таянье и шорох и др. узнаваемые образы.
Облик поэта-Пастернака в лирике Быкова существенно дополняет его обрисовку в прозаической биографической книге.
Чеховские художественные приемы обозначены и обыграны поэтом применительно к жизненной ситуации в стихотворении «К вопросу о роли детали в русской прозе». Очевидно, художественному видению Быкова близок и тот внутренний лиризм, мягкий юмор, которые насквозь пронизывают чеховскую прозу. В эссе «Два Чехова» автор акцентирует внимание на таких качествах выдающегося русского прозаика, как «онтологический юмор», необыкновенное, ни с чем не сравнимое религиозное чувство, умение обозначить предел, преклонение перед красотой и свободой пространства [Быков 2010].
Выскажем предположение, что с художественным творчеством Чехова и Пастернака перекликается одна из наиболее значимых категорий поэтического мира Быкова, раскрывающая его отношение к жизни и занятию поэзией. Это категория паузы, остановки, промежутка, переходного состояния, которая является синонимом жизни и полноты бытия для поэта, пишущего на пороге ХХ – ХХІ ст., и всячески поэтизируется им: «Когда бы от моей творящей воли/ Зависел мир – он был бы весь из пауз» (С.218). В стихотворении «Отсрочка», отталкиваясь от конкретной биографической реалии – спасительная отсрочка службы в армии, данная юноше-призывнику, поэт наполняет эту жизненную ситуацию философским смыслом. В стихотворении «Сумерки империи», где развернута эсхатологическая картина всеобщего распада, хаоса, конца истории, неожиданно брезжит свет и надежда, связанная с особым состоянием паузы, которое описано Быковым, как всегда, в остроумной форме – перифразе известной детской считалки:
С той поры меня подспудно радуют
Промежутки, паузы в судьбе.
А и Б с трубы камнями падают
Только И осталось на трубе (С.228).
Не менее ярко этот же образ развернут в стихотворении «Военный переворот», когда пауза – «лень», «просвет», «миг равновесья» и «складка времени» становится вместилищем прошлого и настоящего и восстанавливает радость и полноту восприятия мгновения-вечности. Попастернаковски звучит здесь мотив созерцания мира, внутренней сосредоточенности, когда заостряются детали и подробности мира: «Все краски ярче, а день теплей, чем завтра и чем вчера», появляются видения: «что-то из детства: лист в синеве, квадрат тепла на полу», опутывает «золото тишины». Это блаженное состояние контрастно оттеняется образами внешнего разрушения: «Вечор, ты помнишь, была пальба», «поваленные столбы», «дворника увели», «скамейка с выломанной доской. Выброшенный блокнот» (С. 434).
Пауза поэтизируется и как состояние блаженной праздности, когда высвечивается смысл жизни, открываются новые грани бытия и возможности для творчества. Не случайно и у Чехова Д.Быков наблюдает схожие мысли: «Вчеховской системе праздность – прекрасная вещь, а труд – проклятье». Безусловно, Быков здесь имеет в виду труд подневольный, вынужденный, который не в радость, не по призванию, а ради заработка, а зачастую и в библейском смысле – сизифов труд. Ироническое отношение к труду, ведущему исключительно к материальному накоплению, в полной мере раскрыто в его стихотворении «Басня», где известный и не раз интерпретировавшийся в литературе сюжет о Стрекозе и Муравье изложен с точностью до наоборот по сравнению с версией И.Крылова. Стрекозе, в образе которой, скорее всего, прозревается творческая личность, отданы авторские симпатии, тогда как Муравей наказан:
Да, подлый муравей, пойду и попляшу
И больше ни о чем тебя не попрошу.[...]
Когда-нибудь в раю, где пляшет в вышине
Веселый рой теней, – ты подползешь ко мне,
Худой, мозолистый, угрюмый, большеротый
И, с завистью следя воздушный мой прыжок,
Попросишь: «Стрекоза, пусти меня в кружок!» –
А я скажу: «Дружок! Пойди-ка поработай!» (С. 254).
Как видим, интерпретация сюжета обретает опять-таки метафизический вектор. Духовному началу, которое в системе координат Быковской поэтики связано с творчеством, которое само по себе не является праздностью, несомненно, отдано предпочтение.
Таким образом, поэтический мир Дмитрия Быкова представляет сложное переплетение метафизического текста, металирики, широкого поля интертекстуальной игры. Ярко выраженное лирическое начало соседствует с философской медитацией. Силовое поле контрастов погружает читателя в парадоксальный мир авторской фантазии, сновидческих прозрений и в то же время – в реально узнаваемый, близкий ему мир современной действительности.
Литература
1. Быков Д. Последнее время. Стихи. Поэмы. Баллады. – М., 2007.
2. Быков Д. Два Чехова // Дружба народов. – 2010. – № 1.
3. Губайловский В. «Последнее время» Д.Быкова (Баллады. Стихи. Поэмы) // Дружба народов. – 2007. – № 1. – С. 201–209.
4. Дидуров А. Рыцарь страха и упрека, или Принц на свинцовой горошине // Дружба народов. – 1998. – № 10. – С. 249–260.
5. Роднянская И. Книжная полка Ирины Роднянской // Новый мир. – 2007. – № 6. – С. 204 – 215.
6. Сурат И. Летающий слон // Октябрь. – 2010. – №1.
7. Элиот Т.С. Поэты-метафизики // Литературное обозрение. – 1997. – № 5. – С. 42–46.
[1] Далее ссылки на это издание в круглых скобках с указанием страниц.