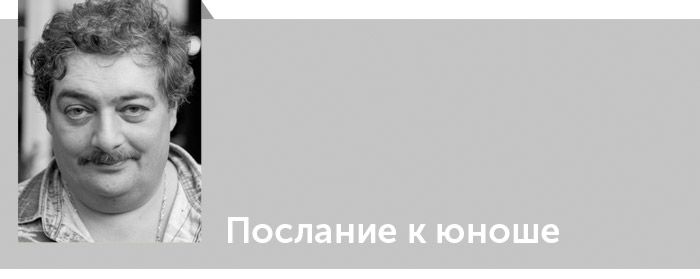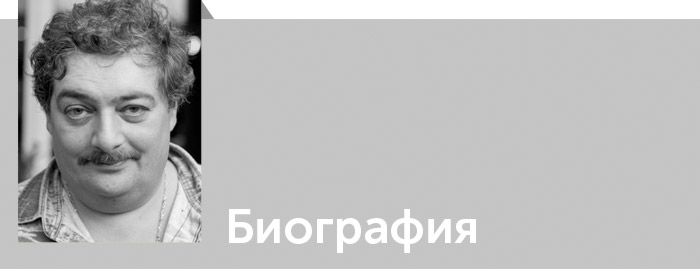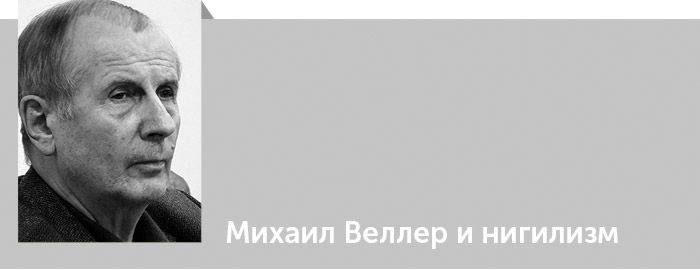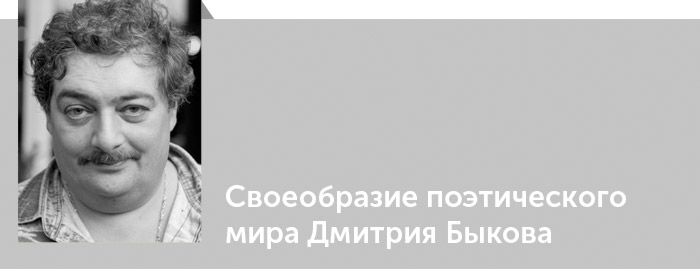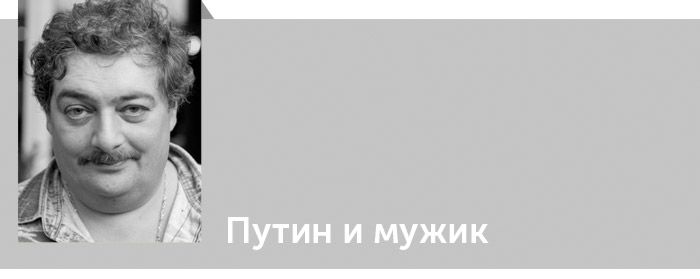Культурный кризис в книге эссе Д. Быкова «Блуд труда»
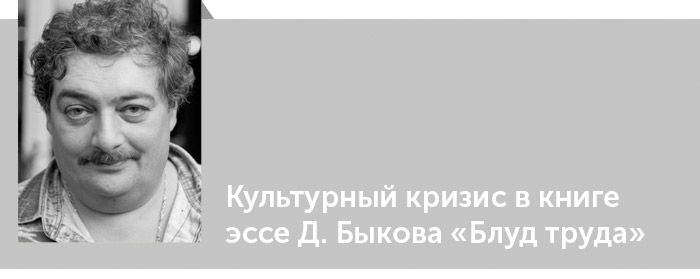
УДК 821.161.1: 82-4 / Быков
Л.В. Садыкова
(Киев)
Целью следующей статьи является рассмотрение проблем русского эссе в контексте развития русской литературы ХХ века. В частности, исследуется проблема культурного кризиса и путей его интерпретации русским писателем Д. Быковым в сборнике эссе «Блуд труда». Она решается в движении поисков национальной идентичности сквозь призму глобальных проблем как реализация авторских стратегий. Эта модель отображает общую судьбу автора и его поколения, поднимает много вопросов и проблем их бытия.
Ключевые слова: эссе, культурный кризис, поиски национальной идентичности, стратегии интерпретации.
Садикова Л.В. Культурна криза у книзі есеїв Д. Бикова «Блуд праці».
Метою наступної статі є розгляд проблем російського есею в контексті розвитку російської літератури ХХ століття. Зокрема, досліджується проблема культурної кризи та шляхів його інтерпретації російським письменником Д.Биковим в збірці есеїв «Блуд праці». Вона вирішується у русі пошуків національної ідентичності крізь призму глобальних проблем як реалізація авторських стратегій. Ця модель відтворює авторську спільну долю з його поколінням, піднімає багато питань та проблем їхнього буття.
Ключові слова: есей, культурна криза, пошуки національної ідентичності, стратегії інтерпретації.
Sadykova L.V. The cultural crisis in the essay’s book The Labor Lechery by D.Bykov.
This paper observes the problems in the study of the Russian essay and its part in the Russian literature of the 20th century. In particular we examine the problem of the cultural crisis and its interpretation in the essay’s book by Russian writer D.Bykov The Labor Lechery. The problem of the cultural crisis is decided by the national identity search as a manifestation of the author’s strategies. This model reveals the author’s common destiny with his generation and raises many questions and problems of their lives.
Key words: essay, the cultural crisis, the searches of the national identity, the strategies of the interpretation
Эссеистика Д.Быкова интересна и в то же время специфична. Близкие автору вечные ценности испытываются ситуацией сегодняшнего кризиса либо проходят иные исторические испытания (например, тоталитаризмом, застоем, советской идеологией). В общем ряду с традиционными ценностями находятся и культурные нормы, названные «условностями»: «Соблюдение таких архаических условностей как-то систематизирует жизнь, вводит ее в рамки цивилизации» [1, 233].
Анализируемая книга «Блуд труда» (она получила название от строчки О. Мандельштама) подтверждает, что этот набор ценностей традиционен. К примеру, творческий труд. Интерпретация данной категории в советском и современном кинематографе осуществляется в противопоставлении истинной ценности мифологемам идеологии. Творческий труд противопоставляется в современных условиях «пустоте» [1, 25], сомнению и отчаянию, порождаемых кризисом. О спасительной роли творческого труда в книге говорится неоднократно, в частности, в эссе, посвященном Корнею Чуковскому («Держаться, Корней!»), в котором Быков называет себя учеником писателя и упоминает ряд художников слова и ученых-филологов, спасавшихся духовно именно творческим трудом, как бы уходя в него от пошлости и угроз кризисного времени:
«Конечно, никакой прокорм семьи не был стимулом ни для Чуковского, ни для Розанова: это было скорей оправдание жизни, состоящей из одной литературы, из чистого писания [...]. Репин как-то сказал Чуковскому (а тот простодушно записал, не догадываясь, что проговорился с небывалой откровенностью): «Голубчик, только никому не говорите, что это все нам в радость, что мы иначе не можем! Всем говорите, что это каторга, что вот Репин кисть к руке привязывает, потому, что держать не может [...]. Чушь! Это наслаждение и счастье! Помню, с какой ликующей улыбкой цитировал мне это другой великий трудоголик, в равной степени наследующий и розановскую, и чуковскую традиции – Лев Аннинский, ищущий постоянно, сделавший это формой существования» [1, 161].
Книгу эссе объединяет ряд общих проблем, решаемых во всех текстах, а также общие стратегии их обсуждения. Попытаемся определить их круг, указывая на связи с традицией и на новаторство писателя.
Центральной, как мы полагаем, можно считать проблему культурного кризиса. Она, в соответствии с уже установившейся традицией, рассматривается, прежде всего, на материале литературы и частично кино. Важным аспектом ее рассмотрения становится изучение национальной ментальности, причем актуализируется розановская традиция – акцентировать внимание на оборотничестве и двойственности русской натуры и даже на отсутствии нравственного стержня. Именно в таком ключе, например, трактуется творчество Акунина, который в своих исторических детективах, по мнению Быкова, ищет «не убийцу – но первопричину русских бед и местных кризисов [...]. Речь идет о знаменитом местном оборотничестве [...]. Не страна, а сплошное болото. Никому верить нельзя» [1, 85].
В решении проблемы культурной и национальной идентичности особую роль играет поиск устойчивых ценностей и основ ядра культуры. Подобная интенция представляется нам шагом вперед по сравнению с постмодернистской деконструкцией. Как и писатели Серебряного века, Д. Быков рассматривает свою эпоху как кризисную, «чрезвычайно зыбкую», лишенную ориентиров, «очень пошлое» время (эссе «Девочка ищет отца» [1, 266]), поэтому возвращение утраченных ценностей рассматривается как первостепенная задача в одном ряду с необходимостью отрефлектировать, понять и описать переломное время: «Мы живем в мире, в котором прежние оппозиции сняты, а новые еще не обозначились», – заявляет повествователь в эссе «ПВО», посвященном творчеству Пелевина, и сравнивает свои интенции к гармонизации и возврату ценностей с теми, что отразили романы писателя, наиболее «талантливо и последовательно осмысливающего переломное время» [1, 215].
Творческий труд как духовная наполненность и самореализация в текстах Быкова противостоит духовной пустоте (это одна из вариаций мотива пустоты, относящегося в эссеистике Быкова к доминантным, о чем подробнее будет сказано ниже). Пустота в мировосприятии современного человека, травмированного культурным кризисом, исследуется на материале искусства. Например, по мнению Быкова, «агрессивно пусты молодые герои современного кинематографа – фильмов А. Балабанова.
(«Кино Балабанова – абсолютно бесчеловечно, в самом нейтральном, безоценочном смысле слова: человека в нем нет. Балабанов не сумел заставить меня полюбить героя и элементарно сопереживать ему – просто потому, что нет и героя в привычном смысле. Есть все та же загадочная пустота – «и тем она верней своим искусством губит человека, что, может статься, никакой от века загадки нет и не было у ней» [1, 59].)
Особенно настораживает пустота в глазах Сергея Бодрова-мл., который претендует «на роль национального героя» (эссе «Иваново отрочество, или Ребята с нашего двора» [1, 55]). Все эти персонажи и герои рассматриваются как конкретная реализация вечного типа дворового хулигана и неуча, стимулированного культурными разрушениями 1990-х годов. Не менее пусты и элитарные герои, далекие от «братковского» типа. Это Быков доказывает, рассматривая романы Анастасии Гостевой как своеобразные документы кризисной эпохи конца ХХ века (эссе «Девочка ищет отца»):
«Гостева по-журналистски точно характеризует зыбкую эпоху конца девяностых, ее фраза о том, что в нашем мире главной единицей отсчета является условная единица и потому все безнадежно условно, позавидовал бы и Пелевин. В ее романе – череда замечательно выписанных героев того времечка: иностранец, приехавший в Россию срубать легкие бабки; киллер, читающий Кастанеду; эзотерик, консультирующий бизнесмена; батюшка, освящающий офис; компания художников, за бешеные халявные бабки сочиняющая рекламную кампанию для кандидата в депутаты; сам этот кандидат в депутаты, с трудом переходящий на русский разговорный язык с языка понятий…» [1, 264].
Всеобщее смешение ориентиров порождает пустоту в душе героини, которая судорожно пытается ее заполнить, и в результате получает какую-то ядовитую смесь, «месиво из Тарантино, эзотерики, методологических семинаров, демагогии [...] разглагольствований семнадцатилетних нимфоманок и прочей белиберды» [1, 267].
Создавая свою концепцию современной духовной пустоты, Д. Быков использует образ В. Пелевина, придавая ему символический смысл. Это бульдозер, соскребающий под собой землю и проваливающийся в углубляющуюся яму. Именно такое впечатление оставляют многие бесплодно ищущие себя герои современной прозы, в частности, в романах Пелевина и Гостевой. Видимо, Быков пытается доказать, что бесперспективность поисков обусловлена сбоем ориентиров, подменой вечных ценностей сиюминутными и модными либо общим релятивизмом (когда все ориентиры – это «условные единицы», по словам Гостевой). Таким образом, можно утверждать, что в эссеистике Д.Быкова сформированы оппозиции: вечные ценности / мнимости, иерархия, основанная на ценностях / релятивизм, «свято место пусто» [1, 60]; норма / подлость («мы живем во времена, когда подлость стала нормой, а норма как таковая упразднилась, и потому очень немногие сумели выйти чистыми даже из такого сомнительного горнила, каким были девяностые», – заявляет автор в эссе «Три соблазна Михаила Булгакова», рассуждая о проблемах конформизма, которую по-разному решали писатели на протяжении ХХ века [1, 115-116]).
Новаторство же Быкова заключается в интерпретации нового, постмодернистского обличия релятивизма, последствий утраты ценностей именно в условиях культурного и социального кризиса 1990-х – 2000-х, исследования того, как данные процессы отразились в литературе, создании их образных определений, соотнесении с проблемой национальной идентичности на современном этапе.
В качестве примера приведем критику «горизонтальной культуры», имеется ввиду, конечно, постмодернистская ризома и постмодернистский отказ от ценностных иерархий, приведший к появлению таких «героев нашего времечка», которые напоминают чудовищ, и чуть было не разрушивших страну и национальную идентичность:
«Горизонтальная культура, в которой все равноправно и потому неинтересно, благополучно скомпрометировала себя. Безумцы с подведенными глазами, стилисты, извращенцы всех мастей, эстетствующие жулики, философствующие манипуляторы, нимфоманствующие нимфетки и прочие экзотические типажи благополучно канули уже после кризиса 1998 года, а нынешняя реальность их добила. Мода на порок прошла. Настала мода на добродетель. И даже на государственность. Отвратительна всякая мода, но не всякая опасна для жизни. И тут уж приходится выбирать из двух зол. Мода на государственность лучше моды на героин» [1, 152].
Обратим внимание на соединение в этом отрывке ироничного и даже юродствующего постмодернистского тона при сопоставлении государственности с героином с призывом в духе здорового консерватизма к возврату к норме и добродетели. Более того, в оптимистической картине мира, созданной Быковым, точка наиболее глубокого падения культуры в условиях кризиса уже перейдена, следовательно, намечается подъем и отмечается столь характерная для искусства 1990-х апокалипсическая модель интерпретации современности.
Как мы покажем далее, обращение к текстам и культурным явлениям, знаменующим выход из кризиса, а также соответствующие интерпретации становятся одной из ведущих стратегий эссеистики Быкова.
Продолжая исследование круга вечных ценностей в эссеистике Быкова, заметим, что одной из основополагающих объявляется гуманизм, который как раз в высшей степени характерен для русской классической литературы. Актуализация этой ценности противопоставлена тотальной дегуманизации культуры ХХ века. Утверждение данной ценности в текстах Д. Быкова реализуется при помощи ряда стратегий: пафосного разоблачения жестокости и бесчеловечности искусства 1990-2000-х, соотнесения непримиримых для автора культурных тенденций Серебряного века и современности, наконец, доказательства своей идеи от противного. Так, например, самым любимым писателем объявляется не наиболее художественно одаренный, а добрейший, пусть даже и художественно посредственный. На роль такого избирается всеми забытый литератор Серебряного века Дмитрий Гаврилович Булгаковский (эссе «Блаженный Булгаковский»), отнесенный автором также к одному из вечных типов русских художников слова – тихому и скромному подвижнику, наивному просветителю, вечно мучимому совестью за темный народ и призывающего к человеколюбию. «В карточной росписи он помещается аккурат между Булгаковым и Булгариным, чем довершает триаду доминирующих типов русской литературы» [1, 230].
Подтрунивая над наивностью литератора, банальностью образов, стилистическими нелепицами, автор эссе, тем не менее, не скрывает своего восхищения добротой Булгаковского, и это оправдание писателя реализует в игровой форме, в своего рода стилизованной истерике современного человека, тоскующего о гуманизме и жалости. Эта стилизация, с одной стороны, позволяет избежать излишнего пафоса, с другой, – создает портрет современника, живущего в жестокую эпоху кризиса:
«Сейчас, блин, вообще никто никого не жалеет, никто не думает помогать ближнему, всем наср… на ближнего с высокой горы, подвижников нет ни хрена, каждый только держится за собственную задницу, и больше ничего, а литература, блин, вообще, самоублажается, рассчитывает на своих и ни хрена не помогает бедному народу, который пьет как лошадь и страшно вырождается, и так при этом выражается, что, я, блин, вообще больше не могу…».
В других эссе, например, посвященном В. Пелевину, показано, что эта задача – восстановления гуманистических ценностей и даже характерного для русской литературы морализаторства – решается.
Важным аспектом решения центральной проблемы культурной идентичности является исследование кризиса современности, культурных сломов, причем это вполне логично проводится в контексте описания национальной истории и общей динамики национальной словесности. Так, размышляя в эссе «Нерушимый Блок» над словами поэта о литературе и либерализме, Д. Быков отмечает:
«Все это давно уже зацитировано, но требует нового осмысления – как впрочем и вся русская история и русская же литература: пройдя через соблазны тоталитаризма и либерализма, в который раз получает шанс беспристрастно разобраться в себе – и, боюсь, как всегда, этим шансом не воспользуется» [1, 90].
В рамках этого аспекта особое внимание обращается на сходство кризисного мироощущения у писателей Серебряного века и литераторов 1990 – 2000-х годов. Проводятся параллели между восприятием культурного кризиса теми, кто пережил революцию 1917 года и потрясения 1990-х (что, собственно, и позволяет адекватно понять Блока). Люди этих эпох ощущают «истончение ткани бытия, сквозь которую уже просвечивает несказанное» [1, 91]. Проводимые многочисленные параллели приводят к обобщению, некой модели ХХ века, в которой рубежи выглядят симметрично как времена культурных разломов и одновременно взлетов:
«Русский ХХ век оказался симметричным относительно середины: первые и последние его двадцатилетия были одинаково бурны – и одинаково позорны. Можно было по-блоковски повторить “Но не эти дни мы звали, а грядущие века”; но это не спасало от разочарования и, рискну сказать, перерождения. Жить стоит только во времена перемен, а точнее – в переходные, промежуточные месяцы, когда история застывает в равновесии, в неопределенности. Кроме этих точек перехода, все в моей жизни было неинтересно» [1, 94].
Автор не предлагает четкую историософскую концепцию, однако фиксирует внимание на схождениях отдельных периодов, особенно литературных. Например, Серебряного века, 1990-х по важному признаку – движению, к новому художественному языку и «распаду прежнего языка» [1, 45]. В этом ключе как распад метода трактуется «Фальшивый купон» Л. Толстого и сегодняшние фильмы А. Германа, а как поиск новых путей – экзерсисы А. Белого, чувственная и безысходная проза И. Бунина (эссе «Мальчик и девочка, или пара Толстых», «Искусство как конвенция»), а в наши дни – творчество Пелевина (эссе «ПВО») и др. Само определение подобных схождений создает впечатление системности развития в противовес постмодернистскому восприятию мира как хаоса и постмодернистской деконструкции всех историософских моделей. С названным аспектом связано изучение причин, по которым национальная культура оказалась под угрозой в ХХ веке, и факторов ее спасших: разоблачение как советских, так и антисоветских толкований русской классики; трактовка двух рубежей столетия как времени нарушения конвенций; общего соблазна релятивизма, «относительности всех истин» [5, 150]. Контрастно противопоставляются две модели. Первая – это движение истории и культуры по кругу. Вторая – это движение по спирали, поскольку, как представляется автору, ХХ век – это не только время соблазнов, но и возвращения к ценностям: «ХХ век был дан нам для того, чтобы пройти через максимум соблазнов, – замечает Быков в эссе «Памяти Честертона», а – ХХI дан для того, чтобы вернуться к идее дома, нормы и человечности. Потому что христианство прежде всего человечно, чего бы ни врали в свое оправдание противники гуманизма и Великих Идей» [1, 157].
Эта же мысль, но в иной вариации звучит и в эссе «ПВО», в котором анализируются романы Пелевина, также устанавливающие связь между мировосприятием кризисных рубежей ХХ века и знаменующие выход к традиционным ценностям. Данная идея варьируется и в размышлениях о собственном патриотизме, противостоящем как разрушительным тенденциям нового массового искусства, так и релятивизму постмодернизма. Тот факт, что любовь к своей стране и культуре возрождается в условиях кризиса, также свидетельствует о возврате к ценностям. О развитии по спирали («патриотизм мой – скорее от противного, я свою родину люблю только черненькой, «всеми плюнутой» (Розанов)», – заявляет автор в эссе «Иваново отрочество, или ребята с нашего двора», посвященном современному кинематографу [1, 56]). Отметим и безусловное воздействие эссеистики Розанова как на уровне идей, так и на уровне манеры повествования, близкой к разговорной.
Книгу эссе соединяет в единое целое не только проблематика и образ повествователя, общая повествовательная позиция, но принципы отбора и интерпретации документального материала, а также ряд художественных приемов и система символов и мотивов.
Как представляется, можно говорить о следующих принципах отбора и интерпретации материала или стратегиях.
Первая. Состояние культуры рассматривается сквозь призму не только достижений (к которым, например, относятся романы В. Пелевина), но и провалов (фильмы Балабанова, Бодрова-младшего), а также «гениальных неудач» (к таковым, скажем, причисляются фильмы А. Германа «Хрусталев, машину!» и Н. Михалкова «Сибирский цирюльник»).
Вторая стратегия. Д. Быков тяготеет к рассмотрению явлений, в которых какая-либо идея либо художественная тенденция доведена до абсурда. Например, в таком ключе трактуется фильм С. Балабанова «Война», превратившийся в чистую агитку; фильм А. Германа, в котором документализм и стремление к чистому реализму победили художественность; роман А. Гостевой «Притон просветленных» и др. Например, о фильме Германа:
«Есть озлобленная и страшная усталость от всего опыта, от людей, от плоти, от собственного метода, который превратил его, свободного творца, – в заложники задачи, а может быть, репутации. У Муратовой не только нет установки на жизнеподобие – она, кажется, ненавидит само слово «реализм». Герман решил переиродить Ирода, сделать нечто более действительное, чем сама действительность, – и получилась сюрреалистическая сага, к которой так подошло бы чужое название «Мерзкая плоть» [1, 35].
На наш взгляд, крайность интересна Д. Быкову не сама по себе, но, скорее, как последняя точка развития тенденции, после которой должен последовать новый поворот, виток развития. Именно в таком ключе трактуются, например, романы А. Гостевой и В. Пелевина: Гостева все еще находится в крайней точке (описание беспросветности современного культурного кризиса), в то время как Пелевин ее уже перешагнул и пытается нащупать новые пути культурного развития, новые ориентиры самоидентификации, национальной идентичности.
Третья. В большинстве эссе наблюдается общая интенция к преодолению кризиса, усталость от кризиса и желание прорыва. Автор поддерживает всех творцов, которые настроены схожим образом, отмечая, например, что «реальность должна сойти с мертвой точки» (эссе «ПВО» [1, 215]). Более того, Быков полагает, что этот процесс начался, и подтверждением тому становится не только субъективное ощущение, но и анализ художественных текстов, например, романов В. Пелевина, («Думаю, сейчас это движение наметилось» [1, 215]). Отметим, что Быков склонен прощать творцам даже очевидные недостатки произведений, если в них присутствует тенденция к преодолению кризиса, так, например, сопоставляя «Сибирского цирюльника» Н. Михалкова с суперреалистическими и депрессивными по сути фильмами А. Германа, Быков заявляет, что «после михалковской фальши жить хочется больше, чем после германовской правды» (эссе «Мальчик и девочка, или пара Толстых», «Искусство как конвенция» [1, 33]. С этой же установкой связана жесткая критика тех произведений, которые не вызывают катарсиса (показательно впечатление от фильма Михалкова: «Выходишь из зала (может опятьтаки я один такой урод) с влажными глазами, блаженной улыбкой и сознанием того, чтожизнь возможна. То есть обработана. То естьпобеждена художником – или, точнее, организована им» [1, 44]. Критикуются те фильмы и тексты, которые не демонстрируют борьбу с кризисом, а лишь констатируют «слом жизни» во всевозможных его страшных проявлениях. Подобного рода произведения осуждаются за отсутствие «метафизической глубины» (эссе «Иваново отрочество, или ребята с нашего двора» [1, 53]). С названной стратегией оказывается тесно связано обсуждение проблем художественных методов (например, неожиданное сопоставление нарочитого реализма и Л. Толстого, и А. Германа, приведшего, как и любая крайность, к художественными неудачам; постоянная критика постмодернизма за релятивизм и бесконечную повторяемость приемов, то есть тупиковость и других художественных «конвенций» искусства, общепринятых представлений об условности. В результате во многих эссе формируется оппозиция окончательный распад / новое, новый поворот, новый художественный язык.
Сущность следующей, четвертой стратегии, на наш взгляд, такова. Современность и прошедшие эпохи рассматриваются не только сквозь призму шедевров (творчества Блока, Толстого, Гоголя, которым посвящены отдельные эссе), но и маргинальных явлений литературного процесса. Эти маргинальные явления стирают общие доминантные тенденции, открывают новые грани развития литературы. Данная стратегия реализована в эссе о поэте Асадове («Баллада об Асадове»), о писателе, чье творчество можно рассматривать как рифму Асадову в Серебряном веке – Булгаковском (эссе «Блаженный Булгаковский»), в эссе о Борисе Акунине («Последний русский классик»), забытой и нереализованной поэтессе Шкапской («Аборт») и др. В названном аспекте чаще всего сопоставляются два периода – Серебряный век и современность. Например, загубленный талант Шкапской автору кажется проясненным именно с позиций сегодняшнего дня, его разочарований. Шкапская, сформированная атмосферой Серебряного века, но пожелавшая служить революции, в результате разочаровалась так же, как дезориентировались многие писатели конца ХХ столетия: «Ей казалось, что пришло великое. А пришло скучное. Собственно, только для этого, возможно, я и взялся говорить о ней сейчас. Мы тоже застали кровавую и бесплодную эпоху великих перемен» [1, 184]. Асадов же интересует эссеиста прежде всего как феномен массовой культуры, на грани фольклора и поп-культуры, который оказался востребован своим временем, противопоставлен обезличиванию официальной литературы. При этом данное явление расценивается как доброе и гуманное, продолжающее традиции морализаторства, столь характерные для русской литературы. То есть доказывается связь данного феномена в лице Асадова с действенными традициями ядра культуры – нравственным началом, сентиментальностью, оправдывающей человека; стремлением к гармонизации (пусть даже в данном случае в форме банальности). Это маргинальное явление в эссе Быкова противопоставлено элитарному творчеству Ахмадуллиной и экспансии поэзии Евтушенко. Данные размышления оформлены в виде интеллектуальных провокаций по поводу хорошего вкуса у народа. Безусловно, размышления об Асадове и его популярности в советские времена направлены на современность, в которой феномен массовой культуры приобрел совершенно иное качество. Фактически в эссе формируется оппозиция народного китча (Асадов) / суперкитча современного искусства [1, 79].
Что касается эссе о Б. Акунине, то в нем освещена другая грань маргинальности – это возможности легких жанров. В данном случае автора интересует искусство постановки в историческом детективе глобальных вызовов, к которым относятся специфика национальной ментальности, причины социальных катастроф.
Сущность следующей, пятой стратегии достаточно традиционна для эссеистики Серебряного века и современности и тем противопоставлена двум предыдущим. Это исследование истории страны сквозь призму судьбы и творчества знаковых фигур уже признанных и новых, ставших классиками. Фигуры избираются также традиционные и не исключено, что под влиянием эссеистики В. Розанова. Это Гоголь и Толстой. Как и во многих других современных текстах, данные фигуры воспринимаются как знаки единого кода национальной культуры [1, 116125]. Задача автора – разгадать семантику конкретного знака. Безусловно, в эссеистике эта разгадка может быть подчеркнуто субъективной. В текстах Быкова знак «Гоголь» имеет семантику не трагического поворота русской культуры, в отличие от текстов Розанова, а трагического носителя некой мистической национальной тайны. Интерпретируя цитату из «Мертвых душ», Быков создает образ национального кошмара – взгляда Родины, за которым таится пустота. «Русь, чего ты хочешь от меня? [...] Что глядишь ты так? И зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи? Вот так она и смотрит. Не смотри, – хочется крикнуть ему, – но что же делать, если он уже вперился в эти непостижимые глаза? Так под взглядом Рогожина позднее сходил с ума Мышкин» [1, 196]. Все последующее творчество писателя трактуется как попытка заполнить эту мистическую пустоту национальной ментальности. Не исключено, что подобная трактовка знака также является аллюзией на «Опавшие листья. Короб первый» В. Розанова:
«...И Россия – ряд пустот. «Пусто» правительство – от мысли, от убеждения [...].
Пусто общество. Пустынно, воздушно.
Как старый дуб: корка, сучья; но внутри – пустоты и пустоты» [1, 386].
Подобная трактовка вписывается в общие для ряда эссе размышления о национальной ментальности, необходимости ее «оформить», то есть преодолеть пустоту, ассоциирующуюся также с современным культурным кризисом.
Знак «Толстой» прочитывается как выражение магического влияния литературы на русскую жизнь (в таком ключе в эссеистике Розанова трактуется Гоголь, а в «Бесконечном тупике» Д. Галковского – Достоевский). Особенность заключается в том, что в идейном плане эссе Д. Быкова «Русская революция как зеркало Льва Толстого» является игровым переворачиванием знаменитой статьи В. Ленина. Кроме того, утверждается идея сакральности русской литературы, хотя и в игровом ключе при помощи беллетризации, введения вымышленного сюжета (избрание Господом Богом – большим эстетом – писателя для создания главного русского романа, оставление избранника после выполнения задачи и муки «достигшего своего предела писателя» и т.п.), вымышленных символических образов.
В эссеистике Д. Быкова выделяются также современные знаковые фигуры. Например, Пелевин как воплотитель духа времени и тенденций к преодолению кризиса. Моделируются также оппозиции знаковых фигур: И. Бродский и С. Гандлевский по принципу создания поэтических традиций, а также оппозиция элитарности и провинциализма эпигонов Бродского с их «унылой вторичностью» [1, 223]. Данная оппозиция важна для критики современного варианта модернистского жизнестроительства, завершающегося часто трагически для поэтов Челябинска, Перми, Екатеринбурга (эссе «Рыжий»).
Среди общих для всех эссе Быкова стратегий выделяем беллетризацию, иронию и пародию. Автор, например, предлагает «сыграть в детектив», размышляя о просветительской миссии книг Акунина. Автор вживается в образ маргинального писателя-просветителя (эссе «Блаженный Булгаковский») и моделирует ситуацию общения интеллигента с народом, высвечивающую бесперспективность интеллигентской мифологизации и стратегий воспитания ближнего своего:
«Вообразите: в небольшой интерьер вашей избушки вваливается человек в пенсне, неловко сидящем тулупе (явно для маскировки) и принимается утверждать, что он вам должен. “Помилуйте, барин, – говорите, естественно вы, – отродясь вы у меня ничего не брали… хотя оно, конечно, ежели бы штоф…”. “Нет, Ваня, я брал! – плачет гость. – Я на горбу твоем еду! Ты темен, ты непросвещен, но я у тебя в вечном долгу [...]. Но я отплачу тебе сторицею, Ваня! Я буду теперь твоя совесть”. “То есть как? – недоумеваете вы. – [...] у меня уже как бы есть своя!” – “Какая у тебя совесть, Ваня, ежели у тебя лампадка коптит [...]. Дай-кось я тебе еще иконку повешу – это, Ваня, Маркс, это Пастер, а это граф Толстой, он моя совесть, а я буду твоя”. [...] Ну что ты будешь делать. Пущай» [1, 240].
Быков предлагает остроумный беллетристический сюжет ухода Б. Березовского из политики по модели ухода Л. Толстого из Ясной Поляны. Олигарх (в образной интерпретации Быкова) примеряет к себе все известные истории изгнания (Сенеки, Гусинского, Солженицына, Байрона, Толстого), моделирует ситуацию, занимается ее пиаром, наконец, произносит прощальную речь, представляющую собой блестящий центон, основанный на строках классиков и политиков:
«Гул затих, я вышел на подмостки. Вам, господа, нужны великие потрясения, – нам нужна великая Россия, страна рабов, страна господ! Прощай, свободная стихия! [...] До свиданья, друг мой, до свиданья! С тобой мы в расчете, и ни к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай! Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел [...]. Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники с милого севера в сторону южную... Вышиб дно и вышел вон!» [1, 320].
Трогательная фантастическая история об уходе и полном опрощении Березовского, который, подобно истинному толстовцу, живет на заимке, работает у хозяина, учит детей и ходит за больными, остроумно остраняет реальную ситуацию и актуализирует пересмотр (но отнюдь не отмену) ряда концепций (толстовство, народничество), столь востребованных именно в кризисную эпоху.
Используются также стилизации, например, пародируется манера описания Горьким людей труда (эссе «Каприччио» [1, 320]). Ирония пронизывает многие эссе, но, в отличие от постмодернистских текстов, не является тотальной, сочетаясь с пафосом, лирическими отступлениями, имеющими исповедальные интонации, манерой критиков «Новой газеты», тоталитарно-агрессивно борющихся с любой альтернативной точкой зрения (эссе «Новая газета» как «Завтра» нашего сегодня»). В издевательском ключе пародируется многословный стиль книг о российских политиках, пишущихся журналистами явно ради заработка и намеренно пространно, чтобы увеличить листаж (эссе «Голова на отрез»).
Последовательное использование названных художественных приемов существенно обогащает эссеистику Быкова, служит реализации задач, характерных именно для данного жанра, – развитию мысли, процессу субъективации явлений культуры, демонстрирует присущие субъективации соединение философского и художественного дискурсов.
Как видим, эссеистика Быкова, отличающаяся тематическим разнообразием и внутренним идейным единством, использующая широкий спектр художественных приемов, демонстрирует новый этап интерпретации культурного кризиса, характерный для творчества именно молодого поколения, а также использование приемов реалистического и постмодернистского письма при отказе от постмодернистской идеологии как устаревшей.
Литература
1. Быков Д. Блуд труда. – СПб.-М.: ЛИМБУС-ПРЕСС, 2002. – 416с.