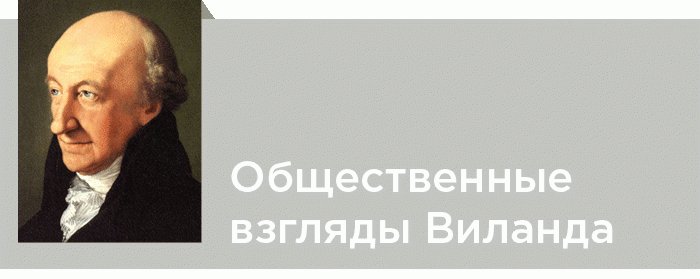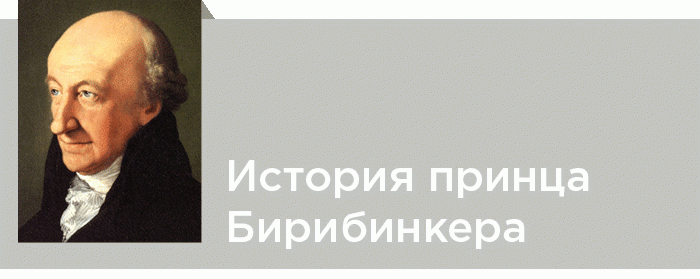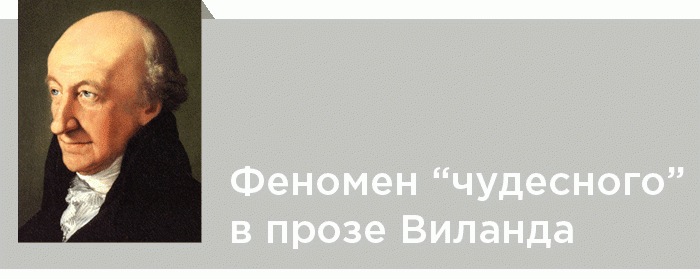Философско-эстетические взгляды X. М. Виланда и роман «История Агатона»
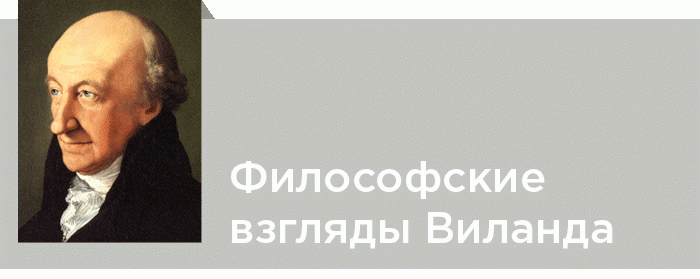
А. И. Жеребин
Кризис мировоззрения, пережитый X. М. Виландом на рубеже 60-х годов XVIII в., был связан с осознанием острого противоречия между созданной им идеалистической конструкцией и реальной жизнью. Этот кризис поставил Виланда перед необходимостью искать новые формы соотнесения идеального и реального и потому явился важнейшей идейной предпосылкой того жанрового новаторства, которое справедливо расценивается исследователями как самый существенный вклад писателя в развитие немецкой литературы
Широко известна высокая оценка Лессинга, данная им в «Гамбургской драматургии» роману «История Агатона», центральному произведению Виланда 60-х годов: «Первый и единственный роман для мыслящего человека в классическом вкусе». Через шесть лет после Лессинга определение «классический роман» было развернуто и конкретизировано X. Бланкенбургом в предисловии к его «Опыту о романе».
Указывая на преемственную связь между героическим эпосом и современным романом, Бланкенбург выдвигает на первый план изменение социально-исторической функции эпического жанра. В отличие от эпоса, ориентированного на коллективное сознание, роман занимается решением проблемы индивидуального существования. В то время как эпопея является «предметом развлечения гражданина», роман имеет в качестве героя и читателя «собственно человека», «без того, чтобы о нем думали как о члене того или иного государства». Современный поэт, «когда он показывает нам человека, учит нас познавать себя и быть самими собою... в своем роде так же национален, как греческий поэт для своего народа». И дальше Бланкенбург пишет: «Я думаю, что автор романов может быть классиком, а его произведение достойным жизни. На этом я настаиваю потому, что создатель романов занимается преимущественно человеком».
Для просветителя, убежденного в исконной доброте человеческой природы, рост самосознания личности сам по себе кажется наивернейшим способом достижения нравственного совершенства. Когда обнаруживается, что углубленный анализ души, детальное психологическое исследование как раз и составляют специфику романа в той его форме, которую он получил у Виланда, этот «низкий» жанр возвышается до участия в решении центральной философской и литературно-художественной проблемы эпохи, он истолковывается как действенное средство наставления человека на путь, ведущий его «к самому себе», к обретению некоей «чистой человечности», в которой на новой индивидуалистической основе воплощается теперь классический идеал гуманизма.
Являясь теоретическим обоснованием художественного опыта немецкой литературы своего времени, исследование Бланкенбурга бесповоротно выводит героическую эпопею за круг действующей литературы и ставит на ее место буржуазный роман типа виландовского «Агатона».
В теоретических высказываниях Виланда, сопровождающих создание «Истории Агатона», нет прямого противопоставления эпопеи и романа, но прокламируемые в них художественные принципы утверждаются в полемике с принципами эпического изображения мира.
Ключевым моментом этой полемики является отношение художественного образа к истории. В очерке «Об историческом в Агатоне», предпосланном второму изданию романа (1773), Виланд говорит о том, что «Агатон» больше принадлежит к классу известного фильдинговского «Найденыша», чем к классу ксенофонтовой «Киропедии», поскольку у Ксенофонта «выдумка вплетена в историческую правду», а у Фильдинга, наоборот, «исторически достоверное вплетено в вымысел». Очевидно, что в класс ксенофонтовой «Киропедии» Виланд включает ту литературу раннего немецкого классицизма — в том числе и собственную эпическую поэму «Кир» (1759), — в которой исторический герой выступал как воплощение абсолютного морального идеала.
Термин «история» имеет у Виланда двойной смысл. Для автора просветительского романа, усматривающего свою задачу в обнаружении «чистой человечности» (X. Бланкенбург), история стоит в том же враждебном семантическом ряду, что и традиция, предание, общее мнение — силы, препятствующие непредвзятому исследованию жизни. И то обстоятельство, что характеристику «Агатона» «напрасно стали бы искать у кого-либо из древних историков», оговаривается Виландом как факт, принципиально важный для воссоздания образа реального человека. «Историческая правда» перестает быть правдой, когда она служит мотивировкой возможности существования идеального героя. Правда человеческая, правда характеров, к которой Виланд стремится в «Агатоне», включает в себя историю в другом, более общем и более глубоком смысле слова. «Все, что составляет существо этой истории, так же исторично, а может быть, в известной мере и еще более несомненно, чем какое-нибудь произведение пользующегося величайшим доверием политического историка, — писал Виланд в предисловии к роману в 1767 г. История — это не только арсенал, из которого литература черпает образы идеальных людей, это еще и психология героев, возникшая вследствие определенных условий их жизни.
Начиная работу над «Историей Агатона», Виланд писал, что намеревается «изобразить в ней себя самого, каким бы он был в обстоятельствах «Агатона», и эта его установка на личный опыт чрезвычайно важна для обоснования жанрового отличия «Агатона» как романа нового типа от предшествовавших ему эпических поэм исторического и религиозного содержания. Существование эпического идеала обусловлено его опорой на историю и традицию, на непререкаемое предание и непреложную веру в общезначимую истину. Когда вместо них источником художественного образа становится субъективный опыт автора, эпопея как воплощение абсолютных ценностей прекращает свое существование и заменяется романом, повествующим о заблуждениях и прозрениях индивида в отношении окружающей его действительности.
В «Истории Агатона» это имманентное романному жанру разграничение идеального и реального воплощается в противоречие между прекраснодушным просветительским идеалом и эгоистической прозой реальной жизни. Разрешить это противоречие, объединив гуманистический идеал Просвещения с трезвой критической оценкой действительности, — такова задача, которую ставит перед собой писатель в данном романе.
В
Транспонируя эпический идеал в реальную жизнь (символически осмысленную античность), автор «Агатона» отнюдь не предполагал опровергнуть просветительскую концепцию человека, он имел в виду всего лишь ее усовершенствование в свете психологических открытий своего времени. В предисловии к первому изданию романа Виланд формулирует свою цель следующим образом: «Характер героя должен быть подвергнут различным испытаниям, вследствие которых его добродетель и его образ мыслей приобретут настоящее благородство, избавившись от всего, что в них преувеличено и неистинно». В отличие от тех книг, в которых мудрость и добродетель демонстрируются «сами по себе», в «Агатоне» речь идет о том, чтобы показать, «насколько способен преуспеть в них смертный, подчиняющийся силам природы». Таким образом, воспитание Агатона было задумано Виландом как процесс очищения подлинной добродетели от лжеидеализма, как путь утверждения и упрочения просветительской этики в горниле реальной жизни. «В последний период своей жизни, рассказ о котором составит содержание заключительных книг нашего романа, Агатон явится человеком столь же мудрым, сколь и добродетельным», — обещает Виланд своим читателям после выхода в свет первой части романа.
Между тем целый ряд писем и высказываний свидетельствует о том, как много труда стоит Виланду стремление сохранить верность первоначальному идейному замыслу. Так, закончив изложение гедонистической морали софиста Гиппия, главного идейного противника добродетельного Агатона, Виланд пишет И. Г. Циммерману: «Диспут с Гиппием содержит слишком соблазнительные вещи. Его теология! Его мораль! Дай бог, чтобы все закончилось хорошо. После того, как Агатон пройдет через все испытания, которые ему еще уготованы, будет чрезвычайно трудно привести его к исходной точке». В ходе работы над последующими эпизодами романа эти сомнения не только не исчезают, но продолжают нарастать. Все больше убеждаясь в бесплодности дальнейших усилий, Виланд постепенно утрачивает интерес к своему любимому детищу, начинает воспринимать работу над ним как некую тяжкую необходимость, продиктованную обязательством перед своим другом и издателем С. Геснером. «Я взваливаю на себя тем больший груз, что это происходит против моего желания», — жалуется Виланд в письме Геснеру, извещая его о начале работы над второй частью романа.
Изданный в 1766-1767 гг. в Лейпциге роман сразу же подвергается строгому осуждению со стороны современной моралистической критики, справедливо расценившей идейную незавершенность «Агатона» как свидетельство колебаний автора в отношении коренного принципа просветительской этики. Рецензент «Всеобщей немецкой библиотеки» в
Вопреки заранее постулированной концепции «доброго человека», конечным пунктом идейно-нравственных исканий Агатона становится в романе сознание иллюзорности благородных побуждений и неосуществимости благородных намерений. Желая четко разграничить мир идеалов и мир иллюзий, Виланд вместе со своим героем приходит к трагическому сознанию их тождества, к мысли о неустранимости разрыва между идеальными представлениями субъекта и объективной действительностью.
Однако вывод об эгоистической природе реального человека лишен у Виланда категоричности, он как бы лишь допускается, выступая в качестве исходной точки для доказательства истины способом от противного; это не объективный факт, излагаемый от лица автора, а субъективное мнение отчаявшегося героя, свидетельство его душевного состояния в данный момент, результат зависимости этого состояния «от тысячи мелких обстоятельств».
Фиксируя изменчивость человеческого мнения, указывая на его зависимость от времени, возраста, условий, состояния души, общества, Виланд расценивает этот факт не только как доказательство иллюзорности сентиментального отношения к жизни, но и как свидетельство неправомерности обоснования истины с помощью ощущений. «Разве не может быть так, что чума поразит весь народ, но пощадит одного Сократа?» — возражает Агатон на излюбленный аргумент сенсуалиста. В. П. Неустроев пишет: «Агатон выведен противником не только идеального Платона, но и циника Гиппия. Объективно в такой «позиции» автора сказалось неприятие современных ему философских доктрин как идеалистического, так и вульгарно-материалистического свойства».
В идейной структуре романа сенсуалистическая концепция — не синтез, а антитезис, не истина о человеке, а только часть истины, которая, будучи выдана за целое, превращается в видимость, в софизм, имеющий целью оправдать безнравственность, утвердить этику утилитаризма. Обличая безнравственность софистической философии, Агатон рассуждает: «Если все, что диктуют мои ощущения, истинно само по себе, если распутные требования страсти под личиной полезного есть единственный движущий мотив наших поступков... то, что же помешает мне, при условии, что мне это выгодно, вонзить кинжал в грудь моего друга, ограбить храм, предать отечество или возглавить шайку разбойников, а при наличии достаточной власти и опустошать целые страны, топить в крови целые народы?».
Таким образом, если, с одной стороны, неприятие отвлеченности идеальной схемы побуждает писателя строить внутреннюю историю своего героя как цепь психологических реакций на те или иные внешние обстоятельства, то, с другой — непрочность сенсуалистического критерия истины и, что еще важнее, этическая несостоятельность сенсуализма пугают его, заставляя отстаивать право человека на независимость своей нравственности. Эта двойственность со всей очевидностью выступает в финале первой редакции «Агатона», где признание бессилия идеалиста в его попытках изменить дурную действительность противоречиво сочетается с утверждением идеальных представлений о мире. Эта как бы личная истина, стоически исповедуемая носителем врожденного нравственного чувства независимо от степени ее соответствия объективной реальности. Как остроумно замечает сам Виланд в предисловии к роману, развенчание системы Гиппия осуществляется в «Агатоне» тем же способом, какой использовал Диоген, когда в ответ на многочисленные аргументы метафизического философа, цветисто отрицавшего движение, он, не говоря ни слова, пошел от него прочь. «Впервые в XVIII в. мыслитель приходит к идее несводимости многообразия реального мира к единой норме, впервые выказано уважение к индивидуальному, — пишет современный немецкий исследователь X. Вольф, характеризуя философское значение «Истории Агатона».
Центральная идея романа — идея субъективности истины, ее одновременной неопровержимости и недоказуемости — справедливо расценивается поздним Виландом как известное предвосхищение кантовского дуализма. В
Дуализм виландовского мировоззрения, определяя характер решения философского конфликта, отчетливо сказывается в поэтике «Агатона».
Показательно, что лессинговская характеристика «Истории Агатона» в 69-й статье «Гамбургской драматургии» как «романа в классическом вкусе» немедленно вызывает протест со стороны ортодоксальных поборников классицизма. По словам рецензента «Немецкой библиотеки изящных наук», тот, кто, поверив оценке Лессинга, станет искать в «Истории Агатона» образец «классического совершенства», после прочтения романа неминуемо должен почувствовать себя «постыдно одураченным»: классичность «Агатона» — это неисполненное обещание, неосуществленное намерение, нереализованная возможность. Главная претензия критика — отсутствие в романе классической упорядоченности и правильности, неумение автора создать ровную, стройную композицию и добиться стилевого единообразия, его приверженность к «украшениям, чуждым как природе, так и древним». «Агатона» г-на Виланда можно сравнить с фигурой, написанной Рафаэлем, но изображенной в той позе, которую придал бы ей Калло», — пишет «Библиотека» Клотца.
Диссонансы в композиции и стиле романа рассматриваются при этом не как некая черта, органически присущая мировоззрению писателя, а только как случайный орнамент, который можно легко удалить, произвол и каприз автора, не желающего отказаться от красноречивых отступлений ради единства целого. Настойчиво советуя Виланду очистить роман от «досадных» отступлений, эстетическая критика 60-х годов, по существу, солидаризуется с критикой моралистической: именно в авторских отступлениях, обрамляющих, комментирующих, оценивающих собственно рассказываемое, одновременно создающих и разрушающих фикцию использования античного текста, возникает тот второй субъект повествования, наличие которого и обусловливает «предосудительную», с точки зрения ортодоксального просветителя, двойственность этического смысла. Приветствуя виландовский план создания образа реального человека, первые рецензенты «Агатона» еще не сознают, что осуществление этого плана неизбежно ведет к пересмотру идеалистической этики и разрушению эстетических законов классицизма.
Характерной чертой полемики, которую критика ведет против лессинговского тезиса о классическом достоинстве «Агатона», является абсолютное игнорирование его жанровой специфики. В отличие от Лессинга, включающего «Агатона» в широкую перспективу развития европейского романа, большинство критиков того времени строит свою оценку на основе классицистической дискриминации романного жанра. Требование целостности, предъявляемое ими «Агатону», означает, что роман, еще не признанный эстетикой в качестве самостоятельного поэтического жанра, оценивается так, как если бы речь шла об эпопее или трагедии.
Между тем неклассичность «Агатона» теснейшим образом связана с его жанром. Именно в романе, с присущей ему субъективностью и многозначностью изображения, установка на создание целостного и внутренне завершенного образа, в которой выражалась классичность нероманных жанров, становится принципиально неосуществимой. Строящийся в «зоне максимально близкого контакта с настоящим в его незавершенности», романный образ, по существу, неисчерпаем и открыт для последующих изменений.
Естественное завершение романа воспитания — создание гармонической личности, воплощающей в себе конечное знание о жизни, — есть заведомая утопия. В. Кайзер в книге «Возникновение и кризис современного романа» пишет: «Поскольку любой контакт с миром должен способствовать здесь гармоническому построению, такой тип романа легко приобретает черты искусственности».
В «Истории Агатона» проблема немотивированности, неорганичности счастливого конца становится предметом специального обсуждения. Виланд понимает, что изъять героя из обстоятельств реальной жизни и переселить его в некое идеальное государство, где развенчанный Дон-Кихот получает шанс совершить как бы обратное превращение в героя добродетели, значит искусственно нарушить логику развития характера, «не развязать, а разрубить узел». И он иронически сравнивает фиктивного автора «Агатона» с персонажем гривуазной французской сказки, который спасает честь своей дамы, выбрасываясь из окна ее спальни. В романе функцию оправдания авторской непоследовательности выполняет специальная глава «Апология греческого автора», предваряющая эпизод в Таренте. Двусмысленность апологии заключается в том, что оправдание утопии добросердечием и чувствительностью фиктивного повествователя лишь подтверждает неоспоримость сенсуалистической концепции человека, невозможность возрождения эпической целостности на основании опыта — в условиях нового жанра.
Однако обращение к неклассической форме романа еще не сопровождается у Виланда сознательным теоретическим разрывом с поэтикой классицизма. Несмотря на чрезвычайно резкие насмешки над скудоумием критиков «Агатона», Виланд, по существу, разделяет их неудовлетворенность романом, принимая специфику нового жанра за личную неудачу, обусловленную недостатком поэтического мастерства. И в теоретических главах «Агатона», и в высказываниях Виланда конца 60-х годов явственно звучит искреннее раскаяние в неспособности сообразовать форму романа с классицистической нормой, «достойно увенчать достойно начатое». Для романа остается действительным то требование, которое Виланд стремился выполнить в период создания эпической поэмы «Кир»: «Самое трудное, что предстоит сделать, это добиться единства и гармонии в звучании целого».
Устойчивой формулой разочарования писателя в близости своего произведения классицизму становится аллюзия на «Послание к Писонам» Горация: «Amphora coepit, Institui currente rota cur urcens exit» (Ты работал амфору, И вертел ты, вертел колесо, а сработалась кружка). Процитированная впервые в финале «Агатона»,
Поздний Виланд, переводчик и комментатор Горация, пишет о том, что отсутствие целостности есть «существеннейшая ошибка, которую может иметь поэтическое создание», что бездарные поэты отличаются от гениев прежде всего тем, что они «не там начинают и не там кончают», «не могут создать целого», не понимая, что «счастливый или печальный конец истории определяется не произволом автора, а той или иной установкой, содержащейся в самом произведении». В этих высказываниях ясно обнаруживается опыт автора «Истории Агатона».
Неумение Виланда преодолеть двойственность и разорванность сознания, препятствующие воплощению идейного замысла «Агатона», заставляет его делать многочисленные перерывы в работе над романом, откладывать свое главное произведение в сторону ради других сочинений, не претендующих на создание положительной философии. Поиски путей примирения идеального и реального неоднократно прерываются Виландом для того, чтобы превратить двойственность в закон своего творчества. Гёте, хорошо понимавший истоки и значение этой двойственности, писал, подводя итог эволюции идейно-эстетических взглядов Виланда в 60-е годы: «Он находит себя в тисках между мыслимым и действительным, и, призывая преодолеть или примирить это противоречие, сам он вынужден искать опору только в себе и, желая быть справедливым, становится многосторонним».
Л-ра: Филологические науки. – 1978. – № 4. – С. 69-75.
Произведения
Критика